Реймерс Н.Ф. Экология - теории, законы, правила принципы и гипотезы
Подождите немного. Документ загружается.

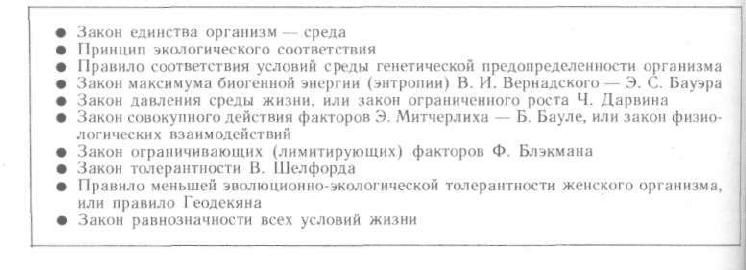
определенному температурному режиму и так далее. Существует большо»
число правил адаптации к тем или другим условиям жизни. Отметил
энергетическое правило поверхностей: отношение продуцируемого особьк
гомойотермного животного тепла к единице площади поверхности ее тел;
приблизительно одинаково. Оно колеблется около величины i
1000 ккал/м
2
/сутки. Относительная теплоотдача у всех организмов рас
тет с их измельчанием, что следует из того, что масса тела пропорцио
нальна кубу, а поверхность лишь квадрату его диаметра (объема). Пра
вило поверхностей явно перекликается с правилом Бергмана (разд. 3.7)
и служит основой для его проявления.
Эколого-организменные закономерности, будь то связанные с разви
тием биосистем или с их адаптацией к среде жизни, теснейшим образог
неотрывно увязаны с группой выявленных правил взаимодействия
системах организм — среда. Разделение групп этих закономерностей
чисто условно, впрочем, как и всех других совокупностей обобщений. Мно
гие из них с одинаковым успехом и логичностью могут быть включень
в любую из групп, вычленяемую нами. Все зависит от угла зрения и целей
анализа.
3.5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМ — СРЕДА
Взаимоотношения организмов с их «обезличенной» средой обитания
подчиняются ряду закономерностей, которые могут быть условно класси-
фицированы на две группы: общую и частную. Последняя группа в свою
очередь распадается на серию закономерностей, связанных с внешним
воздействием, и, наоборот, очерчивающих внутренние реакции организма
на эти влияния. Поскольку организмы — лишь частный случай глобальной
совокупности системного мира, для них справедливы и все постулаты,
сформулированные в разделе «Система — среда» (3.2.5). Ниже подчеркну-
та лишь специфичность биологических образований.
3.5.1. Общие законы функционирования системы
организм — среда
Наиболее общее философское обобщение в этой группе закономер-|
ностей — утверждение о тесном взаимодействии, диалектическом един-|
стве организмов и их среды обитания. Последняя определяет возмож!
ность существования жизни и ее отдельных проявлений, но активным!
началом взаимодействия служит живое как создающая сила. Это обоб!
72
ч
щение, в наиболее ясной форме сформулированное В. И. Вернадским,
получило название закона единства организм — среда: жизнь развива-
ется в результате постоянного обмена веществом и информацией на базе
потока энергии в совокупном единстве среды и населяющих ее организ-
мов. Связано это с активностью всех биосистем. А поскольку отношения
организма и его среды системны, действует принцип экологического соот-
ветствия: форма существования организма всегда соответствует условиям
его жизни. Если рассматривать эту закономерность не отвлеченно-фило-
софски, а конкретно-биологически, то формулируется правило соответ-
ствия условий среды жизни генетической предопределенности организма:
вид организмов может существовать до тех пор и постольку, посколь-
ку окружающая его среда соответствует генетическим возможностям при-
способления этого вида к ее колебаниям и изменениям.
Согласно правилу максимального давления жизни (разд. 3.4.1) и био-
геохимическим принципам В. И. Вернадского (разд. 3.3), биологические
компоненты системы организм — среда все время увеличивают давление
на среду своего обитания, стремясь к экологической экспансии и в то же
время приспосабливаясь к меняющимся условиям жизни. Эти условия
изменяет и сама биосистема, образуя биосреду собственного существо-
вания. Это свойство биосистем сформулировано в виде закона максимума
биогенной энергии (энтропии) В. И. Вернадского — Э. С. Бауэра: любая
биологическая или биокосная (с участием живого) система, находясь в
подвижном (динамическом) равновесии с окружающей ее средой и эволю-
ционно развиваясь, увеличивает свое воздействие на среду. Давление
растет до тех пор, пока не будет строго ограничено внешними факторами
(надсистемами или другими конкурентными системами того же уровня
иерархии), либо не наступит эволюционно-экологическая катастрофа) Она
может состоять в том, что экосистема, следуя за изменением более высо-
кой надсистемы как более лабильное образование, уже изменилась, а
вид, подчиняясь генетическому консерватизму, остается неизменным.
Это приводит к длинному ряду противоречий, ведущих к аномальному
явлению: разрушению видом собственной среды обитания (не срабаты-
вает обратная связь, регулирующая деятельность вида в составе эко-
системы, а отчасти разлаживаются и популяционные механизмы).; В этом
случае биосистема разрушается: вид вымирает, биоценоз подвергается
деструкции и качественно меняется/)
Максимальному давлению жизни, максимизации биогенной энергии
(энтропии) противостоит действие закона давления среды жизни, или
закона ограниченного роста Ч. Дарвина, который гласит, что хотя не
существует исключений из правила, что потомство одной пары особей,
размножаясь в геометрической прогрессии, стремится заполнить весь
земной шар, имеются ограничения, не допускающие этого явления. Эти
ограничивающие силы определенным образом упорядочены, что позволило
сформулировать довольно большое количество формализованных правил,
принципов и законов.
Наиболее общее значение, очевидно, имеет закон совокупного (совмест-
ного) действия факторов: взаимосвязь экологических факторов и их вза-
имное усиление и ослабление определяют их воздействие на организм и
успешность его жизни. При этом важны не только воздействия извне, но
и физиологическое состояние организма. Иногда закон совокупного дей-
ствия факторов называют законом физиологических взаимодействий.
.Обычно этот закон связывают с урожаем сельскохозяйственных культур,
поскольку он был сформулирован в 1909 г. немецким агрохимиком и фи-
зиологом растений Э. А. Митчерлихом под названием «закона эффектив-
73

ности факторов» в приложении к сельскохозяйственным культурам. Б. Б
уле назвал этот закон «законом совокупного действия», а А. Тинеман д
полнил и развил. Закон носит имена этих исследователей.
Совокупность факторов воздействует сильнее всего на те фазы разв!
тия организмов, которые имеют наименьшую экологическую валентность-
минимальную способность к приспособлению.
В совокупном давлении среды выделяются факторы, которые сильна
всего ограничивают успешность жизни организма. В наиболее общем вил
эту закономерность формулирует закон ограничивающих (лимитирующих
факторов, установленный Ф. Блэкманом в 1909 г., и более известные
хотя и позднее опубликованный (1913 г.) закон толерантности В. Шел
форда, к тому же несколько более узко сформулированный. Формули
ровка закона ограничивающих (лимитирующих) факторов такова: факто
ры среды, имеющие в конкретных условиях пессимальное значение, осо
бенно затрудняют (ограничивают) возможность существования вида Е
данных условиях, вопреки и несмотря на оптимальное сочетание других
отдельных условий'. Закон толерантности очень близок к названному:
лимитирующим фактором процветания организма (вида) может быть как
минимум, так и максимум экологического воздействия, диапазон между
которыми определяет величину выносливости (толерантности) организма
к данному фактору.
Выносливость организмов зависит от их возраста и пола. Это значимо]
в текущей жизни и в процессе эволюции: женский организм более чуток
к факторам среды в ходе эволюции вида, чем мужской (а мужской — I
к индивидуальным факторам воздействия). Эта закономерность известна!
как правило Геодекяна, или правило меньшей эволюционно-экологической
толерантности женского организма.
Перечисленные закономерности расширили и уточнили законы мини-1
мума Ю. Либиха (разд. 3.5.2), которые были при всей своей справед-|
ливости несколько механистичны и отдавали приоритет лишь факторам,!
находившимся в минимуме (Ю. Либих рисовал бочку с дырами, показы-1
вая, что нижняя дыра в бочке определяет уровень жидкости в ней). При!
дефиците чего-то именно этот недостаток определяет успешность жизни!
Однако в целом, поскольку любой фактор может оказаться в минимуме,!
лишь их оптимальная совокупность обеспечивает процветание. Этот факт-
сформулирован в виде закона равнозначности всех условий жизни: все!
условия среды, необходимые для жизни, играют равнозначную роль. В пет
речень этих условий для людей входят факторы как природной, так и со-
циальной среды.
3.5.2. Частные закономерности в системе
организм — среда
Только что упомянутые законы минимума Ю. Либиха, безусловно,,
лежат в основе всех выявленных частных закономерностей во взаимо?
отношениях типа организм — среда. В простейшем виде основной закоД
минимума Ю. Либиха касается успешности роста и величины урожая
сельскохозяйственного растения, зависящих от вещества, находящегося
в почве в минимуме по сравнению с другими агрохимически необходим
— I
В «Экологическом энциклопедическом словаре» И. И. Дедю особо выделен закоИ
критических величин фактора, практически совпадающий с двумя упомянутыми в эм*
абзаце.
74
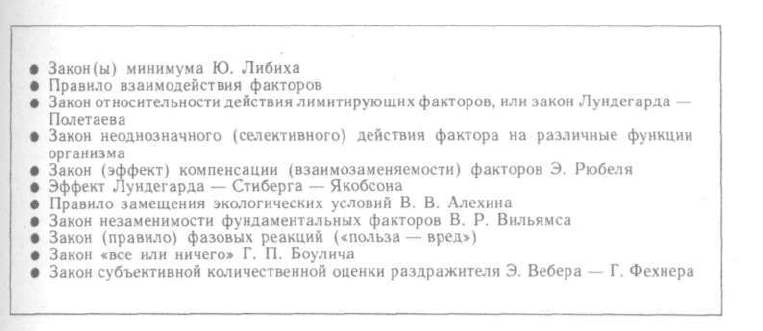
мыми веществами. Этот закон был сформулирован в 1840 г. задолго до
возникновения экологии как таковой. Позже закон минимума был истол-
кован как действие любого экологического фактора, находящегося в ми-
нимуме по сравнению с другими экологическими воздействиями. Иногда
закон минимума расширяют до правила, указывающего на роль экологи-
ческих факторов в распространении и количественном развитии орга-
низмов. Это внешние условия. Но возможна трактовка закона минимума
и «со стороны» организма: его выносливость определяется самым слабым
звеном в цепи его экологических потребностей — жизненные возмож-
ности лимитируются экологическими факторами, количество и качество
которых близко к необходимому организму минимуму. Дальнейшее сни-
жение или ухудшение этих факторов ведет организм к гибели. Это «крае-
вая» трактовка закона минимума, довольно далеко уклоняющаяся от пер-
воначального его смысла, но имеющая более широкое экологическое зна-
чение.
Дополнительное правило взаимодействия факторов в законе минимума:
организм в определенной мере способен заменить дефицитное вещество или
другой действующий фактор жизни функционально близким веществом
или фактором (например, одно вещество другим, химически близким) —
вызвало поток аналогичных постулатов. Среди них закон относительности
действия лимитирующих факторов, или закон Лундегарда — Полетаева:
форма кривой роста численности популяции (ее биомассы) зависит не
только от одного вещества с минимальной концентрацией, а от концентра-
ции и свойств других ионов, имеющихся в среде. Они как лимитирующие
факторы составляют «системы Либиха» или «L-систему» (такое обозна-
чение введено, по Дедю, вторым автором закона в 1973 г., а закон сформу-
лирован Лундегардом в 1957 г.). Важной поправкой и дополнением слу-
жит закон неоднозначного (селективного) действия фактора на различ-
ные функции организма: любой экологический фактор неодинаково влияет
на функции организма, оптимум для одних процессов, например, ды-
хания, не есть оптимум для других, например, пищеварения, и нао-
борот.
Дополнительное правило замещения дефицитных веществ закона ми-
нимума Ю. Либиха было углублено Э. Рюбелем в 1930 г. в виде закона
(эффекта) компенсации (взаимозаменяемости) факторов: отсутствие или
недостаток некоторых экологических факторов может быть компенсирован
другим близким (аналогичным) фактором. Например, недостаток света
может быть компенсирован для растения обилием углекислого газа. Част-
ным случаем закона относительности действия лимитирующих факторов
75
исследования жизни в этих сферах практически не проводилось. Это очень
досадное упущение, так как антропогенное загрязнение атмосферы и под-
земного пространства, безусловно, уже изменило состояние жизни в этих
сферах.
Внутренняя структура жизни в лито- и аэробиосфере при ее разрежен-
ности может показаться несущественной. Едва ли это верно. Жизнь в
атмосфере, по всей вероятности, тесно связана с наземной, в частности,
с распространением некоторых бактериальных и вирусных болезней. В зем-
ных глубинах, куда проникают стоки с поверхности земли (к тому же
жидкие токсичные отходы специально закачивают, а твердые, в том числе
радиоактивные — хоронят в глубинах литосферы), также должны про-
исходить явления, не могущие не влиять на наземную жизнь, поскольку
воды рек и отчасти озер рождаются в недрах планеты. Сколь активен
обмен водами между поверхностью суши и ее недрами, пока не слишком
ясно. Имеются ли биотические связи между организмами, живущими под
землей, и хотя бы гидробионтами, населяющими грунты побережий
водоемов, тоже очень мало известно. В какой-то степени, видимо, да, но
в какой — неясно. Гидрогеобиология, или стигобиология (наука об орга-
низмах подземных вод — стигобионтах) пока окончательно не сформиро-
валась как самостоятельная дисциплина и мало что может сказать об
этих процессах. Стигобиология и стигобионты даже не упомянуты в
Биологическом энциклопедическом словаре (М.: Сов. энциклопедия,
1986
1
). Тут есть широкое поле для будущей деятельности биологов и эко-
логов и очевидное сосредоточение потенциальных проблем.
Гидробиология — очень развитая наука. Но с точки зрения учения
о биосфере ее ахиллесова пята — расчленение на почти не смыкающиеся
друг с другом разделы, изучающие планктон и бентос, другие подразде-
ления водного биоса, порой еще более дробные
:
— фитопланктон, зо-
опланктон, микропланктон, пикопланктон... Общего представления о
жизни вод не создает даже общая гидробиология. К сожалению, в явно
трехмерном водном пространстве гидробиологическая наука оперирует
главным образом двумерным научным инструментарием — картами,
профилями и тому подобным, не создавая натурные объемные модели.
В результате пока очень трудно уловить взаимосвязь между водными
экосистемами, построить их иерархию. Положение осложняется еще и тем,
что поверхностные и глубинные экосистемы не обязательно связаны по
точной вертикали. Скорее наоборот, они могут быть пространственно (а,
следовательно, картографически) удалены друг от друга и функционально
связаны течениями, переносом биогенов и тому подобными зависимостями.
Построение функциональной объемной модели океанобиосферы, видимо,
дело ближайшего будущего.
Поскольку та же проблема характерна и для литобиосферы, где должны
наблюдаться как вертикальные, так и горизонтальные переносы вещества,
а, более того, для выявления взаимоотношений между подсферами биосфе-
ры, где перенос идет во всех возможных направлениях, такую модель сле-
дует рассмотреть хотя бы в чисто умозрительно-теоретическом плане. Для
краткости и наглядности возможные варианты переносов изображены на
рис. 2.2, где как горизонтальный, так и вертикальный масштаб условен.
Стрелками от точки / показаны вероятные пути миграции веществ из
атмосферы и в ее пределы. Такие же стрелки от точки 2 и 2а символизируют
1
В отечественной литературе о стигобионтах и вообще жизни подземных вод можно
прочесть в «Экологических очерках о природе и о человеке» под редакцией Б. Гржимека
(М.: Прогресс, 1988. С. 354—364).
29
Лундегарда — Полетаева и закона компенсации факторов Рюбеля служи
эффект Лундегарда — Стиберга — Якобсона: увеличение биомассы расте
ния при постоянном или даже пониженном содержании какого-либо пи
тательного элемента.
В. В. Алехин сформулировал близкое к изложенным правило замеще
ния экологических условий: любое условие внешней среды в некоторо
степени может замещаться другим; внутренние причины экологичес
ких явлений при аналогичном внешнем проявлении могут быть различ
ными.
Например, макроклиматические воздействия могут быть компенсиро
ваны биоклиматическими — вечнозеленые виды растут под защитой верх
них ярусов растительности, многие виды животных находят микроуслови!
для существования. Это не агрохимическая и гидробиологическая, а ши
рокоэкологическая и даже биогеографическая трактовка дополнительной
правила закона минимума Ю. Либиха.
Стремлению сузить сферу действия закона минимума противостой'
закон незаменимости фундаментальных факторов, связываемый с име
нем В. Р. Вильямса. В 1949 г. он жестко сформулировал ограничение
полное отсутствие в среде фундаментальных экологических (физиологи
ческих) факторов (света, воды, биогенов и т. п.) не может быть заменен!
другими факторами. Совершенно очевидно, что любой из экологически;
компонентов до конца не может быть заменен — при отсутствии энергш
нет жизни, то же при полном безводье и так далее. Для элементарны;
потребностей это очевидно, но в более сложных ситуациях, особенно когд;
речь идет о фундаментальных, но не столь известных и осознанных факто
pax, например, в системе потребностей человека (см. главу 7), така!
очевидность исчезает. Это ведет к ошибкам, иногда роковым.
Пока речь шла об общем длительном воздействии на организмы. К это!
группе примыкает несколько отличное от других правило или закон фа-
зовых реакций («польза —вред»): малые концентрации токсиканта дей-
ствуют на организм в направлении усиления его функций (их стимули-
рования), тогда как более высокие концентрации угнетают или даже
приводят его к смерти. Эта токсикологическая закономерность справед-
лива для многих, но не для всех ядовитых веществ и особенно спорна для
малых доз радиации. Благоприятное воздействие малых доз вредных эко-
логических факторов называют гормезисом. Радиационное воздейст-
вие пороговых, малых и даже запороговых доз пока однозначно не из-
вестно.
Есть сведения, что пагубно воздействуют на человека даже запорого-
вые дозы радиации, характерные для естественного фона. Однако есть и
противоположное мнение. Общее число исследований и публикаций на эту
тему достигло многих тысяч, но вопрос остается открытым. Ясно лишь, что
нет линейной закономерности в ряду доза—эффект, а величина генетичес-
кого риска на единицу радиоактивной дозы в первых двух поколениях со-1
ставляет примерно 1/3 от величины канцерогенного риска для облученных
индивидуумов
1
. Статистика исследований такова: в 135 публикациях
утверждается, что плодовитость млекопитающих (особенно мышей и крыс)1
повышалась на 15—100% при облучении 0,1 —1,5 Гр, а длительность ил
жизни увеличивалась при 0,2—200 мГр/сут; вредное же действие наблю-1
'Barnaby F. The controversy over low-level radiation//AMBIO. 1980. 9. № •
P. 74—80.
76
•
далось лишь при 1—2 Гр
1
. В то же время существует немало публикаций,
в которых утверждается, что добавление к естественной радиации всего
лишь нескольких процентов от ее величины может привести к потоку
мутаций. Так, в результате Чернобыльской катастрофы якобы могут
заболеть раком до 1 млн. человек вне зараженной зоны, а общий леталь-
ный эффект аварии в цепи поколений может достигнуть 20 млн. человек.
Повышенная сексуальность мужчин при слабом облучении известна, как
и известна их половая слабость, наступающая впоследствии. Увеличение
плодовитости может быть и сигналом биологического неблагополучия.
Теоретически вывод биологических систем из состояния равновесия с по-
мощью слабых доз токсикантов не может идти на пользу. Закон фазовых
реакций следует учитывать и применять для лечения, когда иного более
оптимального выхода нет, но в ряду поколений малые дозы токсикантов
нельзя считать благом.
Особенно это важно учитывать в свете закона «все или ничего»: под-
пороговые раздражения не вызывают нервного импульса («ничего»), а
пороговые стимулы или суммирование подпороговых воздействий создает
условия для формирования максимального ответа («все»), или в обще-
системном смысле — слабые воздействия могут не вызвать у природной
системы ответных реакций до тех пор, пока, накопившись, они не приведут
к развитию бурного динамического процесса. При этом между воздей-
ствиями нет линейной пропорциональности, и могут интегрироваться раз-
личные факторы (температура и влажность, радиация и нервный стресс
и т. п.). Закон «все или ничего» был сформулирован американским физи-
ологом Г. (X.) П. Боуличем в 1871 г., однако до сих пор очень слабо
изучен в его действии вне нервной системы. Между тем на нем базируется
концепция пороговых значений системных воздействий. Наличие порогов
несомненно, но и континуум нарастания воздействия очевиден. Это общее
свойство систем — их прерывистость и непрерывность. Споры сторонни-
ков концепции пороговости и беспороговости бессмыслены. Все зависит от
начальных условий и индивидуальных реакций. Успокоительная статис-
тика для пораженного болезнью мало утешительна, общественно более
приемлема концепция разумного риска (разд. 3.15).
Хотя слабые раздражения по принципу «ничего» не воспринимаются,
чем сильнее раздражитель, тем труднее субъективно оценить его коли-
чественно; это положение называют законом субъективной количествен-
ной оценки раздражителя Э. Вебера — Г. Фехнера. Чем контрастней фон,
тем легче улавливаются и оцениваются раздражения при их слабости,
но сильные источники раздражения уже могут не давать эффекта разницы
в восприятии. Закон определяет достаточность развития какого-то при-
знака (яркости окраски самцов в половом отборе и т. п.). Видимо, в теории
информации при приложении ее к биосистемам и экологии имеются зна-
чительные пробелы в знании действия этого закона. Тут есть большое
поле для будущих исследований. Пока эмпирических данных под углом
зрения обсуждаемого обобщения практически нет. Во всяком случае, они
мне не известны.
Теоретико-экологическое значение группы лимитирующих закономер-
ностей очень высоко в связи с тем, что именно отсутствие превентивных
лимитов в использовании природных ресурсов и изменении естественных
условий жизни поставило человечество перед угрозой экологического
'Wachsmann F. Sind kline Strahendosen wirklich so detahrlich? Ein Bericht
fiber Beobachtungen, die in der Fachwelt diskuiert werden//Atomwirt.-Atomtechn. 1986. 31.
№> 10. P. 499—502.
77
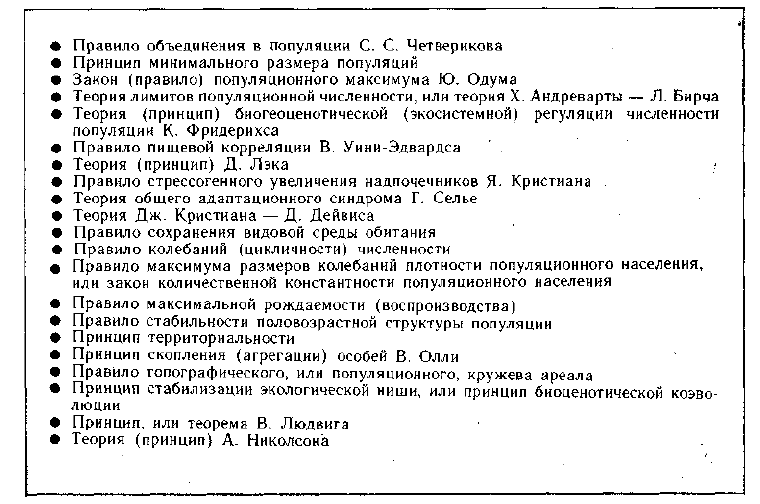
•
краха, втянув в затяжной экологический кризис. В этом разделе были
обсуждены природные закономерности, выявленные уже достаточно давно.
Подобные обобщения в приложении к человеческому обществу, особенно
не на индивидуальном, а системно-коллективном уровне, начали делать
сравнительно недавно. Мы к ним вернемся в последних разделах этой
главы.
3.6. ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ
Число сформулированных биоэкологами популяционных закономер-
ностей очень высоко — до 20, а быть может, значительно больше
1
. Это
понятно — все живые существа так или иначе входят в популяционные
объединения. Если эти объединения рассматривать не только как функци-
ональные, но и пространственные образования, т. е. биогеографически,
то, пожалуй, число закономерностей возрастет еще больше. Поэтому есть
смысл разделить собственно популяционные и биогеографические обобще-
ния.
Кроме того, часть закономерностей, обычно относимых к популяци-
онным, рассмотрены в разделе о функционировании сообществ (3.8) или
освещены ранее (разд. 3.4) при разборе эколого-организменных взаимо-
связей (например, принцип внезапного усиления патогенности) и взаимо-
действий в системах организм — среда (разд. 3.5). Вообще разделение
подобных групп закономерностей весьма условно: популяция состоит из
особей и не существует изолированно от среды; то же утверждение отно-
сится к любым другим образованиям с участием живого.
Вероятно, наиболее общим правилом является то, что индивиды
любого вида живого всегда представлены не изолированными отдельно-
1
Многие из них так или иначе затронуты в книге: А. М. Гиляров. Популяционная
экология. М.: Изд-во МГУ, 1990. 191 с.
стями, а их определенным образом организованными совокупностями.
Это правило получило имя С. С. Четверикова, сформулировавшего его в
1903 г. Его можно назвать правилом объединения в популяции. В связи
с тем, что любая популяция обладает строго определенной генетической,
фенотипической, половозрастной и другой структурой, она не может состо-
ять из меньшего числа индивидов, чем необходимо для обеспечения ста-
бильной реализации этой структуры и устойчивости популяции к факторам
внешней среды. Именно в этом состоит принцип минимального размера
популяций. Такой размер не есть константа для любых видов, он строго
специфичен для каждой популяции. Выход за пределы минимума чреват
для популяции гибелью: она уже не будет в состоянии самовозобновиться.
Однако ее возможно восстановить искусственно, поскольку каждый инди-
вид содержит в себе хотя и обедненное, но все же весьма значительное
число генетических задатков вида, к которому он принадлежит.
Естественно предположить, что если есть минимум, то возможен и
максимум. Это предположение помимо логической посылки основывается
на соотношении законов максимума биогенной энергии и давления среды,
упомянутых в разд. 3.5.1. Ю. Одум формулирует закон как правило попу-
ляционного максимума в следующих словах : «Они (популяции — Н. Р.)
эволюционируют так, что регуляция их плотности (населения — Н. Р.)
осуществляется на значительно более низкой по сравнению с верхней асим-
птотой^ емкости местообитания, достигаемой лишь в том случае, если
полностью используются ресурсы энергии и пространства». Этому утвер-
ждению предпосылается фраза: «В 60-е годы получены данные, показы-
вающие, что дело вовсе не в тенденции популяций избегать гибельных
отклонений в обе стороны от уровней насыщения». Высказывание несколь-
ко странное, поскольку речь идет именно о саморегуляции численности по-
пуляции, вернее, плотности ее населения. Общая же абсолютная числен-
ность особей популяции ограничена произведением максимума плотно-
сти населения на жизнепригодную для популяции площадь обитания с
учетом разницы в местообитаниях. Ю. Одум на той же странице приводит
данные В. Уини — Эдвардса (1962 и 1965 гг.) о двух механизмах, управ-
ляющих системой превентивного самоограничения плотности населения:
1) территориальном поведении особей и их малых групп как форме внутри-
видовой конкуренции и 2) групповом поведении как сбалансированности
противоположных форм активности (конкуренция и кооперация, агрес-
сивность и подчинение при этологической иерархии и т. п.). О межвидо-
вых отношениях в процессе генетической обратной связи в популяциях
лишь упоминается со ссылкой на работы Д. Пиментела.
Правило популяционного максимума конкретизируют два обобщения.
Первое из них известно как теория лимитов популяционной численности,
или теория X. Г. Андреварты — Л. К- Бирча (1954): численность естест-
венных популяций ограничена истощением пищевых ресурсов и условий
размножения, недоступностью этих ресурсов и слишком коротким перио-
дом ускорения роста популяции. Второе обобщение дополняет первое.
Оно носит название теории биоценотической регуляции численности попу-
ляции К. Фридерихса (1927): регуляция численности популяции есть ре-
зультат комплекса воздействий абиотической и биотической среды в место-
обитании вида. Совершенно очевидно — теория К- Фридерихса объясняет,
1
Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975. С. 255.
2
Асимптота — прямая линия, к которой неограниченно близко стремятся точки неко-
торой кривой по мере того, как эти точки удаляются в бесконечность; асимптотический —
неограниченно приближающийся.
79
что лимитирует и формирует потенцию роста численности популяции
заложенную генетически. Однако, как известно, бывают взрывы рост;
численности популяций — сбои в регуляторных системах самоограниченш
и внешних ограничений популяционного роста.
Несколько уже, чем у Ю. Одума и в упомянутых теориях, подход v
взаимосвязи популяции и среды ее обитания у В. Уини-Эдвардса (в ряд(
случаев пишут Вини-Эдвардс), который сформулировал правило пи-
щевой корреляции: в ходе эволюции сохраняются только те популяции,
скорость размножения которых скоррелирована с количеством пищевых
ресурсов среды их обитания. Важно подчеркнуть, что скорость размно-
жения в норме всегда ниже максимально возможной, и постоянно
остается запас пищевых ресурсов. Очевидно, что размер видового насе-
ления в ходе эволюции должен быть ограничен не текущими пищевыми
возможностями, а их минимумом, возникающим или могущим возник-
нуть в течение достаточно большого ряда лет. В противном случае попу-
ляция столкнется с резким недостатком пищи и в значительной своей
части вымрет как под воздействием прямого недостатка кормовых объек-
тов, так и в результате межвидовой конкуренции, осложняемой биоцено-
тическими регулирующими механизмами в целом (к этому вопросу мы еще
вернемся в конце параграфа при обсуждении принципа стабилизации эко-
логических ниш). Для того чтобы избежать подобной коллизии, и была
эволюционно выработана преадаптация более низкой плотности населе-
ния популяции, чем допускают наличные кормовые возможности.
Конечно, при обсуждении проблем саморегуляции ограничивать дей-
ствие регулирующих факторов среды одними лишь условиями питания j
нельзя. Следует говорить о емкости среды в целом, как это сделал Ю. Одум. I
Однако кормовые возможности играют одну из ведущих ролей и прежде j
всего бросаются в глаза. Их легче рассчитать математически.
Несколько шире ставит вопрос Д. Лэк, сформулировавший в 1954 г. I
принцип, или теорию, носящую его имя, теория, или принцип Лэка: сред- f
нее количество яиц, откладываемых птицами, эволюционно ограничено воз-1
можностями выращивания выведшихся из них птенцов. Очевидно, этот!
лимит связан с комплексом условий: интенсивностью обмена веществ,!
длиной дня, наличием пищи, ее близостью и т. д. В основе, безусловно,»
лежит энергетика системы — она отработана эволюцией вида в конкрет-1
ных условиях его обитания
1
. Энергетическая расточительность в природе!
слишком большая роскошь, хотя бывают и исключения.
Хорошо известно, что в ряде случаев происходят массовые размно-1
жения организмов, не предотвращаемые ни внутрипопуляционными, ни |
межвидовыми механизмами. При этом не срабатывает система эволюцион-i
ной взаимосвязи: плотность населения животных как. фактор отбора для!
растений — изменение генетической конституции растений, а также обрат-1
ная связь: генетическая конституция растений — плотность населения!
животных. К тому же популяционные механизмы саморегуляции в мире!
животных никак нельзя переносить на популяции растений. У последних!
нет ни территориального, ни группового поведения, аналогичного тому,ж
что существует у животных. При переходе к человеческому обществу при-1'
ходится констатировать, что биологическая превентивная саморегуляция!
численности у него, как правило, отсутствует, а социально тысячелетиями?
доминировало стремление «плодитесь и размножайтесь»
2
. Иначе бы в!
' В более обобщенном виде вопрос о репродуктивных ограничениях сформулирован
в виде правила максимальной рождаемости (воспроизводства) — см. ниже этот же раздел,
2
Некоторые культуры исторически выработали механизмы самоограничения, например,I
тибетцы. Был широко распространен инфантицид, особенно девочек. У северных народов^
80
