Ямпольский М. Физиология символического. Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима
Подождите немного. Документ загружается.

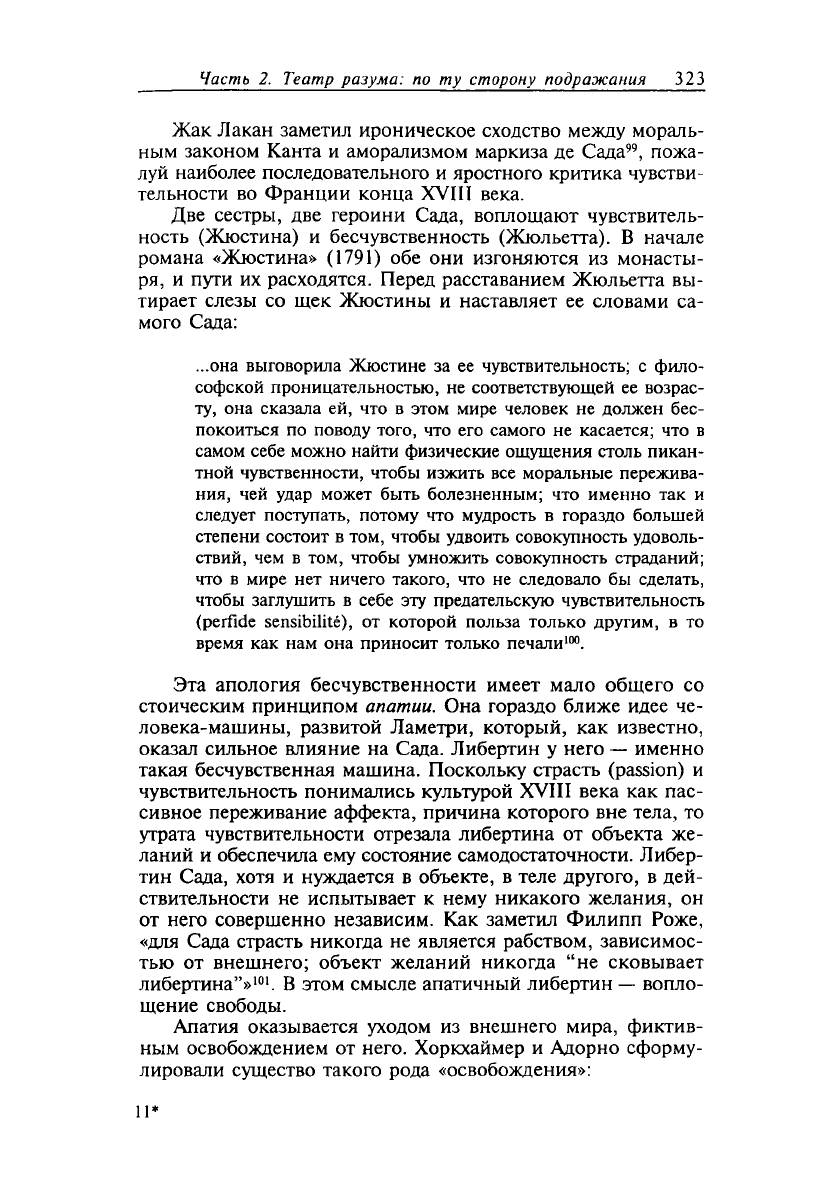
Часть 2. Театр разума: по ту сторону подражания 323
Жак Лакан заметил ироническое сходство между мораль-
ным законом Канта и аморализмом маркиза де Сада", пожа-
луй наиболее последовательного и яростного критика чувстви-
тельности во Франции конца XVIII века.
Две сестры, две героини Сада, воплощают чувствитель-
ность (Жюстина) и бесчувственность (Жюльетта). В начале
романа «Жюстина» (1791) обе они изгоняются из монасты-
ря, и пути их расходятся. Перед расставанием Жюльетта вы-
тирает слезы со щек Жюстины и наставляет ее словами са-
мого Сада:
...она выговорила Жюстине за ее чувствительность; с фило-
софской проницательностью, не соответствующей ее возрас-
ту, она сказала ей, что в этом мире человек не должен бес-
покоиться по поводу того, что его самого не касается; что в
самом себе можно найти физические ощущения столь пикан-
тной чувственности, чтобы изжить все моральные пережива-
ния, чей удар может быть болезненным; что именно так и
следует поступать, потому что мудрость в гораздо большей
степени состоит в том, чтобы удвоить совокупность удоволь-
ствий, чем в том, чтобы умножить совокупность страданий;
что в мире нет ничего такого, что не следовало бы сделать,
чтобы заглушить в себе эту предательскую чувствительность
(perfide sensibilite), от которой польза только другим, в то
время как нам она приносит только печали
100
.
Эта апология бесчувственности имеет мало общего со
стоическим принципом апатии. Она гораздо ближе идее че-
ловека-машины, развитой Ламетри, который, как известно,
оказал сильное влияние на Сада. Либертин у него — именно
такая бесчувственная машина. Поскольку страсть (passion) и
чувствительность понимались культурой XVIII века как пас-
сивное переживание аффекта, причина которого вне тела, то
утрата чувствительности отрезала либертина от объекта же-
ланий и обеспечила ему состояние самодостаточности. Либер-
тин Сада, хотя и нуждается в объекте, в теле другого, в дей-
ствительности не испытывает к нему никакого желания, он
от него совершенно независим. Как заметил Филипп Роже,
«для Сада страсть никогда не является рабством, зависимос-
тью от внешнего; объект желаний никогда "не сковывает
либертина"»
101
. В этом смысле апатичный либертин — вопло-
щение свободы.
Апатия оказывается уходом из внешнего мира, фиктив-
ным освобождением от него. Хоркхаймер и Адорно сформу-
лировали существо такого рода «освобождения»:
11*
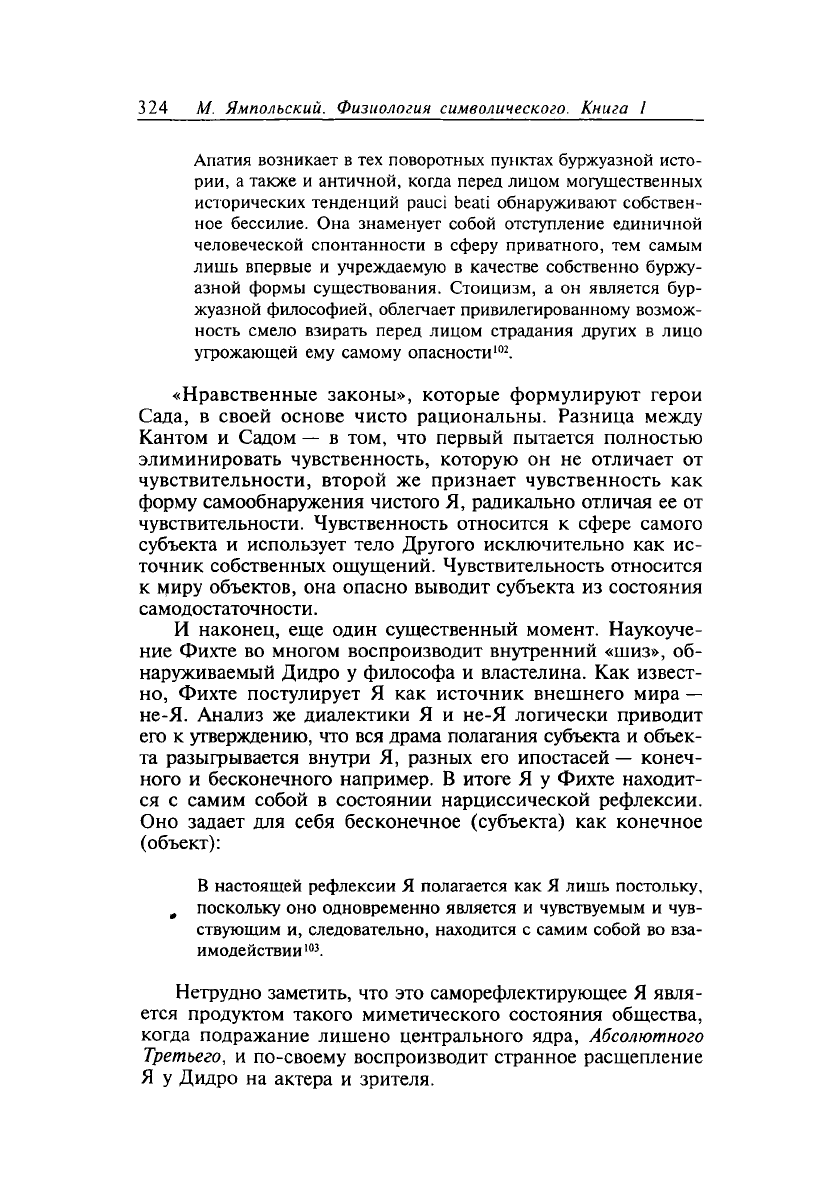
1 324 М. Ямпольский. Физиология символического. Книга 1
Апатия возникает в тех поворотных пунктах буржуазной исто-
рии, а также и античной, когда перед лицом могущественных
исторических тенденций pauci beati обнаруживают собствен-
ное бессилие. Она знаменует собой отступление единичной
человеческой спонтанности в сферу приватного, тем самым
лишь впервые и учреждаемую в качестве собственно буржу-
азной формы существования. Стоицизм, а он является бур-
жуазной философией, облегчает привилегированному возмож-
ность смело взирать перед лицом страдания других в лицо
угрожающей ему самому опасности
102
.
«Нравственные законы», которые формулируют герои
Сада, в своей основе чисто рациональны. Разница между
Кантом и Садом — в том, что первый пытается полностью
элиминировать чувственность, которую он не отличает от
чувствительности, второй же признает чувственность как
форму самообнаружения чистого Я, радикально отличая ее от
чувствительности. Чувственность относится к сфере самого
субъекта и использует тело Другого исключительно как ис-
точник собственных ощущений. Чувствительность относится
к миру объектов, она опасно выводит субъекта из состояния
самодостаточности.
И наконец, еще один существенный момент. Наукоуче-
ние Фихте во многом воспроизводит внутренний «шиз», об-
наруживаемый Дидро у философа и властелина. Как извест-
но, Фихте постулирует Я как источник внешнего мира —
не-Я. Анализ же диалектики Я и не-Я логически приводит
его к утверждению, что вся драма полагания субъекта и объек-
та разыгрывается внутри Я, разных его ипостасей — конеч-
ного и бесконечного например. В итоге Я у Фихте находит-
ся с самим собой в состоянии нарциссической рефлексии.
Оно задает для себя бесконечное (субъекта) как конечное
(объект):
В настоящей рефлексии Я полагается как Я лишь постольку,
ф
поскольку оно одновременно является и чувствуемым и чув-
ствующим и, следовательно, находится с самим собой во вза-
имодействии
103
.
Нетрудно заметить, что это саморефлектирующее Я явля-
ется продуктом такого миметического состояния общества,
когда подражание лишено центрального ядра, Абсолютного
Третьего, и по-своему воспроизводит странное расщепление
Я у Дидро на актера и зрителя.
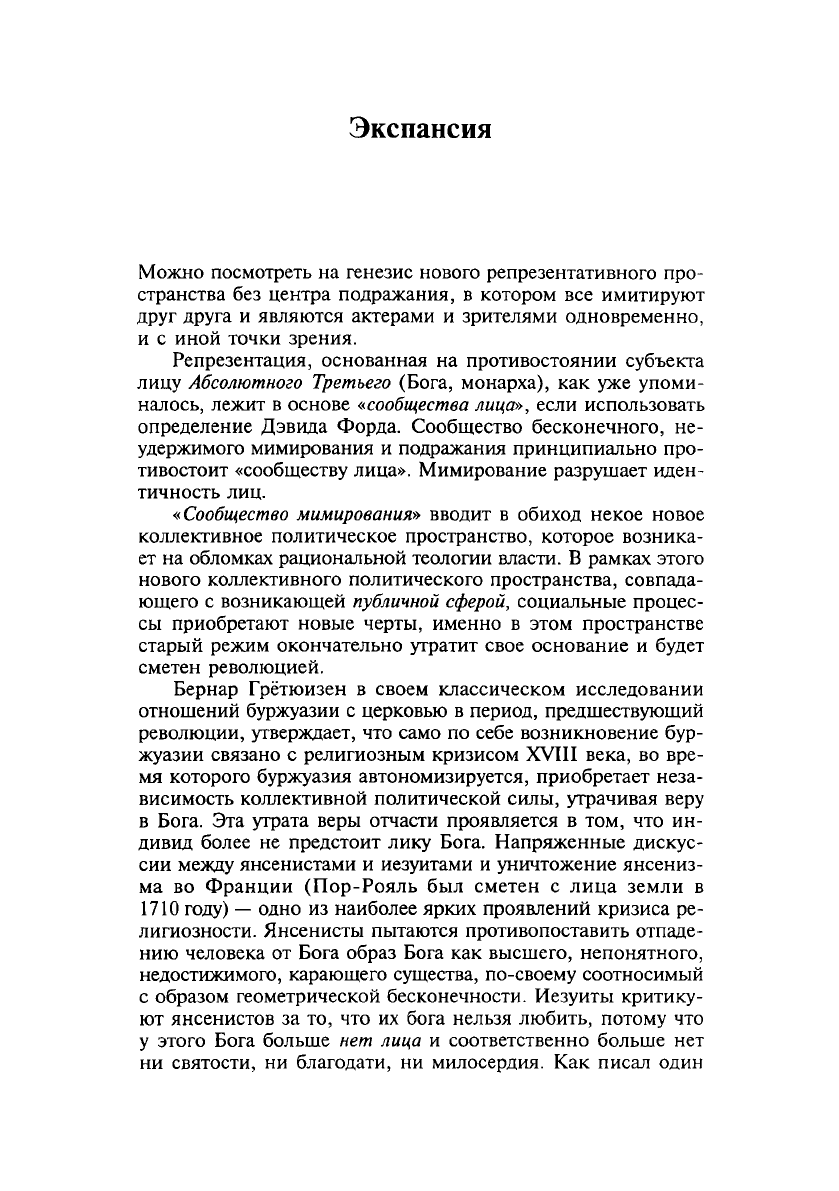
Экспансия
Можно посмотреть на генезис нового репрезентативного про-
странства без центра подражания, в котором все имитируют
друг друга и являются актерами и зрителями одновременно,
и с иной точки зрения.
Репрезентация, основанная на противостоянии субъекта
лицу Абсолютного Третьего (Бога, монарха), как уже упоми-
налось, лежит в основе «сообщества лица», если использовать
определение Дэвида Форда. Сообщество бесконечного, не-
удержимого мимирования и подражания принципиально про-
тивостоит «сообществу лица». Мимирование разрушает иден-
тичность лиц.
«Сообщество мимирования» вводит в обиход некое новое
коллективное политическое пространство, которое возника-
ет на обломках рациональной теологии власти. В рамках этого
нового коллективного политического пространства, совпада-
ющего с возникающей публичной сферой, социальные процес-
сы приобретают новые черты, именно в этом пространстве
старый режим окончательно утратит свое основание и будет
сметен революцией.
Бернар Грётюизен в своем классическом исследовании
отношений буржуазии с церковью в период, предшествующий
революции, утверждает, что само по себе возникновение бур-
жуазии связано с религиозным кризисом XVIII века, во вре-
мя которого буржуазия автономизируется, приобретает неза-
висимость коллективной политической силы, утрачивая веру
в Бога. Эта утрата веры отчасти проявляется в том, что ин-
дивид более не предстоит лику Бога. Напряженные дискус-
сии между янсенистами и иезуитами и уничтожение янсениз-
ма во Франции (Пор-Рояль был сметен с лица земли в
1710 году) — одно из наиболее ярких проявлений кризиса ре-
лигиозности. Янсенисты пытаются противопоставить отпаде-
нию человека от Бога образ Бога как высшего, непонятного,
недостижимого, карающего существа, по-своему соотносимый
с образом геометрической бесконечности. Иезуиты критику-
ют янсенистов за то, что их бога нельзя любить, потому что
у этого Бога больше нет лица и соответственно больше нет
ни святости, ни благодати, ни милосердия. Как писал один
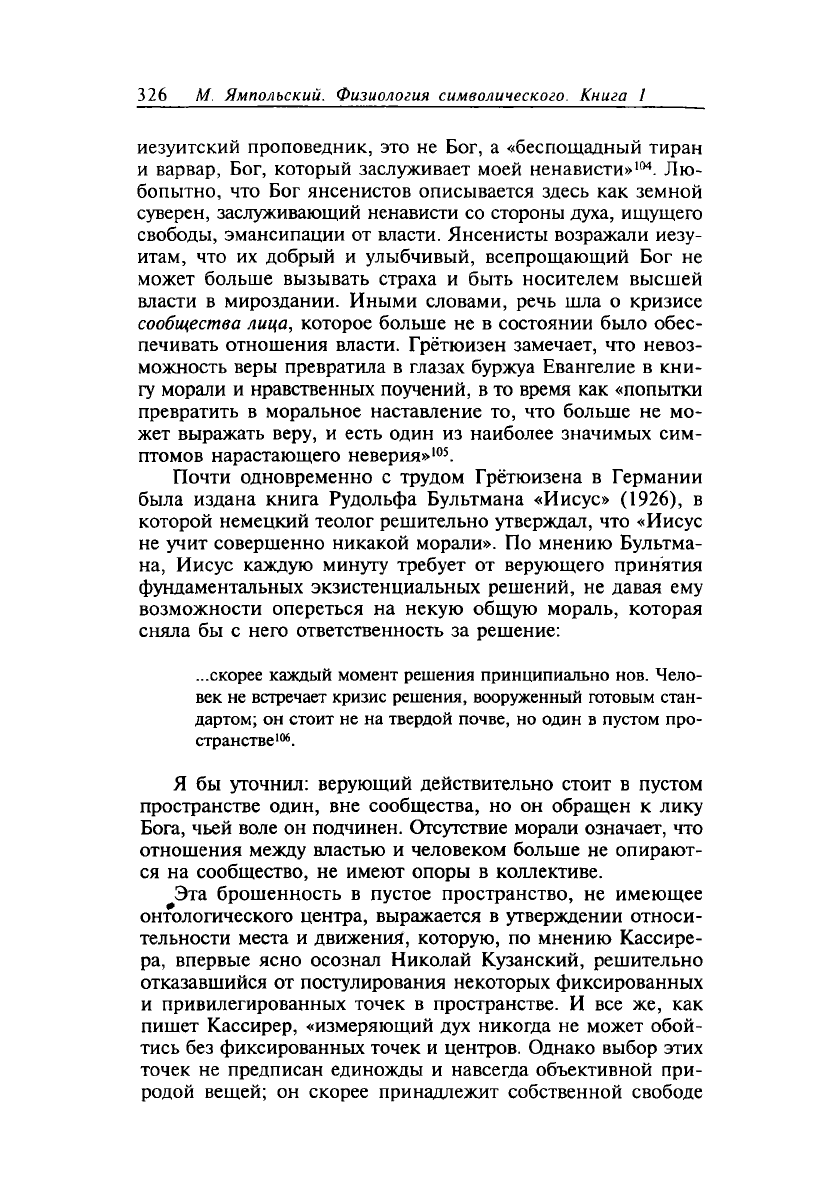
1 326 М. Ямпольский. Физиология символического. Книга 1
иезуитский проповедник, это не Бог, а «беспощадный тиран
и варвар, Бог, который заслуживает моей ненависти»
104
. Лю-
бопытно, что Бог янсенистов описывается здесь как земной
суверен, заслуживающий ненависти со стороны духа, ищущего
свободы, эмансипации от власти. Янсенисты возражали иезу-
итам, что их добрый и улыбчивый, всепрощающий Бог не
может больше вызывать страха и быть носителем высшей
власти в мироздании. Иными словами, речь шла о кризисе
сообщества лица, которое больше не в состоянии было обес-
печивать отношения власти. Грётюизен замечает, что невоз-
можность веры превратила в глазах буржуа Евангелие в кни-
гу морали и нравственных поучений, в то время как «попытки
превратить в моральное наставление то, что больше не мо-
жет выражать веру, и есть один из наиболее значимых сим-
птомов нарастающего неверия»
105
.
Почти одновременно с трудом Грётюизена в Германии
была издана книга Рудольфа Бультмана «Иисус» (1926), в
которой немецкий теолог решительно утверждал, что «Иисус
не учит совершенно никакой морали». По мнению Бультма-
на, Иисус каждую минуту требует от верующего принятия
фундаментальных экзистенциальных решений, не давая ему
возможности опереться на некую общую мораль, которая
сняла бы с него ответственность за решение:
...скорее каждый момент решения принципиально нов. Чело-
век не встречает кризис решения, вооруженный готовым стан-
дартом; он стоит не на твердой почве, но один в пустом про-
странстве
106
.
Я бы уточнил: верующий действительно стоит в пустом
пространстве один, вне сообщества, но он обращен к лику
Бога, чьей воле он подчинен. Отсутствие морали означает, что
отношения между властью и человеком больше не опирают-
ся на сообщество, не имеют опоры в коллективе.
Эта брошенность в пустое пространство, не имеющее
онтологического центра, выражается в утверждении относи-
тельности места и движения, которую, по мнению Кассире -
ра, впервые ясно осознал Николай Кузанский, решительно
отказавшийся от постулирования некоторых фиксированных
и привилегированных точек в пространстве. И все же, как
пишет Кассирер, «измеряющий дух никогда не может обой-
тись без фиксированных точек и центров. Однако выбор этих
точек не предписан единожды и навсегда объективной при-
родой вещей; он скорее принадлежит собственной свободе
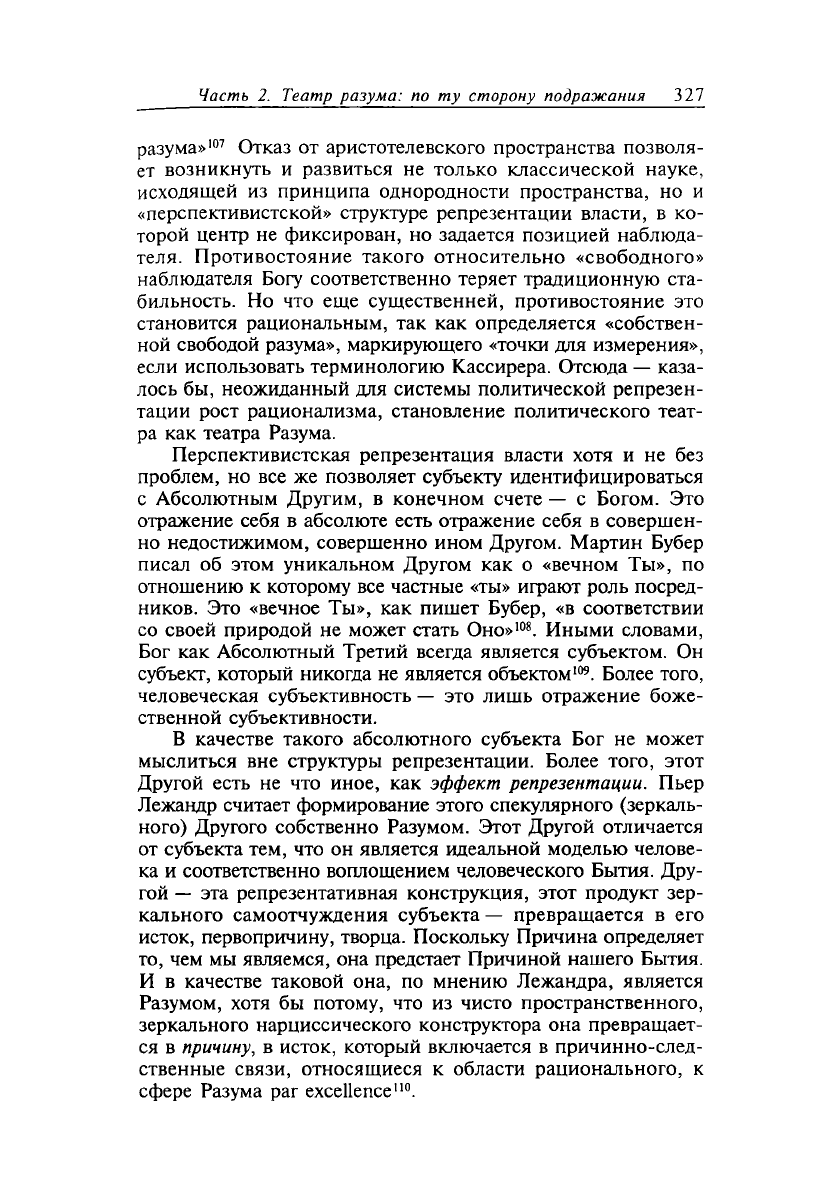
Часть 2. Театр разума: по ту сторону подражания 3 1 1
разума»
107
Отказ от аристотелевского пространства позволя-
ет возникнуть и развиться не только классической науке,
исходящей из принципа однородности пространства, но и
«перспективистской» структуре репрезентации власти, в ко-
торой центр не фиксирован, но задается позицией наблюда-
теля. Противостояние такого относительно «свободного»
наблюдателя Богу соответственно теряет традиционную ста-
бильность. Но что еще существенней, противостояние это
становится рациональным, так как определяется «собствен-
ной свободой разума», маркирующего «точки для измерения»,
если использовать терминологию Кассирера. Отсюда — каза-
лось бы, неожиданный для системы политической репрезен-
тации рост рационализма, становление политического теат-
ра как театра Разума.
Перспективистская репрезентация власти хотя и не без
проблем, но все же позволяет субъекту идентифицироваться
с Абсолютным Другим, в конечном счете — с Богом. Это
отражение себя в абсолюте есть отражение себя в совершен-
но недостижимом, совершенно ином Другом. Мартин Бубер
писал об этом уникальном Другом как о «вечном Ты», по
отношению к которому все частные «ты» играют роль посред-
ников. Это «вечное Ты», как пишет Бубер, «в соответствии
со своей природой не может стать Оно»
108
. Иными словами,
Бог как Абсолютный Третий всегда является субъектом. Он
субъект, который никогда не является объектом
109
. Более того,
человеческая субъективность — это лишь отражение боже-
ственной субъективности.
В качестве такого абсолютного субъекта Бог не может
мыслиться вне структуры репрезентации. Более того, этот
Другой есть не что иное, как эффект репрезентации. Пьер
Лежандр считает формирование этого спекулярного (зеркаль-
ного) Другого собственно Разумом. Этот Другой отличается
от субъекта тем, что он является идеальной моделью челове-
ка и соответственно воплощением человеческого Бытия. Дру-
гой — эта репрезентативная конструкция, этот продукт зер-
кального самоотчуждения субъекта — превращается в его
исток, первопричину, творца. Поскольку Причина определяет
то, чем мы являемся, она предстает Причиной нашего Бытия.
И в качестве таковой она, по мнению Лежандра, является
Разумом, хотя бы потому, что из чисто пространственного,
зеркального нарциссического конструктора она превращает-
ся в причину, в исток, который включается в причинно-след-
ственные связи, относящиеся к области рационального, к
сфере Разума par excellence
110
.
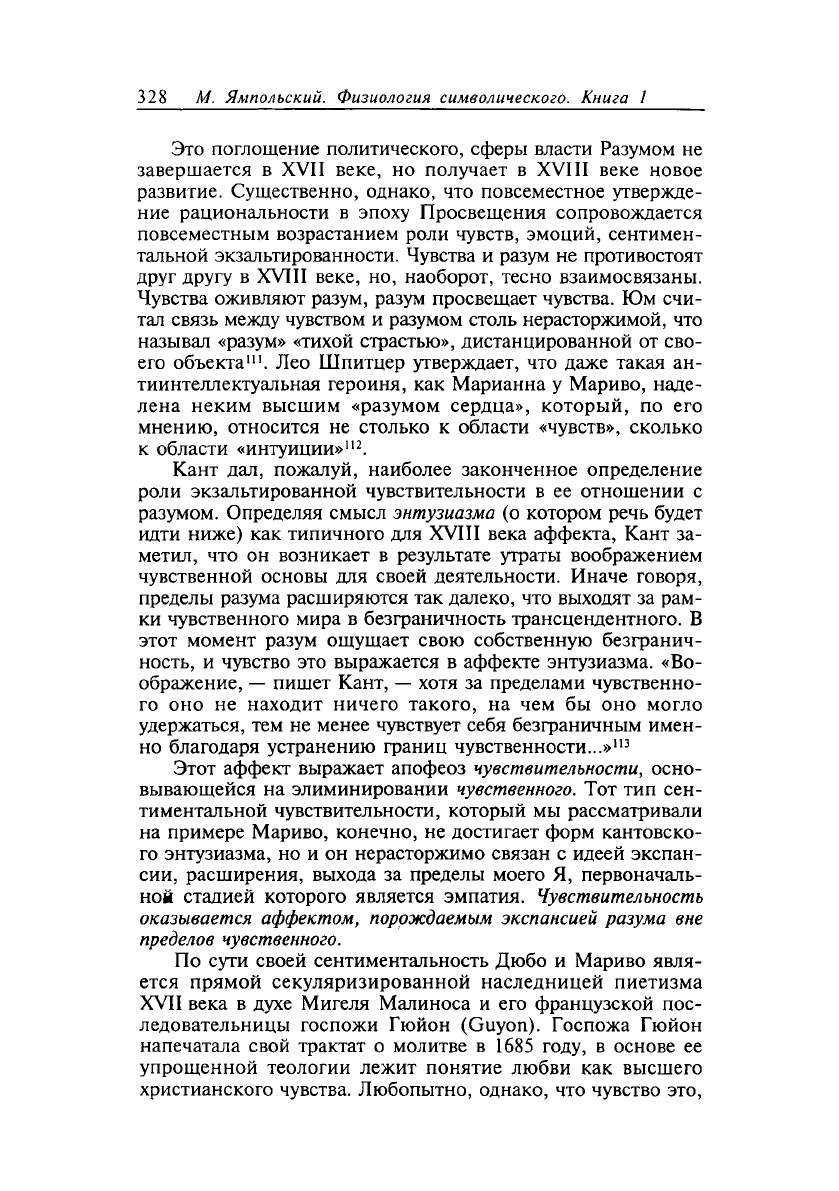
1 328 М. Ямпольский. Физиология символического. Книга 1
Это поглощение политического, сферы власти Разумом не
завершается в XVII веке, но получает в XVIII веке новое
развитие. Существенно, однако, что повсеместное утвержде-
ние рациональности в эпоху Просвещения сопровождается
повсеместным возрастанием роли чувств, эмоций, сентимен-
тальной экзальтированности. Чувства и разум не противостоят
друг другу в XVIII веке, но, наоборот, тесно взаимосвязаны.
Чувства оживляют разум, разум просвещает чувства. Юм счи-
тал связь между чувством и разумом столь нерасторжимой, что
называл «разум» «тихой страстью», дистанцированной от сво-
его объекта
111
. Лео Шпитцер утверждает, что даже такая ан-
тиинтеллектуальная героиня, как Марианна у Мариво, наде-
лена неким высшим «разумом сердца», который, по его
мнению, относится не столько к области «чувств», сколько
к области «интуиции»
112
.
Кант дал, пожалуй, наиболее законченное определение
роли экзальтированной чувствительности в ее отношении с
разумом. Определяя смысл энтузиазма (о котором речь будет
идти ниже) как типичного для XVIII века аффекта, Кант за-
метил, что он возникает в результате утраты воображением
чувственной основы для своей деятельности. Иначе говоря,
пределы разума расширяются так далеко, что выходят за рам-
ки чувственного мира в безграничность трансцендентного. В
этот момент разум ощущает свою собственную безгранич-
ность, и чувство это выражается в аффекте энтузиазма. «Во-
ображение, — пишет Кант, — хотя за пределами чувственно-
го оно не находит ничего такого, на чем бы оно могло
удержаться, тем не менее чувствует себя безграничным имен-
но благодаря устранению границ чувственности...»
113
Этот аффект выражает апофеоз чувствительности, осно-
вывающейся на элиминировании чувственного. Тот тип сен-
тиментальной чувствительности, который мы рассматривали
на примере Мариво, конечно, не достигает форм кантовско-
го энтузиазма, но и он нерасторжимо связан с идеей экспан-
сии, расширения, выхода за пределы моего Я, первоначаль-
ной стадией которого является эмпатия. Чувствительность
оказывается аффектом, порождаемым экспансией разума вне
пределов чувственного.
По сути своей сентиментальность Дюбо и Мариво явля-
ется прямой секуляризированной наследницей пиетизма
XVII века в духе Мигеля Малиноса и его французской пос-
ледовательницы госпожи Гюйон (Guyon). Госпожа Гюйон
напечатала свой трактат о молитве в 1685 году, в основе ее
упрощенной теологии лежит понятие любви как высшего
христианского чувства. Любопытно, однако, что чувство это,
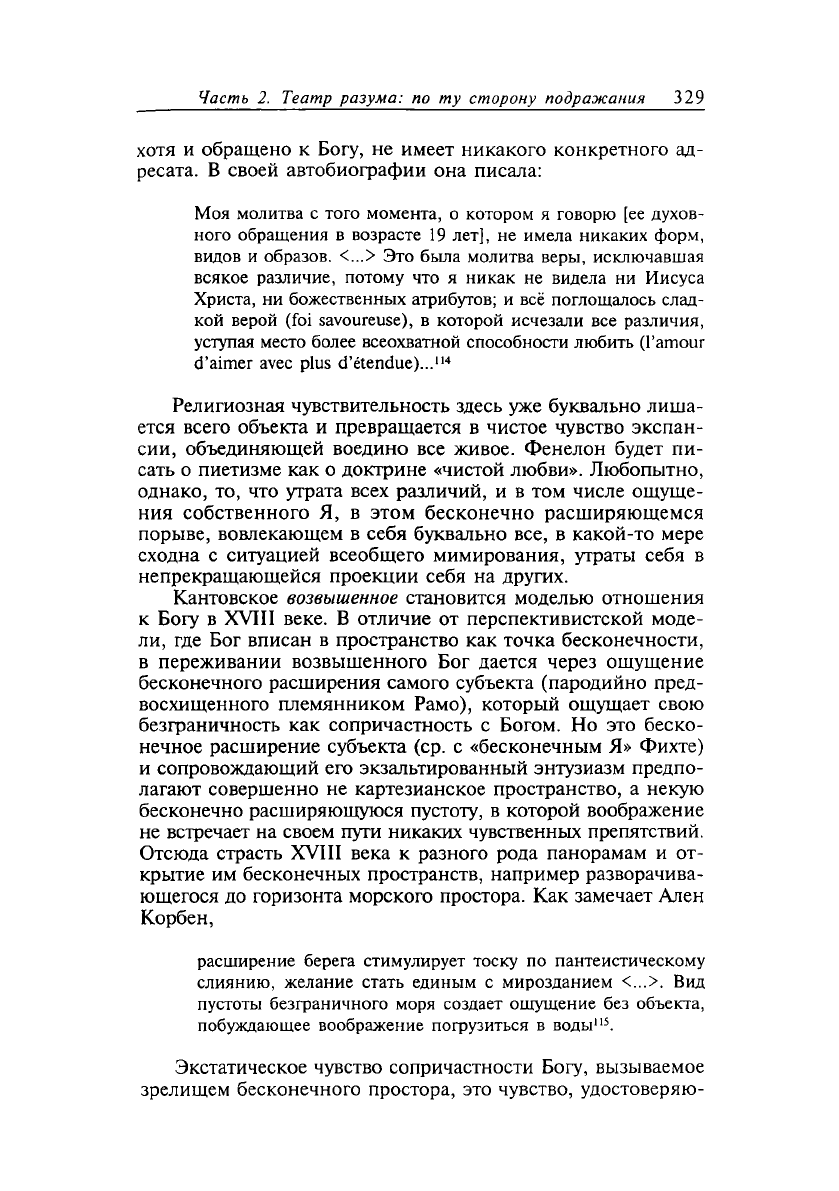
Часть 2. Театр разума: по ту сторону подражания 3 1 1
хотя и обращено к Богу, не имеет никакого конкретного ад-
ресата. В своей автобиографии она писала:
Моя молитва с того момента, о котором я говорю [ее духов-
ного обращения в возрасте 19 лет], не имела никаких форм,
видов и образов. <...> Это была молитва веры, исключавшая
всякое различие, потому что я никак не видела ни Иисуса
Христа, ни божественных атрибутов; и всё поглощалось слад-
кой верой (foi savoureuse), в которой исчезали все различия,
уступая место более всеохватной способности любить (l'amour
d'aimer avec plus d'etendue)...
114
Религиозная чувствительность здесь уже буквально лиша-
ется всего объекта и превращается в чистое чувство экспан-
сии, объединяющей воедино все живое. Фенелон будет пи-
сать о пиетизме как о доктрине «чистой любви». Любопытно,
однако, то, что утрата всех различий, и в том числе ощуще-
ния собственного Я, в этом бесконечно расширяющемся
порыве, вовлекающем в себя буквально все, в какой-то мере
сходна с ситуацией всеобщего мимирования, утраты себя в
непрекращающейся проекции себя на других.
Кантовское возвышенное становится моделью отношения
к Богу в XVIII веке. В отличие от перспективистской моде-
ли, где Бог вписан в пространство как точка бесконечности,
в переживании возвышенного Бог дается через ощущение
бесконечного расширения самого субъекта (пародийно пред-
восхищенного племянником Рамо), который ощущает свою
безграничность как сопричастность с Богом. Но это беско-
нечное расширение субъекта (ср. с «бесконечным Я» Фихте)
и сопровождающий его экзальтированный энтузиазм предпо-
лагают совершенно не картезианское пространство, а некую
бесконечно расширяющуюся пустоту, в которой воображение
не встречает на своем пути никаких чувственных препятствий.
Отсюда страсть XVIII века к разного рода панорамам и от-
крытие им бесконечных пространств, например разворачива-
ющегося до горизонта морского простора. Как замечает Ален
Корбен,
расширение берега стимулирует тоску по пантеистическому
слиянию, желание стать единым с мирозданием <...>. Вид
пустоты безграничного моря создает ощущение без объекта,
побуждающее воображение погрузиться в воды
115
.
Экстатическое чувство сопричастности Богу, вызываемое
зрелищем бесконечного простора, это чувство, удостоверяю-
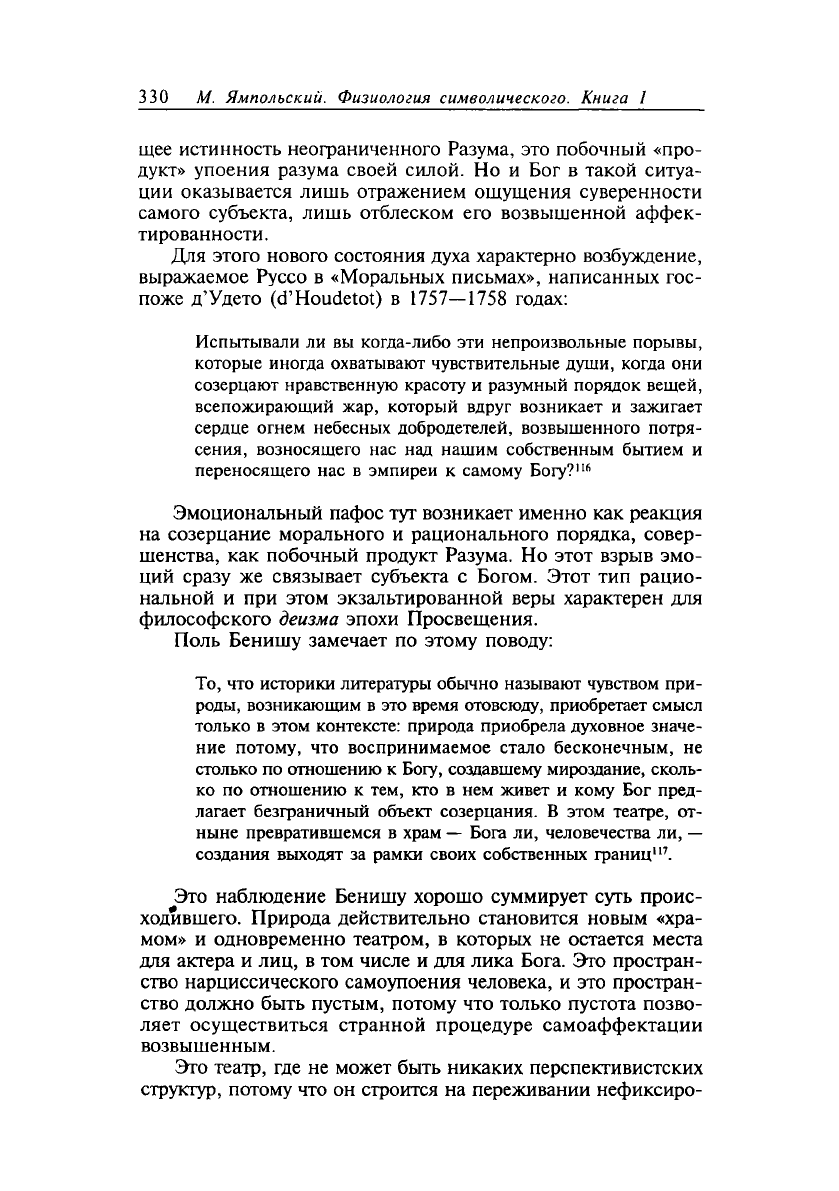
1 330 М. Ямпольский. Физиология символического. Книга 1
щее истинность неограниченного Разума, это побочный «про-
дукт» упоения разума своей силой. Но и Бог в такой ситуа-
ции оказывается лишь отражением ощущения суверенности
самого субъекта, лишь отблеском его возвышенной аффек-
тированное™.
Для этого нового состояния духа характерно возбуждение,
выражаемое Руссо в «Моральных письмах», написанных гос-
поже д'Удето (d'Houdetot) в 1757—1758 годах:
Испытывали ли вы когда-либо эти непроизвольные порывы,
которые иногда охватывают чувствительные души, когда они
созерцают нравственную красоту и разумный порядок вещей,
всепожирающий жар, который вдруг возникает и зажигает
сердце огнем небесных добродетелей, возвышенного потря-
сения, возносящего нас над нашим собственным бытием и
переносящего нас в эмпиреи к самому Богу?
116
Эмоциональный пафос тут возникает именно как реакция
на созерцание морального и рационального порядка, совер-
шенства, как побочный продукт Разума. Но этот взрыв эмо-
ций сразу же связывает субъекта с Богом. Этот тип рацио-
нальной и при этом экзальтированной веры характерен для
философского деизма эпохи Просвещения.
Поль Бенишу замечает по этому поводу:
То, что историки литературы обычно называют чувством при-
роды, возникающим в это время отовсюду, приобретает смысл
только в этом контексте: природа приобрела духовное значе-
ние потому, что воспринимаемое стало бесконечным, не
столько по отношению к Богу, создавшему мироздание, сколь-
ко по отношению к тем, кто в нем живет и кому Бог пред-
лагает безграничный объект созерцания. В этом театре, от-
ныне превратившемся в храм
—
Бога ли, человечества ли,
—
создания выходят за рамки своих собственных границ
117
.
Это наблюдение Бенишу хорошо суммирует суть проис-
ходившего. Природа действительно становится новым «хра-
мом» и одновременно театром, в которых не остается места
для актера и лиц, в том числе и для лика Бога. Это простран-
ство нарциссического самоупоения человека, и это простран-
ство должно быть пустым, потому что только пустота позво-
ляет осуществиться странной процедуре самоаффектации
возвышенным.
Это театр, где не может быть никаких перспективистских
структур, потому что он строится на переживании нефиксиро-
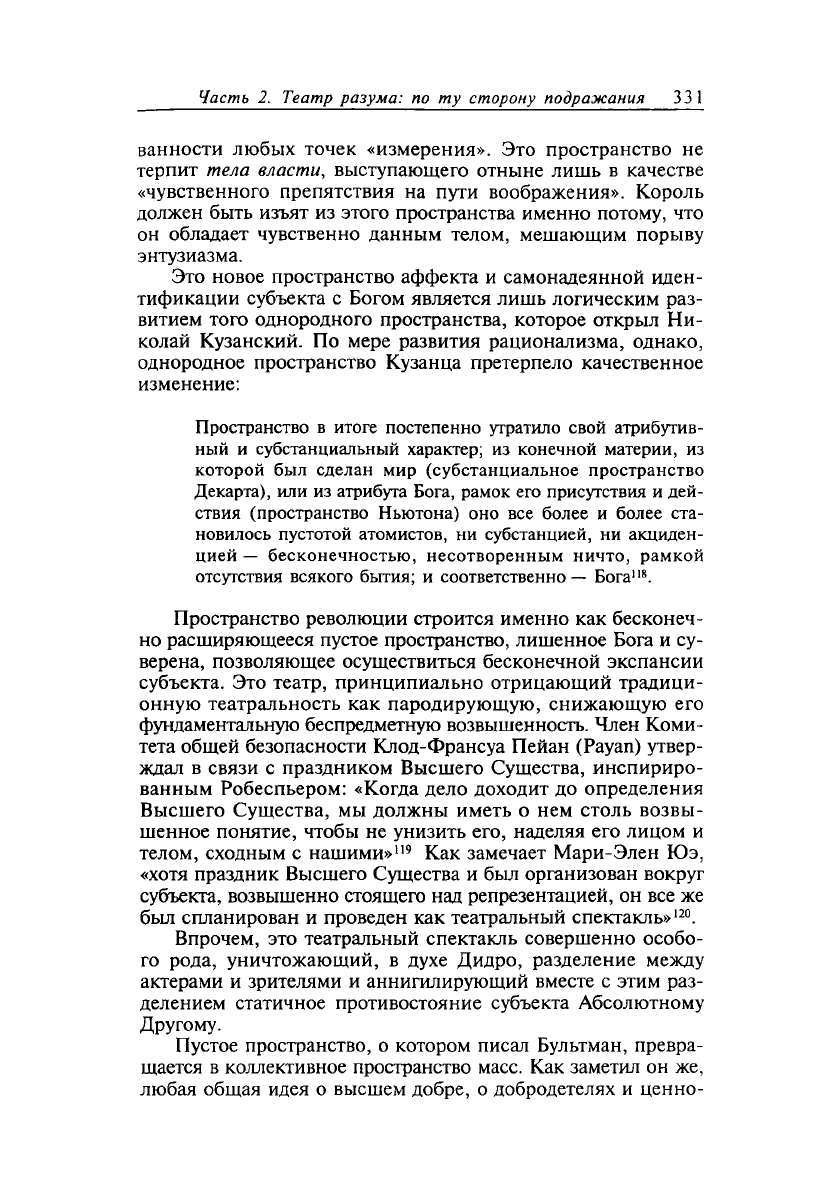
Часть 2. Театр разума: по ту сторону подражания 3 1 1
ванности любых точек «измерения». Это пространство не
терпит тела власти, выступающего отныне лишь в качестве
«чувственного препятствия на пути воображения». Король
должен быть изъят из этого пространства именно потому, что
он обладает чувственно данным телом, мешающим порыву
энтузиазма.
Это новое пространство аффекта и самонадеянной иден-
тификации субъекта с Богом является лишь логическим раз-
витием того однородного пространства, которое открыл Ни-
колай Кузанский. По мере развития рационализма, однако,
однородное пространство Кузанца претерпело качественное
изменение:
Пространство в итоге постепенно утратило свой атрибутив-
ный и субстанциальный характер; из конечной материи, из
которой был сделан мир (субстанциальное пространство
Декарта), или из атрибута Бога, рамок его присутствия и дей-
ствия (пространство Ньютона) оно все более и более ста-
новилось пустотой атомистов, ни субстанцией, ни акциден-
цией — бесконечностью, несотворенным ничто, рамкой
отсутствия всякого бытия; и соответственно
—
Бога
118
.
Пространство революции строится именно как бесконеч-
но расширяющееся пустое пространство, лишенное Бога и су-
верена, позволяющее осуществиться бесконечной экспансии
субъекта. Это театр, принципиально отрицающий традици-
онную театральность как пародирующую, снижающую его
фундаментальную беспредметную возвышенность. Член Коми-
тета общей безопасности Клод-Франсуа Пейан (Рауап) утвер-
ждал в связи с праздником Высшего Существа, инспириро-
ванным Робеспьером: «Когда дело доходит до определения
Высшего Существа, мы должны иметь о нем столь возвы-
шенное понятие, чтобы не унизить его, наделяя его лицом и
телом, сходным с нашими»
119
Как замечает Мари-Элен Юэ,
«хотя праздник Высшего Существа и был организован вокруг
субъекта, возвышенно стоящего над репрезентацией, он все же
был спланирован и проведен как театральный спектакль»
120
.
Впрочем, это театральный спектакль совершенно особо-
го рода, уничтожающий, в духе Дидро, разделение между
актерами и зрителями и аннигилирующий вместе с этим раз-
делением статичное противостояние субъекта Абсолютному
Другому.
Пустое пространство, о котором писал Бультман, превра-
щается в коллективное пространство масс. Как заметил он же,
любая общая идея о высшем добре, о добродетелях и ценно-
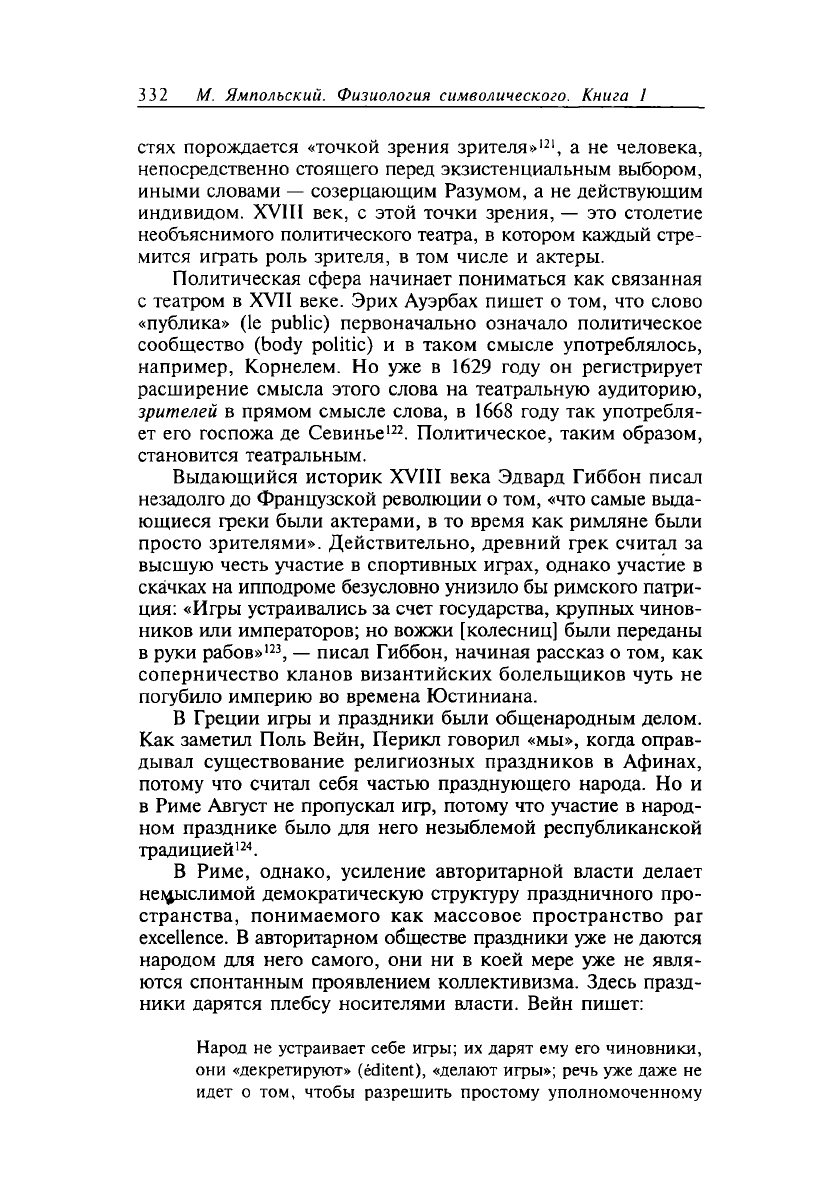
1 332 М. Ямпольский. Физиология символического. Книга 1
стях порождается «точкой зрения зрителя»
121
, а не человека,
непосредственно стоящего перед экзистенциальным выбором,
иными словами — созерцающим Разумом, а не действующим
индивидом. XVIII век, с этой точки зрения, — это столетие
необъяснимого политического театра, в котором каждый стре-
мится играть роль зрителя, в том числе и актеры.
Политическая сфера начинает пониматься как связанная
с театром в XVII веке. Эрих Ауэрбах пишет о том, что слово
«публика» (le public) первоначально означало политическое
сообщество (body politic) и в таком смысле употреблялось,
например, Корнелем. Но уже в 1629 году он регистрирует
расширение смысла этого слова на театральную аудиторию,
зрителей в прямом смысле слова, в 1668 году так употребля-
ет его госпожа де Севинье
122
. Политическое, таким образом,
становится театральным.
Выдающийся историк XVIII века Эдвард Гиббон писал
незадолго до Французской революции о том, «что самые выда-
ющиеся греки были актерами, в то время как римляне были
просто зрителями». Действительно, древний грек считал за
высшую честь участие в спортивных играх, однако участие в
скачках на ипподроме безусловно унизило бы римского патри-
ция: «Игры устраивались за счет государства, крупных чинов-
ников или императоров; но вожжи [колесниц] были переданы
в руки рабов»
123
, — писал Гиббон, начиная рассказ о том, как
соперничество кланов византийских болельщиков чуть не
погубило империю во времена Юстиниана.
В Греции игры и праздники были общенародным делом.
Как заметил Поль Вейн, Перикл говорил «мы», когда оправ-
дывал существование религиозных праздников в Афинах,
потому что считал себя частью празднующего народа. Но и
в Риме Август не пропускал игр, потому что участие в народ-
ном празднике было для него незыблемой республиканской
традицией
124
.
В Риме, однако, усиление авторитарной власти делает
неделимой демократическую структуру праздничного про-
странства, понимаемого как массовое пространство par
excellence. В авторитарном обществе праздники уже не даются
народом для него самого, они ни в коей мере уже не явля-
ются спонтанным проявлением коллективизма. Здесь празд-
ники дарятся плебсу носителями власти. Вейн пишет:
Народ не устраивает себе игры; их дарят ему его чиновники,
они «декретируют» (editent), «делают игры»; речь уже даже не
идет о том, чтобы разрешить простому уполномоченному
