Сидихменов В.Я. Маньчжурские правители Китая
Подождите немного. Документ загружается.


телеги»), телеграфные провода — все это рассматривалось ихэтуанями как
какое-то наваждение нечистой силы, которая нарушила покой добрых духов
на китайской земле. В одной из листовок ихэтуаней говорилось:
«Железные дороги и огненные телеги беспокоят дракона земли и
сводят на нет его хорошее влияние на землю. Красные капли, которые
капают с железной змеи (ржавчина, отлетающая от телеграфных проводов),
являются кровью оскорбленных духов, летающих в воздухе. Эти духи не в
силах помочь нам, когда эти красные капли падают возле нас».
Среди повстанцев распространялись самые невероятные слухи о
действии заклинаний. Говорили, например, что наклеенное на иностранное
здание специальное заклинание после громкого возгласа «гори» вызывало
пожар, что железнодорожное полотно недалеко от города Тяньцзиня было
разрушено от одного прикосновения стебля гаоляна, что некая девушка Ван
Юйцзе могла свободно взбираться на высокие иностранные здания и
вызывать пожар; ее не брали пули иностранцев.
В. В. Корсаков, свидетель восстания ихэтуаней, так описывает
посвящения в мистерию участников восстания: «Участники становились на
открытом месте лицом на юго-восток, поставив перед собой предварительно
зажженные жертвенные свечи или факел. Затем читали нараспев заученную
заклинательную молитву и сжигали на свече жертвенные бумажки. После
этого они становились на четвереньки, сложив особым способом руки, и
начинали делать туловищем качательные движения из стороны в сторону. Со
многими скоро начинали делаться судороги подобно эпилептическим, они
падали на землю, бились, затем вскакивали, размахивали руками, прыгали.
Глаза у них наливались кровью, у рта появлялась пена».
Известный русский китаевед А. Рудаков отмечал, что прототипом
союза «Ихэтуань» послужили религиозные общины, в которых мальчики с
раннего возраста под руководством старших занимались даосской
гимнастикой. Монахини вводили девочек в тайные общества. Они искали
«философский камень», который обеспечивал бессмертие.

Важным элементом ритуала ихэтуаней были земные поклоны. К ним
прибегали всюду, где только возможно. Степень святости человека была
пропорциональна числу челобитий (кэтоу), которые исполнялись с большим
усердием. Нужно было бить челом о камни или о землю, и от такого
постоянного челобитья на голове образовывалась плешь — отличительный
признак ихэтуаней. Земные поклоны сопровождались воскурением фимиама.
Исполнение различных обрядов преследовало одну цель — вызвать
сошествие духа и вселение его в молящегося, чтобы его тело наполнилось
сверхъестественными силами.
Духов вызывали по-разному. Например, глава секты сжигал
жертвенные бумаги с изречениями и одновременно произносил заклинания.
Посвящаемый простирался ниц перед алтарем и, крепко стиснув зубы, часто
дышал, его рот покрывался пеной — это служило признаком явления духа.
Сильное порывистое движение во время физических упражнений считалось
предвестником появления небесных сил.
Каждый ихэтуань носил при себе маленький кусочек желтой бумаги, на
которой был грубо намалеван таинственный образ. Вокруг этого
изображения было нацарапано несколько слов мистического содержания.
Эти слова он распевал, когда шел в бой, часто умирая со словами заклинания.
Амулет не спасал человека на поле брани, и смерть его объяснялась
тем, что дух отказался войти в тело тех, кто представал перед врагом со
«скверной» нравственной природой,
Вера в потусторонние силы нашла свое отражение и в прокламациях
ихэтуаней. Приведем отрывок из одной:
«Настоящее время представляет знаменательную эру в истории
империи, когда вмешательство небесной силы должно спасти ее от
иностранцев и очистить ее от оскверняющего присутствия всех иностранных
нововведений. Для достижения этой цели небо ниспосылает на землю
бесчисленные полчища духовных воинов-меченосцев. Так как эти воители
невидимы и бессильны без посредничества человека, то необходимо, чтобы
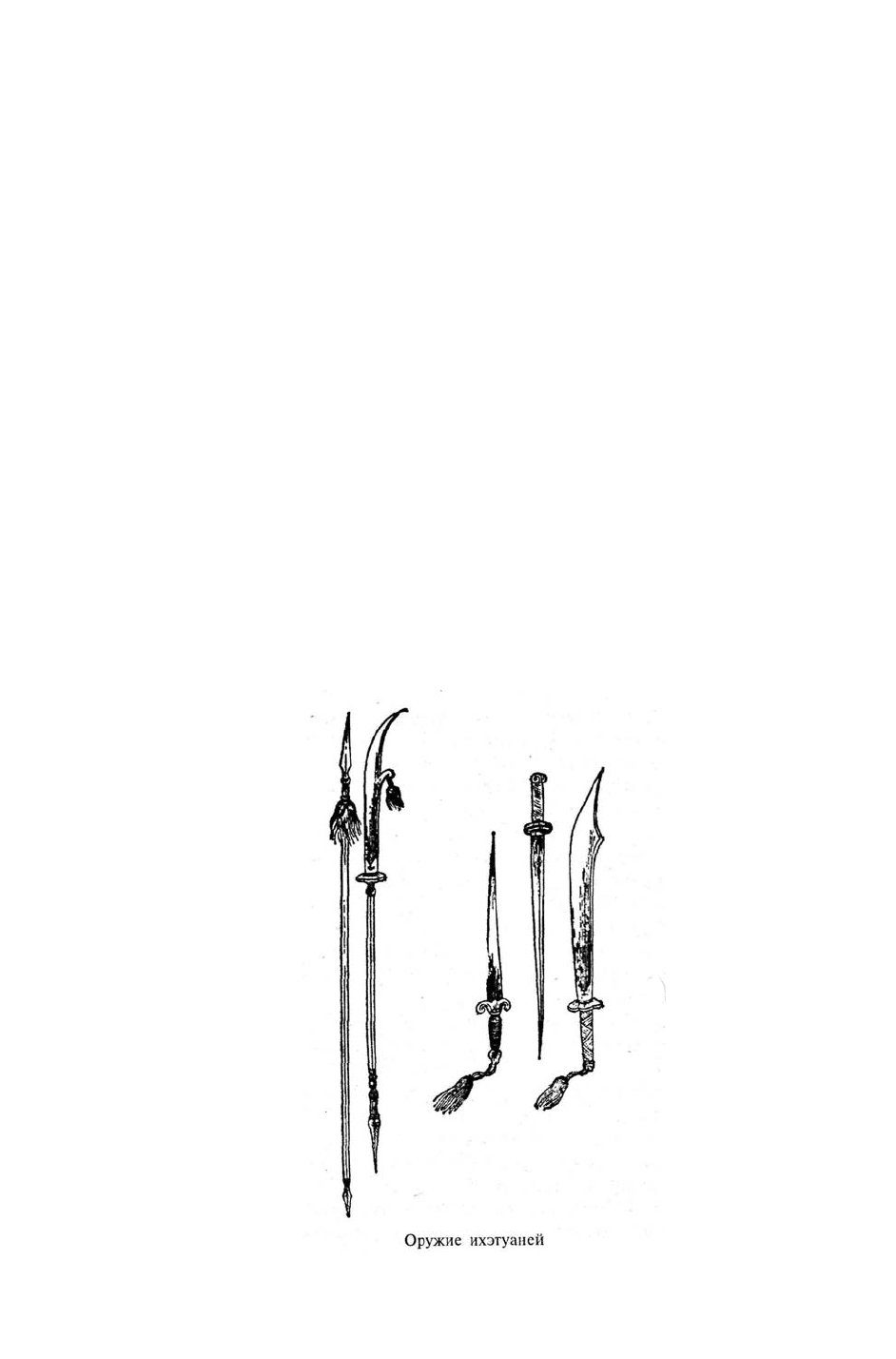
они вселились в обыкновенных людей для выполнения своего назначения».
В Тяньцзине были расклеены анонимные воззвания с таким
содержанием: «Духи помилуют ихэтуаней»; «Ихэтуани нарушили
спокойствие в Срединной равнине только из-за дьяволов»; «Склонять к
принятию христианства — значит нарушать предписания неба, не почитать
духов и Будду и позабыть предков».
Ихэтуани устраивали шумные собрания и расклеивали прокламации,
призывавшие всех китайцев восстать против иностранцев. На некоторых
европейских домах появлялись пометки, сделанные кровью. Это означало,
что помеченный дом обречен на сожжение, а его обитатели — на гибель.
Ихэтуани давали клятву, что на месте иностранных концессий не будет
оставлено камня на камне: все будет разрушено, земля вспахана, а на костях
убитых будет посеян гаолян. Об иностранцах писали: «Мужчины у них
безнравственны, женщины маловоздержанны — эти дьяволы рождены не
людьми».
Такие призывы должны были вселить патологическую ненависть к
иностранцам.

В народе об ихэтуанях говорили так: «Если железная дорога, железные
мосты и железные вагоны разрушены одними ихэтуанями; если ими порвана
удивительная железная проволока, передающая на расстояние известия; если
зарево и дым пожарищ, учиненные ими, окутали небо от Пекина до
Тяньцзиня; если смелые ихэтуани осадили уже самих посланников в Пекине
и старая царица Цыси назвала их «своими возлюбленными сынами», то как
же не верить в силу и чудеса этих небесных посланников, которые возродят
Срединное государство, прогонят ненавистных иностранцев и откроют для
китайцев зарю новой жизни».
В апреле 1900 г. на улицах и в чайных домах Пекина распространился
слух о том, что глубокой ночью в одном из храмов недалеко от
императорских дворцов были слышны поразившие верующих божественные
слова:
«Я, божество невидимого мира Юй Хуан. Слушайте меня! Рвите
провода, передающие слова на расстоянии! Разрушайте железные дороги!
Отрубайте головы иностранным дьяволам! В день, когда вы уничтожите
иностранных дьяволов, пойдет дождь, прекратится засуха и вы будете
свободными!»
Понятно, что никто не мог слышать такого божественного веления:
этот слух преднамеренно распускали главари ихэтуаней, которые пытались
привлечь жителей Пекина на свою сторону. На людей, находившихся во
власти религиозных суеверий, подобное божественное «откровение»
производило сильное эмоциональное воздействие и побуждало поступать в
соответствии с «предписанием» божества Юй Хуана,
Вскоре после этого телеграфные провода в Пекине были порваны в
нескольких местах. Толпа напала на рабочих, ремонтировавших вагоны и
паровозы. Железнодорожное полотно, соединяющее Пекин с Тяньцзинем,
было разрушено. В Пекине ихэтуани распространяли листовки, в которых
призывали начать всеобщий бунт, как только «божество Юй Хуан даст
священный сигнал».

Восстание ихэтуанеи вспыхнуло в провинции Шаньдун, а затем
распространилось в другие провинции — Чжили, Шаньси, а также в
Маньчжурии.
Тяньцзинь — крупный промышленный город и морской порт в
Северном Китае, где были сильны позиции иностранного капитала, стал
центром восставших.
На всем пути между Тяньцзинем и Пекином восставшие разрушали
железнодорожное полотно, предавали огню паровозы и вагоны, рвали
телеграфные и телефонные провода, разрушали станционные постройки.
Губернатор провинции Шаньдун Ли Бинхэн слыл ярым противником
следования Китая по пути европейской цивилизации и сочувствовал
ихэтуаням. Он возражал против промышленного развития провинции, не
одобрял строительства железных дорог, телеграфа, создания армии по
западному образцу, европейской системы обучения, осуждал китайцев,
принявших христианскую веру.
Убийство двух немецких миссионеров в Шаньдуне 1 ноября 1897 г.
усилило агрессивные действия держав против Китая. Стремясь как-то
смягчить свои отношения с державами, маньчжурское правительство
сместило Ли Бинхэна с поста губернатора.
Назначенный в марте 1899 г. губернатором провинции Юй Сянь также
считался наиболее активным поборником антииностранного движения, был
вдохновителем и организатором ихэтуаней, противником распространения
христианской религии в Китае. Американский посланник в Пекине Конжер
потребовал от маньчжурского правительства смещения Юй Сяня: в декабре
1899 г. он был снят и назначен губернатором провинции Шаньси. Там было
сильное влияние английских и американских миссионеров, и Юй Сянь в 1900
г. устроил массовое побоище иностранцев. Он приказал привести к нему всех
миссионеров, живших в главном провинциальном городе Тайюане. Когда
они были приведены, им велели пасть ниц перед губернатором. Вначале
обезглавили двух католических священников и трех миссионеров, а затем —

остальных мужчин, женщин и детей.
В декабре 1899 г. губернатором провинции Шаньдун стал Юань Шикай
— сторонник жесткого курса в отношении ихэтуаней. В одном из его
приказов войскам говорилось: «При встрече с бандитами — расстреливать
их. При появлении бандитов — открывать огонь из орудий. Отвечать за это
вы не будете. Если же при появлении бандитов им не будет нанесен
сокрушительный удар, то всех вас, начиная с командира, ожидает смертная
казнь». Его войска истребляли все население деревень, где обнаруживали
ихэтуаней.
Юань Шикай преследовал цель установления союза с иностранными
войсками и истребления восставших крестьян-ихэтуаней. Он подходил к
европейской цивилизации прагматически: мечтал с помощью европейского
оружия создать в Китае сильную армию и сильный флот.
28 мая 1900 г. ихэтуани сожгли вблизи Пекина железнодорожную
станцию Фэнтай, а спустя день порвали протянутые вдоль городской стены
электрические провода, предназначенные для снабжения электроэнергией
трамвайных линий, повредили трамвайные вагоны, многие из которых были
сожжены, убили водителей и кондукторов трамваев, 4 июня они прервали
телеграфную связь между Пекином и Тяньцзинем, а 7 июня убили двух
английских миссионеров.
Участилось «братание» между ихэтуанями и императорскими
войсками, и это еще более накаляло обстановку в Пекине. Маньчжурское
правительство понимало: почти все китайцы заражены антииностранными
настроениями, поэтому открытое выступление против ихэтуаней не сулило
ничего хорошего — массовый взрыв возмущения мог плачевно окончиться
для маньчжурских правителей.
Учитывая общий антииностранный настрой в Пекине, Цыси 28 мая
1900 г. издала указ, обращенный к ихэтуаням: «Пришло время следовать
старому и испытанному пути наших предков. Помоги нам, божество Юй
Хуан! Повинуйтесь и следуйте его наставлениям! Смерть иностранцам!»

Маньчжурские и китайские феодалы не хотели делить с европейскими
колонизаторами право господства над китайским народом: проникновение
иностранного капитала в Китай объективно подрывало это монопольное
право. Вот почему они отравляли сознание китайского народа ядом слепой
вражды и ненависти ко всему европейскому. Маньчжурское правительство
опубликовало указ о выдаче вознаграждения за голову убитого иностранца:
за каждого мужчину — 50 лянов, за женщину — 40 лянов, за ребенка — 20
лянов.
О том, как правители Срединного государства изощрялись в
изображении «заморских дьяволов», можно судить по циркуляру,
опубликованному губернатором провинции Гуандун в 1884 г. В этом
циркуляре имеются такие слова:
«Европейцы не принадлежат к человеческому роду: они происходят от
обезьян и гусей. Вы, может быть, спросите, откуда эти дикари овладели
такой ловкостью в сооружении железных дорог, пароходов и часов? Знайте
же, что они под предлогом проповеди религии приходят к нам, вырывают у
умирающих китайцев глаза и вынимают мозг и собирают кровь наших детей.
Из всего этого делают пилюли и продают их своим соотечественникам,
чтобы сделать их умными и во всем искусными. Только те из них, которые
отведали нашего тела, приобретают такой ум, что могут изобретать вещи,
которыми они гордятся».
Китаец, приученный столетиями верить всему, что исходило от
властей, вполне возможно, не находил в таком фантастическом утверждении
ничего сумасбродного.
Правители Китая признавали превосходство европейцев в
материальной культуре. Но свою духовную культуру они ставили превыше
всего. По этому поводу американский миссионер Грэйвс в 1889 г. писал:
«Китайцы не могли не видеть превосходства западных народов в военных
кораблях, заходящих в их порты; лучшее вооружение и современную выучку
войск; комфорт и роскошь в мостах проживания иностранных купцов,

прекрасные дороги, освещенные улицы и водопровод в Гонконге и Шанхае».
Но, замечает Грэйвс, «многие китайцы подчеркивали, что это всего лишь
чистая материальная цивилизация, которая проявляется в грубой силе, а в
интеллектуальном отношении европейцы не могут идти ни в какое сравнение
с китайскими мудрецами, с их знаниями добродетели, с их утонченными
рассуждениями».
Вторжение иностранных держав в Китай, несомненно, было актом
произвола, агрессии и вандализма против китайского народа. Оно не только
вызвало героическое сопротивление китайских патриотов, но и внесло
переполох в стан правителей Китая, которые увидели в этом угрозу своим
привилегиям, покушение на их великодержавные амбиции. Эту мысль
выразил выдающийся русский китаевед XIX в. В. П. Васильев: «Считая
тысячелетиями свое мировое значение, презирая все остальное человечество,
как не могущее проникнуться его великими принципами, Китай вдруг был
выбит из своей проторенной колеи. Не по доброй воле вступил он в
сношения с другими народами, открыл иностранцам свободный доступ в
свои гавани; скрепя сердце, увидел он себя поставленным в необходимость
учиться у тех, которых он считал такими невеждами».
Некоторые китайские историки, идеализируя движение ихэтуаней,
пытались изобразить их только в «розовом свете». Они якобы но допускали
жестокости к своим противникам. Так, Фан Вэньлань в книге «Новая история
Китая» писал, что «жестокость и разнузданность были характерны не для
ихэтуаней, а для миссионеров и перешедших в христианство китайцев».
Такое утверждение недостаточно объективно. Не обеляя иностранных
миссионеров и китайских христиан, следует подчеркнуть, что ихэтуани на
своем пути истребляли всех, независимо от возраста и пола, миссионеров и
соотечественников-христиан и превращали их жилища в пепелище. В такой
жестокости надо винить не ихэтуаней, а их главарей, отравлявших сознание
восставших ядом ненависти ко всему иностранному.
Иностранные миссионеры, жившие в глубинных районах провинций

Шаньдун, Шэньси и Шаньси, были истреблены. Их головы выставлялись в
китайских храмах. Их детей мучили и убивали на глазах матерей, которых
затем насиловали, пытали и обезглавливали. Тела убитых выбрасывались За
городские стены. Один из главарей ихэтуаней, прибыв из Пекина в
Тяньцзинь в июне 1900 г., похвалялся перед своими подопечными:
— В Пекине мы казнили японского переводчика из японского
посольства. Мы схватили его, отрезали ему нос, уши, губы, пальцы; искололи
тело, а из кожи на его спине вырезали себе пояса; из груди вырвали его
сердце.
Потрясая копьем перед ихэтуанями, он с гордостью продолжал:
— Вот это мое заговоренное копье было воткнуто в землю, а рядом с
ним лежало теплое, еще трепещущее сердце японца. Перед живым сердцем
врага мы совершили челобитье и неистово молились, чтобы божество
Гуаньлаое даровало нам неслабеющую силу и храбрость в бою и охраняло
нас от вражеских козней. Затем мы рассекли сердце на кусочки и съели их. И
если в моей груди есть частица вражеского сердца, то мне не страшен
никакой враг.
Речь шла о секретаре японского посольства Сугияма, зверски убитом
11 июня 1900 г. в Пекине.
Жестокость ихэтуаней имела свои социально-классовые причины.
Невыносимый классовый гнет, отчаянная борьба за существование, голод,
нищета, моральное угнетение — все это явилось той объективной почвой, на
которой культивировалось их озлобление.
Еще древние китайские мыслители правильно подходили к
объяснению причин ожесточенности китайского народа и связывали это не с
какой-то патологией, а с социальными условиями. Китайский мыслитель
Мэнцзы, живший в III в. до н. э., писал: «В урожайные годы большая часть
молодежи бывает доброй, а в голодные — злой. Такая разница происходит не
от тех природных качеств, которыми наградило их небо. А случается это так
оттого, что бедствия от голода погружают их сердца во зло». Здесь верно

подмечена природа ожесточения: полуголодное существование обостряет
чувства человека, ожесточает его.
Природа жестокости иностранных пришельцев носила совсем иной
характер. Империалистические державы вели войну против китайского
народа под флагом «единства» национальных интересов: так затушевывались
«проклятые» классовые противоречия. Солдатам и офицерам союзных войск
внушали, что китайцы — их заклятые враги, поэтому с ними следует
расправляться беспощадно.
Приведем в связи с этим наблюдения и размышления русского
журналиста Д. Янчевецкого, очевидца военных действий против ихэтуаней,
автора книги «У стен недвижного Китая», изданной в 1903 г. И хотя книга
написана в духе оправдания колониальной политики царской России, тем не
менее надо отдать должное ее автору, который в мрачные времена
господства русского царизма не убоялся дать объективную оценку поведения
иностранных войск в Китае во время подавления восстания ихэтуаней. Он
писал: «В китайцах не уважали никаких человеческих прав. Установился
какой-то средневековый взгляд, что с китайцами можно все делать. Их
считали за какую-то жалкую тварь, которую можно и даже должно
безнаказанно преследовать, насиловать и даже можно убивать, если они
осмелятся сопротивляться».
В другом месте Д. Янчевецкий передает разговор раненого русского
офицера с доктором, начальником военного госпиталя в осажденном
Тяньцзине. Доктор жаловался, что китайцы обстреливают госпиталь
Красного Креста и тем самым грубо нарушают международное право и
законы войны. «Неужели вы думаете, доктор, — возразил раненый офицер,
— что китайцы что-нибудь поймут из вашей галантности? Цивилизованные
европейцы столько лет не признавали основных человеческих прав за
китайцами, не уважали ни их национальных чувств, ни религиозных, ни
политических, грубо издевались над их самыми священными обычаями и
законами, отнимали и расхищали у них все, что только могли, — и вы хотите,
