Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии
Подождите немного. Документ загружается.

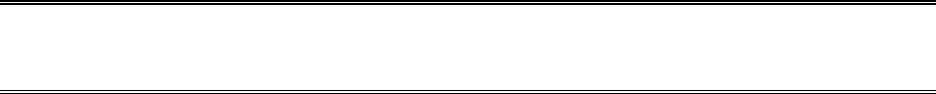
┼───────────────────────────┼
│ И. С. НОЙ │
│ │
Методологические проблемы │
│ советской криминологии │
│ │
┼───────────────────────────┼
Издательство Саратовского университета 1975
УДК 343.9(01)
Н72
В книге профессора И. С. Ноя рассматривается становление и развитие советской
криминологической науки с 20-х годов и по настоящее время.
В работе сосредоточено внимание лишь на наиболее принципиальных
методологических положениях науки о причинах преступности в социалистическом
обществе.
Исходя из решений XXIV съезда партии об укреплении взаимодействия «ученых,
работающих в области естественных, технических и общественных наук», в работе
показывается необходимость такого взаимодействия при изучении личности преступника
как одного из важнейших объектов криминологии. В книге выдвигаются и спорные
положения, представляющие, однако, несомненный интерес для науки и практики.
Книга рассчитана на научных работников, студентов, работников исправительно-
трудовых учреждений, судей, прокуроров, адвокатов, работников милиции, а также на
широкий круг советской общественности, интересующейся вопросами борьбы с
преступностью.
1 — 10 — 2
––––––––––
49 — 75
© Издательство Саратовского университета, 1975.

Памяти профессора-генетика
Сергея Спиридоновича Хохлова
посвящается
Глава I
СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Становление советской криминологической науки начинается с первого года
существования Советского государства
1
. Ее методологической основой явились
положения марксизма о социальной природе преступности, определяемой частной
собственностью на орудия и средства производства, эксплуатацией человека человеком.
Особое значение имел вывод В.@И. Ленина о положении с преступностью после
совершения пролетарской революции, сформулированный им в «Государстве и
революции»: «...Мы знаем, что коренная социальная причина эксцессов, состоящих в
нарушении правил общежития, есть эксплуатация масс, нужда и нищета их. С
устранением этой главной причины эксцессы неизбежно начнут «отмирать». Мы не
знаем, как быстро и в какой постепенности, но мы знаем, что они будут отмирать. С их
отмиранием отомрет и государство»
2
.
Ликвидация эксплуататорского строя в России Великой Октябрьской
социалистической революцией поставила перед советскими криминологами задачу, ранее
никогда не возникавшую перед криминологией: изучить причины преступности в таком
обществе, где уничтожена их коренная социальная причина. Огромное значение для
понимания проблем преступ-
5
ности имели указания В. И. Ленина о том, что важнейшим средством государственного
управления диктатуры пролетариата в эпоху перехода от капитализма к коммунизму
является учет и контроль. «Учет и контроль, — писал он, — вот главное, что требуется
для «налажения», для правильного функционирования первой фазы коммунистического
общества»
3
. В. И. Ленин придавал исключительно важное значение овладению широкими
народными массами наукой учета, контроля, управления. «...Когда все научатся управлять
и будут на самом деле управлять самостоятельно общественным производством,
самостоятельно осуществлять учет и контроль тунеядцев, баричей, мошенников и тому
подобных «хранителей традиций капитализма», — тогда, — указывал В. И. Ленин, —
уклонение от этого всенародного учета и контроля неизбежно сделается таким
неимоверно трудным, таким редчайшим исключением, будет сопровождаться, вероятно,
таким быстрым и серьезным наказанием..., что необходимость соблюдать несложные,
основные правила всякого человеческого общежития очень скоро станет привычкой»
4
. «И
тогда, — продолжает В. И. Ленин, — будет открыта настежь дверь к переходу от первой
фазы коммунистического общества к высшей его фазе, а вместе с тем к полному
отмиранию государства»
5
.
Величайшее значение указанных положений В. И. Ленина для понимания причин
преступности и мер борьбы с ней в обществе, совершившем пролетарскую революцию,
1
См. Шляпочников А. С. Советская криминология на современном этапе. М., 1973,
с. 5.
2
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 33, с. 91.
3
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 33, с. 101.
4
Там же, с. 102.
5
Там же.

состоит прежде всего в уяснении того, что социальный строй этого общества сам по себе
преступность не порождает и что всемерное развитие социалистической демократии,
связанное с всенародным участием в управлении государством, является тем главным, что
обеспечивает соблюдение основных правил человеческого общежития, превращающихся
в привычку.
Указанные положения В. И. Ленина получили дальнейшее развитие в решениях
нашей партии. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду КПСС указывается: «В
системе социалистической демократии важное место занимают органы народного
контроля, в работе которых ныне принимают участие миллионы рабочих, колхозников,
служащих. Партия и впредь будет заботиться о том, чтобы ленинские идеи о постоянном
и действенном контроле со стороны широких масс неуклонно претворялись в жизнь»
6
. И
далее: «Укрепление законности —
6
это задача не только государственного аппарата. Партийные организации, профсоюзы,
комсомол обязаны делать все, чтобы обеспечить строжайшее соблюдение законов,
улучшить правовое воспитание трудящихся. Уважение к праву, к закону должно стать
личным убеждением каждого человека»
7
.
На указанных основополагающих идеях В. И. Ленина о том, что самим фактом
совершения Великой Октябрьской социалистической революции, создавшей
принципиально новый социальный строй, осуществлена решающая мера в борьбе с
преступностью, стала строиться с первых лет своего возникновения советская
криминологическая наука. В этом отношении характерно выступление одного
криминолога 20-х годов в Государственном институте по изучению преступности и
личности преступника, заявившего: «Мы — марксисты, мы коммунисты, и когда перед
нами встает вопрос, на основе какого положения мы должны строить уголовный кодекс,
мы говорим — перед нами прежде всего та крупнейшая мера борьбы с преступностью,
которую мы осуществили 25 октября. Из нее в порядке логическом исходит целый ряд
других мер в этом вопросе»
8
.
Глубина новизны проблемы изучения и борьбы с преступностью, поставленной
Октябрем, не сразу была осознана всеми. Обращая на это внимание, Е. Ширвиндт писал:
«Разработка того основного положения, что в СССР борьба с преступностью ведется при
разрешении уже основной задачи, в отличие от того, как она ведется в других 5/6 земного
шара, без разрешения этих основных задач, происходит у нас недостаточно углубленно и
даже в значительной мере затушевывается»
9
. При этом Е.@Ширвиндт указал на
допускаемые в работах по криминологии вульгаризацию и упрощенство, связанные с
догматическим истолкованием известного марксистского положения о том, что всякое
право, в том числе и уголовное, является одним из видов надстройки над экономическим
базисом. «На почве этих основных положений, — писал он, — создается упрощенство и
вульгаризация, которые делают эти положения фаталистическими и которые, будучи
приложены к явлениям преступности, приводят к тому, что всякая борьба с
преступностью кажется бесполезной, так как преступники должны быть и не могут
исчезнуть, пока полностью не будет изменен
7
6
Брежнев Л. И. Ленинским курсом, том третий. М., 1972, с. 282.
7
Там же, с. 284.
8
Проблемы преступности, вып. 2. М.-Л., 1927, с. 5.
9
Ширвиндт Е. О методике изучения преступности и мер борьбы с ней в СССР. —
В сб.: Проблемы преступности, вып. 2, с. 6.

строй, который существует и который преступления порождает. Это упрощенство и
вульгаризация как будто приписывается Марксу и Энгельсу. Но Маркс по этому поводу
говорил, что его «нужно понимать не так, как понимают иные, т.е. что автоматически
действует экономическое положение, а так, что люди сами делают свою историю, но
делают ее в данной среде, определяющей их собою, на основе данных фактических,
между которыми экономические отношения как ни сильно влияние, испытываемое ими со
стороны политических и идеологических, — все-таки оказываются в последнем счете
наиболее влиятельными, образуя ту красную нить, которая проходит через все остальные
отношения и которая одна и ведет нас к пониманию»
10
.
Хотя основная задача — ликвидация эксплуататорского строя в нашей стране —
была решена, довольно значительное количество преступлений продолжали порождать
чисто социальные факторы, связанные с последствиями империалистической и
гражданской войны, трудностями переходного от капитализма к социализму периода.
Достаточно отметить хотя бы то, что к началу 1923 г. в стране насчитывалось около 4 млн.
детей-сирот, из которых 3 млн. получали помощь от государства и общественных
организаций, но еще оставалось огромное количество нуждающихся в немедленной
поддержке
11
. Это не могло не сказаться и на положении с преступностью
несовершеннолетних.
По своему качественному составу преступность несовершеннолетних
характеризовалась в тот период высоким удельным весом имущественных преступлений,
в четыре раза превышавших посягательства против личности. Уже сам этот факт является
достаточно ярким подтверждением социальной природы преступности
несовершеннолетних
12
.
Преступность несовершеннолетних — лишь отражение состояния общей
преступности в государстве, и поэтому неудивительно, сколь рельефно социально-
экономические условия своего времени проявились в структуре преступности 20-х годов.
В этом отношении достаточно характерны данные о структуре преступности в городе и
деревне, приведенные в опубликованной Д. Радиным таблице, содержащей сведения об
осужденных в 38 административных районах РСФСР на 10000
8
населения в 1926 и 1927 гг. Из этих данных видно, насколько распространены были
имущественные преступления, занимавшие в структуре преступности первое место и
значительно превосходившие все другие преступления того времени
13
. Так, наиболее
распространенным в эти годы преступлением было хулиганство. Имущественные же
преступления более чем в два раза превышали хулиганство.
Из указанных данных нетрудно заметить, насколько хозяйственные затруднения
того периода самым непосредственным образом влияли на преступность. Уже первым
советским криминологам представлялась очевидной корреляция между экономикой
общества и преступностью. Но в отличие от буржуазных криминологов они
принципиально по-иному понимали сами экономические причины преступности, и это
было их огромной заслугой перед криминологической наукой. Если буржуазные
криминологи исходили из учения об экономических факторах, то марксистские
криминологи, признавая непосредственное влияние на преступность различных
экономических явлений, прежде всего обращали внимание на социальный строй
общества.
10
Ширвиндт Е. Указ. статья в сб., с. 6-7.
11
См. Софинов П. Страницы из жизни Ф. Э. Дзержинского. М., 1956, с. 124.
12
См. Трайнин А. Уголовное право, часть Общая. М., 1929, с. 166.
13
См. Радин Д. Преступность в РСФСР. М., 1928, с. 19.

Касаясь этого вопроса, М.@Н.@Гернет подчеркивал существенность того
обстоятельства, что буржуазные криминологи вкладывали чрезвычайно разнообразное
содержание в понятие экономических причин преступности и лишь немногие из них
сумели «разглядеть за тысячью социальных причин преступности единую социальную
причину — весь социально-экономический строй»
14
.
Исключительно важное значение для советских криминологов имели
основополагающие указания В. И. Ленина о специальных средствах борьбы с
преступностью, связанных с применением принуждения.
Указывая, что без принуждения, без диктатуры пролетариата переход от
капитализма к социализму невозможен, В. И. Ленин объяснял, что такая диктатура
необходима потому, что «все элементы разложения старого общества, неизбежно весьма
многочисленные, связанные преимущественно с мелкой буржуазией..., не могут не
«показать себя» при таком глубоком перевороте. А «показать себя» элементы разложения
не могут иначе, как увеличением преступлений, хулиганства, подкупа, спекуляций,
безобразий всякого рода»
15
.
9
В. И. Ленин всячески подчеркивал, что насилие направлено лишь против тех, кто
хочет восстановить свою власть. «Но этим и исчерпывается значение насилия, а дальше
уже имеет силу влияние и пример. Надо показать практически, на примере, значение
коммунизма»
16
. В. И. Ленин неоднократно предостерегал от опасности переоценки роли
террора, всячески подчеркивая, что гораздо более постоянной и глубокой остается
организационная работа с трудящимися массами. Он писал: «Вот в этой организации
миллионов трудящихся и заключаются наилучшие условия революции, самый глубокий
источник ее побед»
17
. Эффективность принуждения В. И. Ленин видел лишь в его опоре
на убеждение. «Диктатура пролетариата, — писал он, — была успешна, потому что умела
соединять принуждение и убеждение»
18
. На этих основных принципах формулировались
В. И. Лениным и программные положения советской уголовной политики. В «Конспекте
раздела о наказаниях пункта Программы о суде» В. И. Ленин писал:
1) > % условного осуждения
2) » » общественного порицания
3) замена лишения свободы принудительным трудом с проживанием на дому
4) замена тюрьмы воспитательными учреждениями
5) введение товарищеских судов (для известных категорий и в армии и среди
рабочих)»
19
.
Характеризуя деятельность судов и их задачи в Программе Российской
коммунистической партии (большевиков), В. И. Ленин писал: «В области наказания
организованные таким образом суды уже привели к коренному изменению характера
наказания, осуществляя в широких размерах условное осуждение, введя как меру
наказания общественное порицание, заменяя лишение свободы обязательным трудом с
сохранением свободы, заменяя тюрьмы воспитательными учреждениями и давая
возможность применять практику товарищеских судов.
РКП, отстаивая дальнейшее развитие суда по тому же пути, должна стремиться к
тому, чтобы все трудящееся население поголовно привлекалось к отправлению судейских
14
См. Гернет М. Н. Государственный институт по изучению преступности и
преступника. — «Административный вестник», 1926, № 11, с. 30.
15
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 195.
16
Ленин В. И. Полн. собр. соч. т. 42, с. 75.
17
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 38, с. 74.
18
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 42, с. 139.
19
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 38, с. 408.

обязанностей и чтобы система наказаний была окончательно заменена системой мер
воспитательного характера»
20
.
10
В. И. Ленин решал проблемы борьбы с преступностью с глубоким учетом
личностных качеств самих людей, совершающих преступления. В этом плане особенно
важным является положение В. И. Ленина о детерминации человеческих поступков.
«Идея детерминизма, — указывал В. И. Ленин, — устанавливая необходимость
человеческих поступков, отвергая вздорную побасенку о свободе воли, нимало не
уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий. Совсем напротив,
только при детерминистическом взгляде и возможна строгая и правильная оценка, а не
сваливание чего угодно на свободную волю»
21
.
Это особенно следует подчеркнуть потому, что в современной буржуазной
философской литературе всячески стараются представить, будто бы В. И. Ленин мало
интересовался проблемами человеческой личности. Между тем именно человек всегда
находился в центре его внимания. В. И. Ленин решительно опровергал домыслы
фальсификаторов марксизма о том, что марксизм будто бы считает личности «за
величину, не имеющую значения», и признает человека «случайностью», подчиненной
каким-то «имманентным экономическим законам». Он писал: «Этот довод целиком
повторяет круг идей эмпириокритической «принципиальной координации», т.е.
идеалистического выверта в теории Авенариуса»
22
. Касаясь этого вопроса,
А.@Г.@Мысливченко пишет: «В новых исторических условиях В.@И.@Ленин и его
последователи разрабатывали дальше и конкретизировали марксистское учение о
человеке... В философских исследованиях человека на первый план и ныне выступают
такие «традиционные» проблемы, как сущность и существование человека, соотношение
биологического и социального в нем, свобода и ответственность человека...»
23
.
Поскольку самим фактом совершения Великой Октябрьской социалистической
революции в Советском государстве были подорваны социальные корни преступности,
большой интерес с точки зрения этиологии преступности в социалистическом обществе
стал представлять человек, совершающий преступление, путем изучения которого можно
было определить то, что детерминирует преступность.
Изучение человека, совершающего преступление, — сама по себе исключительно
сложная задача. Сложность эта усугуб-
11
лялась еще и тем, что в буржуазной криминологии были довольно распространены
биологизаторские тенденции в объяснении причин преступности, классовый смысл
которых сводится к тому, чтобы с помощью такого рода теорий завуалировать подлинные
причины преступности в эксплуататорском обществе, переложив ответственность за
преступность с буржуазного общества на так называемого преступного человека.
Империалистическим государствам такие теории нужны и для того, чтобы с их помощью
обосновать разрушение буржуазией ею же созданной законности, оправдать
захватнические войны «расовым превосходством» одних наций над другими.
В таких условиях работа в области советской криминологии требовала не только
научного изучения личности преступника и преступности, но и разоблачения
ломброзианских и неоломброзианских теорий.
20
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 38, с. 431.
21
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 159.
22
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 337.
23
См. Ленинизм и философские проблемы современности. М., 1970, с. 413.

Однако поскольку в России идеи антропологической школы уголовного права не
имели какого-либо заметного распространения, а уголовно-правовые теории
дореволюционной России строились на принципах классической школы, в
криминологических исследованиях важно было прежде всего преодолеть
формалистическое мышление в вопросах борьбы с преступностью и создать широкую
научную основу для этих исследований. Этому во многом способствовало объединение
ученых различных областей знаний в работе криминологических учреждений, созданных
в нашей стране уже в начале 20-х годов.
В предисловии изданной в 1925 году Мосздравотделом брошюры «Изучение
личности преступника в СССР и за границей» Отдел здравоохранения Московского
Совета объяснил ее выпуск стремлением «хотя бы в небольшой мере удовлетворить
значительный интерес к этой проблеме, который все отчетливее выявляется со стороны
юристов, врачей, судей и других работников, соприкасающихся в своей деятельности с
конкретным, живым преступником»
24
. Ответить на вопрос «кто такой преступник?», с
которым часто обращались в Московский кабинет по изучению личности преступника и
преступности, и было главной задачей авторов этой брошюры.
Для истории становления советской криминологической науки особый интерес
указанной работы состоит в том, что в ней провозглашаются методологические основы
марксистской криминологии, предопределившие ее развитие на многие годы. Их суть
формулировалась следующим образом. «Поскольку
12
мы стоим на почве научного детерминизма, отрицая так называемую «свободу воли»,
считая, что каждый наш шаг, каждая мысль является результатом сложного
взаимодействия влияний, социальных и биологических, на наш организм, — мы не
можем, конечно, смотреть на преступника, как на носителя свободной злой воли (точка
зрения классической школы уголовного права), а видим в нем, в его личности и поступках
продукт среды, условий индивидуального развития и т.д., что в сумме обусловливается,
конечно, существующими общественно-экономическими отношениями»
25
.
Глубокое понимание социальной сущности преступности и умение диалектически
мыслить совершенно исключало у марксистских криминологов 20-х годов какое-либо
недопонимание биологических детерминантов преступного поведения, не говоря уже о
противопоставлении социального биологическому. Так, в принципиальной статье
Е.@Ширвиндта «О методе изучения преступности и мер борьбы с ней в СССР»,
указывалось: «Социальные факторы определяют и биологическую индивидуальность
деятеля; действие их проявляется трояким образом: а) они влияют на предков
преступника, а тем самым на него, на прирожденные свойства его личности; б) они
определяют телесное и душевное развитие преступника, то есть его благоприобретенную
индивидуальность; в) они оказывают на него влияние в момент совершения им
преступления»
26
.
Исходя из этих принципиальных положений, главное внимание криминологи 20-х
годов и сосредоточили на познании того сложного взаимодействия социальных и
биологических влияний на человека, которое предопределяет его преступное поведение.
Таким образом, и на это специально обращалось внимание, изучение личности
преступника строилось не на отвлеченных рассуждениях о свободе воли, морали, а на
стремлении познать психофизические черты преступника «как социально-биологической
единицы». Изучение социальных и психофизических качеств давало возможность
24
Изучение личности преступника в СССР и за границей. М., 1925, с. 3.
25
Там же.
26
Ширвиндт Е. О методике изучения преступности и мер борьбы с ней в СССР. —
В сб.: Проблемы преступности. Вып. 2. М.-Л., 1927, с. 5.

ответить на вопрос «Кто такой преступник?», узнать, какие обстоятельства
детерминируют преступное поведение. Провозглашение же общих, хотя и бесспорно
правильных положений о социальной природе преступности, о роли материальных
условий жизни, о воспитании само по себе не превращало криминологию в науку,
13
способную активно влиять на повышение эффективности специальных средств борьбы с
преступностью в условиях социалистического государства. Сложность задач, вставших
перед криминологической наукой в Советском государстве, определялась, во-первых, тем,
что она не могла лишь повторять уже известные, не требующие доказательств
марксистские положения о социальной природе преступности, зависящей в
социалистическом обществе от недостаточного (в смысле распределения материальных
благ «каждому по потребностям») материального уровня жизни, недостаточного
сознательного и культурного уровня народа, и, во-вторых, тем, что она должна была
ответить на вопрос, почему в условиях социального равенства в государстве трудящихся
одни лица, оказавшиеся в неблагоприятных для них условиях жизни, преступлений не
совершают, а другие при тех же условиях свои потребности удовлетворяют преступным
путем? Именно это и предопределило главное направление в развитии советской
криминологической науки 20-х годов, связанное с выдвижением изучения личности
преступника как центральной проблемы.
Так, А. А. Герцензон считал в те годы само собою разумеющимся, что «стремление
в каждом данном случае найти исключительно социологическое объяснение причин
преступного поведения изучаемой личности правонарушителя приводит к механическому
материализму»
27
.
Развивая указанные положения, А. А. Герцензон останавливается на
характеристике самого метода изучения правонарушителей и, таким образом, вскрывает
суть подхода к изучению причин преступного поведения, не сводящегося к
механическому материализму. Представление об этом марксистских криминологов 20-х
годов уже само по себе ценно для историка криминологической науки. Прежде всего
характерно само название этого метода — «индивидуально-социологическое изучение
правонарушителей». Как представлялось А. А. Герцензону, оно должно состоять в
изучении быта, среды, взятых в индивидуальном разрезе данной личности, с которыми
связана эта личность как в своем социальном, так и в антисоциальном поведении. «Само
собой разумеется, — писал он,— что эта индивидуально-социологическая характеристика
должна быть оттенена широким социально-экономическим фоном,
14
в результате чего более резко выделяются индивидуальные черты, и в то же самое время
за деревьями не теряется перспектива леса»
28
. Употребление столь образного выражения,
к сожалению, не прояснило позиции автора по вопросу трактовки самого понятия
индивидуальных черт преступника, не говоря уже о методологическом значении их
изучения для понимания причин преступности.
По мнению указанного автора, конечной целью «индивидуально-социологического
изучения правонарушителей» должно явиться социологическое заключение, состоящее из
трех моментов: анализа криминогенности социальных условий жизни правонарушителя,
отнесения правонарушителя к соответствующей категории и предложения определенного
социального прогноза. Однако, если руководствоваться лишь изложенным, вряд ли
27
Герцензон А. А. К методике индивидуально-социологического изучения
правонарушителей. — В сб.: Преступник и преступность. Сб. II. М., 1927, с. 152.
28
Указ. сб., с. 160.

возможен какой-либо социальный прогноз. Очевидно понимая это, А. А. Герцензон далее
вводит дополнительные и при этом довольно важные условия возможности обеспечения
успеха такого прогноза. Указывая на ответственность и сложность прогнозирования
социального поведения, он пишет уже следующее: «...именно здесь особенно выпукло
чувствуется зависимость социолога от представителей биопсихологической
специальности: социолог может констатировать различие или отсутствие в данном случае
благоприятствующих совершению преступления моментов, но он не сможет объяснить,
почему данная личность реагировала на совокупность сложившихся социально-
экономических условий именно так, а не иначе»
29
.
Признавая невозможность для социолога объяснить причины определенного
реагирования данной личности на сложившиеся социально-экономические
обстоятельства, А. А. Герцензон подвергает острой критике тех социологов, которые
пытаются самостоятельно анализировать индивидуально-психологические качества, а
затем приходит к заключению, что «возможность социального прогноза в каждом данном
случае обусловлена, в первую очередь, наличием ясного представления об особенностях
данной личности, сложившихся в результате сплетения, взаимодействия и столкновения
социальных и биологических моментов»
30
. В свете изложенного А. А. Герцензон считал,
что «с точки зрения криминологии не может быть отдельного социологического и
биопсихологического за-
15
ключения или прогноза. Заключение о данной личности получается в результате
суммирования данных о социальных условиях в прошлом, о биологических особенностях
личности, взятых в динамическом разрезе, и об интеллекте исследуемого
правонарушителя»
31
.
Такая позиция как методологическая основа марксистской криминологии никем в
советской криминологической литературе не оспаривалась вплоть до 1929 года. Как
основополагающая она излагалась и в учебной литературе. Так, в вышедшем в 1929 г.
учебнике по Общей части уголовного права профессора 1-го Московского
госуниверситета А. Н. Трайнина содержалась критика буржуазных криминологических
теорий и формулировались марксистские принципы науки об изучении причин
преступности. А. Н. Трайнин отмечал, что все школы уголовного права исходили и
исходят из идеи и надежды побороть преступность в рамках существующих социальных
отношений, объясняя причины преступности злой волей преступника, его
прирожденными отклонениями, пороками карательной политики, видя эти причины в чем
угодно, но только не в самой капиталистической системе.
Формулируя методологические основы изучения преступности в условиях
социалистического общества, А. Н. Трайнин писал, что преступность можно познать
путем изучения значительного числа фактов в их связи и взаимодействии. Обращая
внимание на невозможность решить указанную проблему путем изучения изолированного
человека в качестве субъекта общественно опасного действия, он в то же время
подчеркивал, что «изучение психологической структуры правонарушителя остается
существенной задачей криминологических исследований, как не теряет значения
индивидуальная психология и физиология с признанием доминирующей роли
производственных отношений»
32
.
Поясняя свою мысль, А. Н. Трайнин отмечал, что дурная наследственность,
физические или психические аномалии не имеют решающего значения в движении
29
Там же.
30
Там же, с. 160-161.
31
Там же.
32
Трайнин А. Н. Уголовное право. Общая часть. М., 1929, с. 27-28, 141.

преступности, поскольку общественные явления определяются социальными рычагами и
сами указанные факторы лишь производны от социальных основ человеческой жизни.
Поэтому весь комплекс индивидуальных психических и физических особенностей и
@
16
уклонов в конечном счете подчинен единому общему фактору — определенной системе
производственных отношений
33
. Эти высказанные еще в 20-х годах теоретические
положения одного из авторитетных советских ученых-криминологов свидетельствуют о
том, что марксистской науке не чужд подход к человеку как к биосоциальному существу,
признание значения психофизических свойств личности для изучения преступности и
объяснение этих свойств определенными социальными условиями жизни людей,
понимаемыми в широком плане. Ведь и самого человека создал труд. Уже этого
достаточно, чтобы увидеть принципиально различный подход советской и буржуазной
криминологии к оценке роли психофизических качеств человека в этилогии преступности.
Практическим изучением преступности и преступника в нашей стране занимались
специальные кабинеты по изучению преступности и преступника, созданные в Москве,
Ленинграде, Саратове, Харькове, Киеве, Одессе, Минске, Ростове-на-Дону, Иркутске и
Баку, деятельность которых направлял и координировал Государственный институт по
изучению преступности и преступника, созданный в Москве в 1925 г.
Ознакомление с деятельностью этого института по соответствующим
информационным отчетам и его научным трудам прежде всего свидетельствует о том
внимании, которое проявляли к нему члены Советского правительства. Руководители
института придавали большое значение установлению взаимных контактов института с
соответствующими наркоматами, заинтересованными в его деятельности. Характерным в
этом отношении является первое пленарное заседание, состоявшееся 18 декабря 1926
года, на котором выступали с общедирективными указаниями народные комиссары:
внутренних дел — А. Г. Белобородов, здравоохранения — Н. А. Семашко и просвещения
— А. В. Луначарский.
В выступлениях наркомов были затронуты основные вопросы деятельности
Государственного института по изучению преступности и преступника и определены
методологические основы его работы. Нарком здравоохранения Н. А. Семашко прежде
всего обратил внимание на то, что Уголовный кодекс редакции 1926 года «навсегда
покончил с понятием «наказание» и твердо установил характер допустимых мер
воздействия на преступников, то есть «мер социальной защиты», разграничив их на меры
судебно-исправительного, медицинского и
17
медико-педагогического характера». Научная разработка характера и системы мер
социальной защиты, по мнению Н. А. Семашко, и является одной из первоначальных
задач института. Н. А. Семашко призвал институт разрабатывать, в частности,
методологические основы принудительного лечения правонарушителей, особенно
находящихся в изоляции. Он указал на необходимость особо разработать ряд
мероприятий социально-педагогического характера в отношении несовершеннолетних
правонарушителей. Нарком здравоохранения отметил, что «редакцией Уголовного
кодекса 1926 года советская власть ясно указала на то, что ею приписывается важная роль
элементу медицинского воздействия на преступника и перед институтом стоит ряд
вопросов как научного, так и непосредственно практического значения, подлежащих
всестороннему освещению и изучению в этом отношении». Касаясь методологии
изучения явлений преступности, Н. А. Семашко указал на то, что в советском уголовном
33
См. там же, с. 141-142.
