Лоуэнталь Дэвид. Прошлое - чужая страна
Подождите немного. Документ загружается.

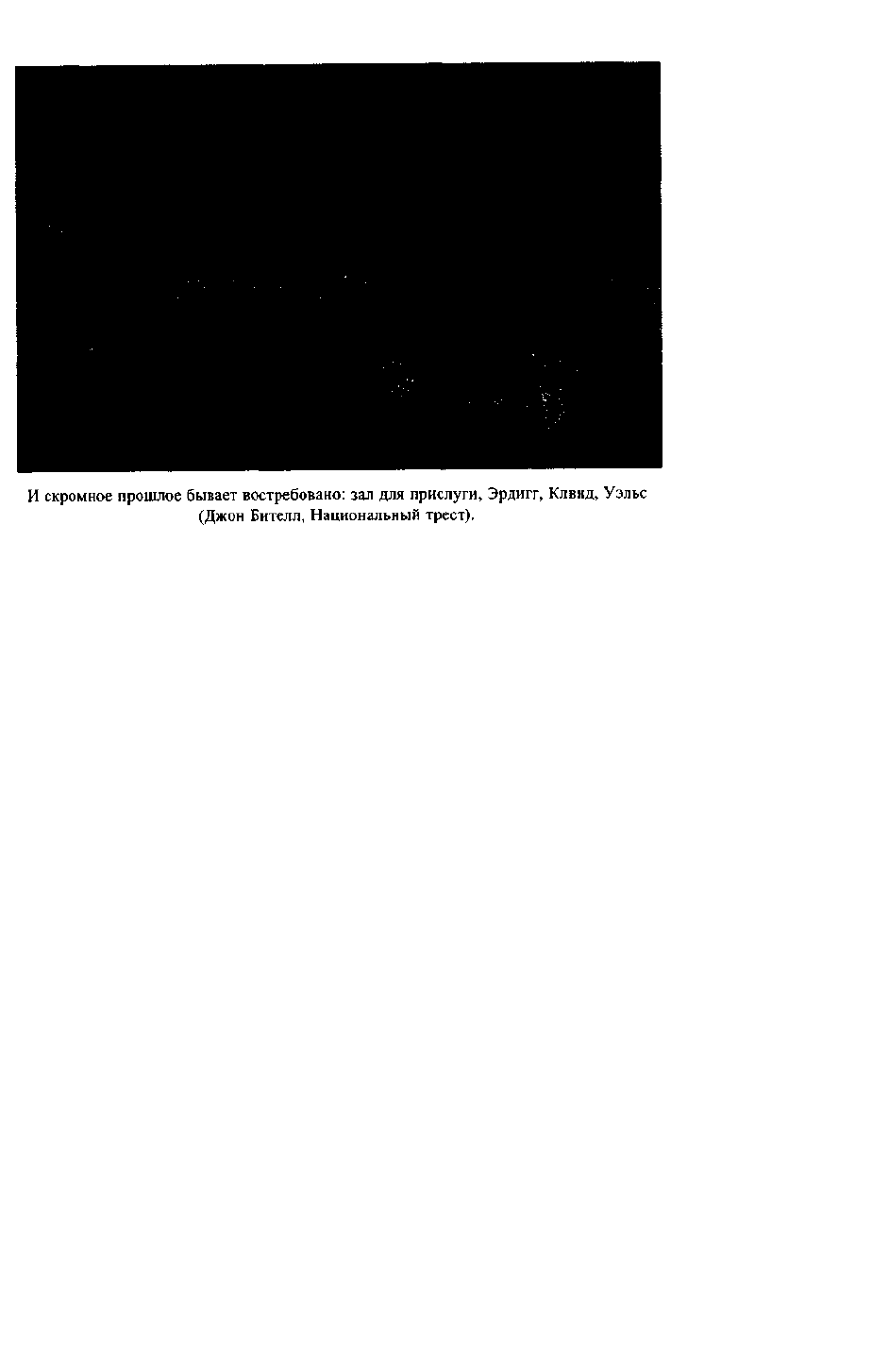
точной Европе наблюдаются сходные тенденции: В Праге на охрану исторических
памятников в 1980 г. тратили в шесть раз больше, чем в 1964 г.
1
Представляющиеся заслуживающими реставрации здания становятся не только более
многочисленными, но и более разнообразными. Охраняемое прошлое теперь включает в себя
строения, возведенные не ранее 1960-х гг., типичные образцы наряду с архетипическими
чертами, дома простых людей наряду с имениями знати, местные достопримечательности
наряду с памятниками всемирного значения. Помимо индивидуальных строений, охрана
памятников также включает в себя их окрестности и целые города. В качестве ценных
реликтов рассматривают также и ландшафты: Эгдонская пустошь (Egdon Heath) в Дорсете
2
с
ее уникальной флорой, а также связанными с Томасом Харди ассоциациями, которым в
равной мере угрожало соседство с атомной станцией, была названа «столь же
неприкосновенной, как и готический собор».
3
Представление о том, что заслуживает сохранения, зависит от того, что мы считаем
исторически значимым, и расширяется по мере того,
1
Carter. Conservation Problems of Historic Cities in Eastern Europe. P. 32. См. его же: Balkan historic cities; Tarnoczi.
Conservation et reintegration des monuments historiques... en Hongrie. P. 19—30; Lorentz. Protection of monuments.
2
Эгдонская пустошь фигурирует в романе Томаса Харди «Возвращение на родину» (1878). —Примеч. пер.
3
Booker Christopher. The nuclear threat to Hardy's heath, The Times, 20 Feb. 1982. P. 6. В действительности мотив Элдона в
творчестве Харди представляет собой собирательный образ всех пустошей его детства. (Hawkins. Hardy's Wessex. P. 24,
25, 46—48).
583
как расширяется последнее. Невоспетые фигуры и события обретают новую стать,
заслуживающими внимания оказываются целые аспекты прошлого. В Америке предметом
почитания все чаще становятся дома президентов и патриотов, места исторических сражений
и пограничные форты; охранные приоритеты теперь чаще фокусируются на промышленности,
искусстве и ранее отвергаемых меньшинствах. Туристы, посещающие дома плантаторов
довоенных времен, также толпятся и около хижин рабов, которые прежде не замечали по той
причине, что они вызывают нежелательные ассоциации. Жилища прислуги в домах
Национального треста в Великобритании теперь также привлекают посетителей, чьи родители
поколение назад обращали внимание исключительно на роскошные и аристократические
части зданий.
1
Охранные мероприятия, которые прежде были направлены лишь на известные и высоко
чтимые памятники, теперь расширяют свой ареал, включая в себя и окрестности сугубо
местного значения. «Места, которым мы принадлежим,... — это наша точка опоры, причем в
большей мере из-за стойкости их обитателей, нежели из-за архитектуры, — пишет Лайонел

Брест. — Они могут быть безобразными, по большей части весьма убогими и неизменно
перенаселенными... Гражданские сообщества страстно защищают каждый булыжник», но то,
что они защищают «более беззаветно, чем кирпичи и камни», — это то, что Симона Вейль
называла I'Enracinement, укорененностью».
2
Многие общины стремятся сохранить такие
строения и ландшафты, которые никто не смог бы назвать «эстетичными» или
«историческими», а, возможно, даже и приятными или удобными. Охрана в этом отношении
простирается и на индустриальные ландшафты, включая в себя не только собственно
фабрики, но даже целые рабочие районы. «Наша идентичность лежит в этом урбанистичном
индустриальном прошлом», — утверждает инициатор создания первого американского
урбанистического исторического парка Лоувелл, шт. Массачусетс. Охранная территория Лоу-
велла защищает коллективное наследие обитателей городов как «подтверждение их
прошлого».
3
Близость по духу остается главным мотивом сохранения, большинство следов прошлого мы
ценим прежде всего за их красоту и гармоничность. Привлекательность, разнообразие и
исторические ассоциации, — вот основные причины, по которым население Гилфорда хотело
бы сохранить старинные здания.
4
Исторические здания представляют
1
Drury Martin. National Trust. Interview 12 Sept. 1978. См.: Waterson. Servants Hall. P. 9—18.
2
Brett. Parameters and Images. P. 143. По поводу различий между «общественными образами» (public images) и «полями
внимания» (fields of care) см.: Тиап. Space and place. P. 237—245.
3
Mogan Patrick. Paraphrased in Jane Holtz Kay. Lowell, Mass. — new birth for us all // The Nation. 17 Sept. 1977. P. 246. См.:
Lowell Mass. Lowell Historic Canal District Commission. 1977. App. 2. P. 70—84.
4
Bishop. Perception and Importance of Time in Architecture. Table 28. P. 218.
584
собой «более богатый источник благосостояния, чем современная архитектура», — к такому
выводу приходят авторы широкомасштабного исследования предпочтений англичан.
1
Как
показали недавно проведенные обследования строительных компаний, 3/4 впервые покупаю-
щих жилье англичан предпочли бы иметь более старые дома, нежели те, в которых они жили
до сих пор; но при этом лишь менее 1/4 тех, кто искал викторианские дома, смог найти
желаемое.
2
При этом имеются вполне разумные причины, по которым старинные дома считают более
привлекательными и пригодными для жизни: материалы, из которых они построены, обычно
превосходят скрупулезно рассчитанные на минимальные требования современные строения,
они прочнее, просторнее, в них теплее зимой и прохладнее летом, в них лучше звукоизоляция,
чем в новых зданиях. «Средний домостроительный минимальный стандарт середины XX в.,
— приходит к выводу Американский национальный трест, — определенно не соответствовал
бы средним требованиям прочности домов XIX в.», а убогие послевоенные жилища в
Британии ветшают значительно быстрее, чем те, что сохранились от викторианских времен.
3
Конечно, далеко не всякая реликвия красива и желанна. Как и все прошлое в целом,
унаследованное нами достояние имеет различную ценность, наряду с «картинами старых
мастеров на резной панели над камином в гостиной, каждая из которых, по-видимому,
обладает высокими достоинствами», в старом фамильном поместье могут быть и от-
слаивающиеся обои в спальне прислуги».
4
Сохранившиеся следы прошлого могут
одновременно вызывать и почитание, и отвращение. Пробираясь сквозь капусту, старый
шестиколесный дизельный вездеход и театральные подпорки старого Ковент Гардена, Том
Байстоу (Т. Bais-tow) решил, что «любовь презервационистов к этому плотно упакованному,
вонючему, распутно-неряшливому и полному жизни уголку Лондона уравновешивается
только глубоким убеждением в том,... что всю эту чертову уйму надо сравнять бульдозером».
5
Писатель, назвавший Ланкашир донкихотским в «его верности обширным индустриальным
памятникам», тем не менее высказывался за их сохранение, поскольку «в борьбе за
преодоление серости экономики, обидно было бы нанести ущерб душе». Однако даже душа
может погибнуть в климате северной Англии. Манчестерские дожди повергли одну
любительницу старины в такую депрессию, что она уже готова была согласиться с «извращен-
ной ментальностью замшелого
6
члена совета от лейбористов, который
1
Morris Colin. Townsciape Images. P. 268. См. его же: Townscape images: a'study in meaning. P. 267, 269, 274, 283, 284.
2
Alliance Building Survey, 1978. Цит. по: Freeman Jenny. Mortgage myopia. P. 293.
3
Stephen. Rehabilitating Old Houses. 1976. P. 2; Nordheimer Jon. London 1983: everything is falling down, IHT; 29 July 1983.
P. 1—2.

4
Faulkner. Philosophy for the preservation of our historic heritage. P. 455.
5
Baistow Tom. The Govern Garden to come // New Statesman. 19 Apr. 1968. P. 511.
6
В тексте стоит: dyed-in-the-wood, аллюзия на dyed-in-the-wool (закоренелый), что мы и попытались передать словом
«замшелый». — Примеч. пер.
585
ратовал за то, чтобы убрать из города все следы времен Виктории и Эдуарда».
1
Здания выступают главным катализатором коллективной исторической идентичности,
поскольку представляются неотъемлемо связанными с окружающей обстановкой и
переживают большинство других реликтов.
2
Однако внимание охранителей распространяется
также на манускрипты и автомашины, немые фильмы и паровые двигатели; большинство,
если не все, объектов недвижимости ценят за то чувство сопричастности наследию,
древности, преемственности, которое они сообщают современности. Почитаемое прошлое
простирается от величественных памятников — до самых легкомысленных меморабилий, от
долговременных остатков прошлого — до простой тени того, чем эти вещи были прежде.
Практически любые старые вещи, которые лет двадцать назад просто выбросили бы на
свалку, сегодня находят свое место в повседневной истории или в сердцах коллекционеров.
Мы идем к тому, чтобы беречь любого рода сохранившиеся от прошлого вещи, будь то для
повторного функционального использования, или же в качестве сувениров.
Конечно, любителями архитектурных реликвий, археологических достопримечательностей,
древних ландшафтов и разного рода коллекционерами движут разные мотивы. Однако
несмотря на своеобразие интересов, между ними есть много общего.
3
Сохраняемые реликвии
расширяют наше чувство истории, приобщают нас к прошлому нашего собственного и других
народов, распространяет отблеск славы на нацию, соседей и индивидов. Посреди
ошеломляющей новизны исторические достопримечательности и старинные предметы
придают нам чувство безопасности, старинные стены и кирпичи делятся с нами своей зримой
и осязаемой стабильностью. От уставленных фотографиями каминных полок и
загроможденных антиквариатом гостиных — до сохраненной Помпеи и восстановленного
Вильямсбурга, охрана памятников дает нам приют, пронизанный миром и трепетом, величием
или близостью некоего прошлого. Чтобы противостоять разрушению и предотвратить эрозию,
мы обращаемся к бесценной устойчивости, практическому бессмертию, о которое время
ломает зубы.
Источники и мотивы
Стремление к сохранению наследия проистекает из следующих взаимосвязанных допущений:
что прошлое непохоже на настоящее; что его реликты необходимы для формирования нашей
идентичности и представляют интерес сами по себе; и что осязаемые частицы прошло-
1
Johnson Dennis. Masochism in Lancashire. Ibid. 1 Mar. 1968. P. 262; Angus Anne. What's wrong with the North? New
Society. 13 July 1967. P. 55.
2
Parent. Doctrine for the conservation and preservation of monuments and sites. P. 47.
3
Csikszentmihalyi and Rochberg-Halton. Meaning of Things. P. 62—96, приводит различные причины, по которым
собирают старую мебель, произведения искусства, фотографии, книги, тарелки и серебро.
586
го — это такая вещь, каких не много и которая со временем встречается все реже. Чем
стремительнее поступь перемен, чем заметнее настоящее отличается даже от недавнего прошлого,
тем более драгоценным и хрупким представляется большая часть материального наследия, так что
мы забываем о сравнительно недавнем происхождении этого осознания. В течение многих
тысячелетий большинство людей жило при тех же самых обстоятельствах, как и их предки, мало
задумываясь об исторических переменах и едва различая прошлое и настоящее. Они с трудом
сознавали отличие прошлых времен от их собственного.' Сохраняли лишь немногое, поскольку
чувство прошлого как состояния того, чего уже больше нет, еще не сформировалось. Для
средневекового человека великие творения готической архитектуры, по замечанию Е.А. Фримена,
«представляли собой не прошлое, а настоящее».
2
Действительно, как считает Ч.П. Сноу, до начала
XX в. социальные перемены происходили «настолько медленно, что на протяжении своей жизни
индивид их не замечал».
3
Отличие прошлого от настоящего стало заметным лишь во времена Ренессанса, когда
установленный гуманистами контакт с античностью высветил, как уже отмечалось в главе 3, ее
несхожесть с недавним средневековьем и заставил остро почувствовать дистанцированность от
античного Рима. Однако, несмотря на весь свой интерес к классическому прошлому, гуманисты
уделяли мало внимания его сохранившимся фрагментам. Антиквары старались сохранить

классические манускрипты и надписи, однако их интерес редко распространялся на прочие
материальные остатки прошлого; спасение священных реликвий послужило утешением Флавио
Биондо (Flavio Biondo) за утрату классической архитектуры.
4
Почитатели старины были менее
склонны
1
«Слова и фразы, при помощи которых мы выражаем то чувство, что прошлое представляет собой нечто отличное от
настоящего,... все они современного, а большинство — вообще совсем недавнего происхождения» (Smith Logan Pearsall.
English Language. P. 227).
2
Freeman E. A. Preservation and Restoration (1852). P. 15. См.: Michael Hunter. Germanic and Roman antiquity and the sense
of the past in Anglo-Saxon England. P. 46, 47; Hay. Annalists and Historians. P. 91.
3
Snow. Two Cultures and the Scientific Revolution. P. 40. См.: John Berger. Painting and time.
4
Flavio Biondo, Roma instaurata (1447). Цит. по: Burckhardt, Civilization of the Renaissance in Italy, 1:186. См.: Буркхардт
Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1966; Weiss, Renaissance Discovery of Classical Antiquity. P. 65—70.
Флавио Биондо (1392—1463), итальянский гуманист эпохи Ренессанса, автор первой истории Италии, в которой
содержится первое зарождающее представление о предшествующем времени как эпохи средневековья. Автор 3-томного
труда «De Roma instaurata» (1444—1446), в котором он восстанавливает топографию античного Рима. В 1459 г. Биондо
пишет книгу «De Roma triumphante», в которой языческий Рима предстает как образец для новых реформ
административных и воинских институтов. Книга имела большое значение для формирования папской власти как
преемницы Римской империи. В двух наиболее значительных работах Биондо Italia illustrate (1448—1458) и Historia-rum
ab inclinatione Romanorum imperii decades (1439—1453) описывается география и история 18 итальянских провинций,
начиная от Римской республики и Империи, и прослеживаются судьбы античной культуры на протяжении 400 лет
нашествия варваров, а также влияние на них зарождавшейся христианской культуры во времена Карла Великого и
последующих императоров. — Примеч. пер.
587
сохранять античные храмы и скульптуры ради них самих, нежели использовать их для
собственных творений: извлекать мрамор из старых руин было гораздо дешевле, чем
доставлять его из Каррары. Римские резчики по мрамору и производители извести были
практически общепризнанными разрушителями античных памятников, папский престол по
этому поводу даже обложил их специальным налогом.
1
Однако по заключению Роберто Вайсса, именно страсть к перестройкам по классическим
образцам привела к разрушению большей части того, что сохранилось от античного Рима.
Работы, начатые при папе Николае V (1447—1455), привели к уничтожению всех следов ан-
тичности, которые оказались на пути спрямленной дороги к новой церкви. Пий II сокрушался
по поводу плачевного состояния развалин Рима и в 1462 г. издал специальную буллу, их
защищающую. Однако и он снес восточную колоннаду портика Октавия и другие античные
памятники, когда понадобились камни для новых зданий в Ватикане. Сикст IV (1471—1484)
ограничил вывоз античных статуй и камней для строительства и основал Ватиканскую
коллекцию древностей, однако не сделал ничего, чтобы остановить уничтожение храма
Геркулеса на «Бычьем форуме» (Forum Boarium) и использование прочих античных
фрагментов в качестве пушечных ядер. Прославленная пирамида Мета Ромули (Meta Romuli)
в 1499 г. уступила место для новой дороге Via Alessandrina, а Лев X (1513—1521)
пожертвовал другими античными строениями для того, чтобы спрямить дорогу к Капитолию.
Удрученный зрелищем «трупа благородного города,... столь прискорбно разрушенного и
обезображенного», Рафаэль убедил Льва X прекратить добычу камня из античных памятников
для строительства собора Св. Петра, и в 1515 г. это было официально прекращено. Однако
влияние Рафаэля было слишком невелико, и после его смерти в 1540 г. программа сохранения
была прекращена.
2
Но даже Рафаэль стремился сохранить античные памятники не ради них
самих, но для того, чтобы они вдохновляли будущие творения, «сохранить образцы древних
для того, чтобы с ними сравняться или их превзойти».
3
Конечно, те античные здания, которые все еще используются — Пантеон, Кастель Сан-
Анжело, Капитолий, — много раз чинились и реставрировались, однако, за исключением
Рафаэля, никто не пытался спасать те древности, которые не имели утилитарного значения.
Лишь немногие реликвии такого рода — арка Тита, храм Весты — отчасти были взяты под
защиту при Павле II и Сиксте IV, однако после 1484 г. даже они были оставлены на произвол
судьбы. В целом, руины, арки, бани, театры и форумы античного Рима были предоставлены
разрушительному воздействию погоды, жадности строительных подрядчиков и
1
Weiss. Renaissance Discovery. P. 98; Ross J. B. A study of twelfth-century interest in the antiquities of Rome. P. 309; Greene.
Light in Troy. P. 236.
2
Weiss. Renaissance Discovery. P. 98—101.
3
Raphael and Castiglione to Leo X. Цит. по: Portoghesi. Rome of the Renaissance. P. 36.

588
каменотесов, а также амбициям градостроителей.
1
Причитания горстки гуманистов были
воплем среди глухих. До конца XIX в. жители Рима так и не занимались всерьез охраной
античных памятников, да и то движел ими вовсе «не вкус, не уважение к древности, но только
лишь алчность», как писал один французский путешественник: античные памятники ценили
за то, что те привлекают туристов.
2
Однако скупость, жадность и битва амбиций не являются единственными причинами
неготовности представителей Ренессанса к охране материальных следов античности.
Гуманисты считали, что слава прошлого лучше сохраняется в языке, чем в физических
остатках. Ахилла до сих пор помнят благодаря Гомеру, отмечает Дю Белле, тогда как те, чья
память заключена в колоссах или пирамидах — уже давно позабыты. Реликты были не только
эфемерны, но и разбросаны по обширной территории, погребены глубоко под землей, многие
из них ныне утрачены или рассыпались в пыль. Хотя дошедшие до наших дней остатки
древнего Рима «вполне способны наполнить нынешний век чувством восхищения», Монтень
видел в них всего лишь руины руин, «еще менее ценные из-за обезображенных конечностей».
3
Как мы видели в главе 3, старинные предметы выкапывали из земли вовсе не для того, чтобы
хранить античные фрагменты, но для того, чтобы вернуть мертвые памятники к жизни,
реконструировать обезображенные творения. Лишь немногие гуманисты, как, например, архи-
тектор XVI в. Себастьяно Серлио (Sebastiano Serlio),
4
стремились включать разрушенные,
разбитые, анахронистичные фрагменты в новые здания, расширяя тем самым их
выразительный диапазон и добавляя прошлое время в грамматику архитектурного языка
современности. Но вместо этого большинство считало такие фрагменты трогательными, если
не страшно дряхлыми или вообще мертвыми. Они стремились не к мумифицикации, но к
оживлению реликтов за счет сообщения им новой формы.
5
1
Weiss. Renaissance Discovery. P. 103, 104. «Как бы иронично это не звучало, но именно Ренессанс принес наибольшие
разрушения римским руинам, чем какой-либо другой век: новый Рим Ренессанса означал уничтожение старого Рима» (р.
205).
2
L. Е. F. Ch. Mercier Dupaty, Lettres sur 1'Italie, en 1785. Цит. по: Mortier. Poetique des mines. P. 149. Историк Шарль
Дюкло (Duclos) считал, имена тех римских пап, которые допустили разрушение античных римских монументов, нужно
внести в проскрипционные списки (Considerations sur I Italie. 1767 // Mortier. P. 146).
3
Du Bellay. Deffence et illustration de la langue francoyse. 1549. Bk II, Ch. 5; Montaigne. Travel Journal. 26 Jan. 1581. P. 79.
4
Серлио Себастьяно (1475—1554), итальянский архитектор, художник и теоретик искусства, внедривший принципы
античного Рима во французскую архитектуру. Хотя он и не был особенно влиятелен как архитектор, широкую
известность получил его трактат «Tutte Гореге d'architettura, et prospetiva» (1537—1575), переведенный на ряд ев-
ропейских языков. Эта работа представляла собой, скорее, практическое руководство по классическому греко-
романскому стилю, ряд иллюстраций с комментариями, нежели эссе по эстетике. — Примеч. пер.
5
Greene. Light in Troy. P. 235, and Ch. 8. Poliziano: the past dismembered. P. 147—170. См.: Ackerman. Planning of
Renaissance Rome. P. 13; Thompson M. W. Ruins. P. 15.
589
Стремление сохранять частицы прошлого в отличие от того, чтобы придавать им новую форму
или имитировать, исходит от нескольких событий конца XVIII—начала XIX вв. Одним из них
было осознание того, что история не задается ни судьбой, ни какими-либо иными константами
человеческой природы, но представляет собой органический, многогранный и многообразный
процесс, подверженный многочисленным случайностям. Коль скоро все народы стали
рассматривать как уникальные, а каждую эпоху — как неповторимую, осязаемые памятники и
физические реликты приобрели первостепенную значимость для понимания истории, и эта
усвоенная оригиналами и аутентичными физическими фрагментами ведущая роль в свою очередь
дала импульс к их сохранению. Однако по мере того, как сознание историчности все более и более
наполняло жизнь историческим измерением, те темы, которые ранее виделись и изучались как
часть великой человеческой истории — природа, язык, богатство (если следовать Фуко),
1
—
теперь стали предметом изучения самостоятельных дисциплин, лишая историю в целом большей
части ее прежнего явного содержания и затеняя прежнее единство космической хронологии и
аналогии макро- и микрокосма. Растущая загадочность исторического сознания и неумеренная
привязанность к документам и физическим следам прошлого помогли компенсировать эту
ментальную эрозию. Люди ухватились за материальные символы ролей, свойственных прежней
истории, за вещи, чья историчность отражала образ их собственного Я в самосознании, который
теперь уже не выглядел более вневременным и универсальным, но стал органичным,
гетерогенным и специфичным в отношении времени и места.
2
Еще одним импульсом по направлению к сохранению, связанным с предыдущим, стал

национализм: местные диалекты, фольклор, народные промыслы и предметы старины стали
очагами группового сознания и национальной идентичности для вновь появляющихся — и
зачастую, вынужденных отстаивать свои права на существование — национальных государств.
Как отмечает Мюнц, реликвии сообщают традиции преемственность и выступают зримыми
гарантами национальной идентичности:
Поскольку националистическая доктрина требует от людей, чтобы они верили, будто каждая нация существует уже
много веков, даже тогда, когда ее существование ни в социальном, ни в политическом отношении не было заметно,
доказательства существования зависят от непрерывности ее лингвистической и культурной согласованности. А
поскольку даже такая согласованность не была очевидна невооруженному глазу, историки... показывали, что руины и
документы прошлого... были частью культурного наследия каждой нации, памятниками культурной непрерывности.
3
1
Имеется в виду его метод «археологии знания». См.: Фуко М. Слова и вещи. М., 1994. — Примеч. пер.
2
Hunter Michael. Preconditions of preservation. P. 25—28; Foucault. Order of Things. P. xxiii, 367—370. Фуко М. Слова и
вещи.
3
Munz Peter. Shapes of Time. P. 154. См.: Harbison. Deliberate Regression. Ch. 5. Romantic localism.
590
Попытка снести объект стимулирует охранительное законодательство: хоры в соборе
св. Иоанна, Хертогенбош, Нидерланды, ок. 1610, приобретено Музеем Виктории
и Альберта, Лондон, 1871.
Собор в Колоне, отреставрированный и завершенный в старом готическом стиле Карлом
Фридрихом Шинкелем (Schinkel)
1
и его последователями, отмечали как «величайший оплот
Германии, который она должна либо защищать, либо разрушить до основания, и который
падет лишь тогда, когда кровь последнего тевтона смешается с водами отца-Рейна».
2
Пионерский охранный декрет Людвига I Гессена в 1818 г., также навеянный Шинкелем, имел
исключительно патриотические и педагогические намерения: «Сохранившиеся памятники
архитектуры стоят среди наиболее важных и интересных свидетельств истории, на их основе
можно делать предположения о прежних обычаях, культуре и гражданских условиях нации, а
потому их сохранение является в высшей степени желательным».
3
Призывая к крестовому
походу против
1
Шинкель Карл Фридрих (1781—1841), немецкий архитектор и художник, работавший в романско-классическом
стиле. Будучи придворным архитектором в Пруссии, выполнил по заказу Фридриха Вильгельма III и членов
королевской семьи ряд работ в духе различных исторических стилей, например, Konigschauspelhaus (1818) и Altes
Museum (1822—1830) в Берлине в духе греческого возрождения, а мавзолей Луизы (1810) и кир-пично-
терракотовая Werdersche Kirche (1821—1830) были одними из первых работ в стиле готического возрождения в
Европе. — Примеч. пер.
2
Schinkel К. F. Der Kolner Dom und Deutschland's Einheit. 1842. Цит. по: Rob-son-Scott. Literary Background of the
Gothic Revival in Germany. P. 288, 287—301; Wolff. Completion of Cologne Cathedral in the nineteenth century. P. 26—
29.
3
Ludwig I of Hesse, 22 Jan. 1818. Reprinted in John Harvey. Conservation of Buildings. P. 27. По поводу анти-
якобинского фона медиивализма Людвига I Гессена, см.: Honour. Romanticism. P. 177.
591
пресловутой Черной банды (Bande Noire), бандитов, разрушавших старинные памятники с
целью продажи камней, Виктор Гюго защищал французские старинные здания как

национальные святыни и источник поэтического вдохновения, а Монталамбер (Montalembert)
1
призывал Францию хранить предметы старины «на долгую память, которая порождает
великие народы».
2
Перемещение или угроза утраты создает дополнительный импульс к сохранению предметов
старины как символов национального наследия. В начале XIX в. английских антикваров,
таких как Джон Селл Котман и Доусон Тернер, приводило в ужас бесхозное состояние многих
старинных аббатств, церквей и замков в Нормандии, поврежденных ранее или же в ходе
Французской революции, подвергшихся с тех пор вандализму и запустению. «Одни лишь
англичане заботятся о сохранении памяти о постройках в Нормандии, которые обречены на
разрушение из-за постыдной лености и невежества французов», — заключает Фрэнсис
Палгрейв (F. Palgrave) в 1821 г. Французы ненавидят «все памятники давних времен; а потому
задача проиллюстрировать старинные памятники во Франции легла на нас... Раз владельцы
этих благородных строений не понимают их великолепия и неспособны оценить их по
достоинству, мы сделаем их собственностью англичан... Оставленные прежними владельцами,
эти поля стали нашими благодаря той заботе, которую мы в них вложили». Устыдившись этих
обвинений и, возможно, опасаясь, как бы метафоры обладания не стали реальностью, пионер-
археолог Арсис де Камон (Arcisse de Caumont) основал в 1823 г. Общество антикваров
Нормандии (Societe des Antiquaires de Normandie), ставшее предтечей Французского
национального агентства по сохранению памятников Гизо.
3
Приобретение музеем Виктории и Альберта в 1869 г. хоров собора Св. Иоанна
Хертогенбошского (St. John Hertogenbosch), после того, как этот собор в Голландии был
разобран и продан торговцам, стал скандальным cause celebre* приведшим в итоге к созданию
Риксмонумен-тенцорга (Rijksmonumentenzorg), официального органа охраны памятников в
Нидерландах. И то обстоятельство, что, разборкой каминов
1
Имеется в виду граф Шарль де Монталамбер (1810—1870), оратор, политический деятель и историк, ведший
борьбу с абсолютизмом в церкви и государственной власти во Франции XIX в. — Примеч. пер.
2
Hugo. Bande noire (1824; см. его же: Sur la destruction des monuments en France, 1825); Montalembert II Brown G.
B. Care of Ancient Monuments. P. 74. См. также: Mortier. Poetique des mines. P. 213, 214; Daemmrich. Ruins motif as
artistic device in French literature. P. 35, 36; Lagarde. Memoire des pierres. P. 54—78.
3
Palgrave. Normandy-architecture of the Middle Ages. P. 147; Organisation de function-naires charges de veiller a la
Conservation des Monuments nationaux, Revue Normande, 1 (1831), 275—283. Британские антиквары были особенно
привязаны к нормандским церквам и аббатствам как прототипам их собственного романского стиля. Однако мате-
риалы Общества антикваров в Лондоне не подтверждают многочисленные обвинения французов в том, что
англичане намеревались скупить все средневековые постройки в Нормандии и перенести их в Англию (Monnet.
Care of ancient monuments in France. P. 35; Lagarde. Memoire des pierres. P. 31—33).
4
Известный случай (фр.) — Примеч. пер.
592
XV в. в Таттершальском замке (Tattershall castle), помимо угрозы неминуемого разрушения
замка, занимался американский синдикат (говорят, что лишь тот факт, что большую его часть
составлял кирпич, помешал американцам увезти все это с собой) привело в конце концов к
тому, что маркиз Курзон (Curzon)
1
купил его и отреставрировал. Затем Кур-зон выступил в
защиту Акта о старинных памятниках 1913 г., который дал британскому правительству
первый реальный инструмент в деле охраны зданий, являющихся национальным достоянием,
в том случае, если их владельцы не в силах противостоять уговорам американских
миллионеров. 75 лет спустя эти предостережения прозвучали вновь перед лицом угрозы,
исходящей от миллиардов Гетти. Как заметил один из историков искусства при обсуждении
коллекции британской живописи Меллона в Иейле, «наше так называемое наследие ценно для
нас больше всего, именно тогда, когда мы видим его в чужих руках».
2
Третий импульс, способствовавший становлению охраны памятников, заключался в остром
чувстве утраты, исходящем от беспрецедентных перемен. После Французской революции и
наполеоновских войн все совершенное прежде казалось частью мира, который потерян на-
всегда. Традиционные схемы жизни были разрушены, памятники подверглись актам
вандализма, художественные сокровища разграблены — все это вызывало реакцию со
стороны консервативно настроенных людей, причем не только во Франции. Сам Наполеон
издал в 1809 г. декрет о защите классических зданий в Риме и помог найти необходимые для
этого средства.
3
Забота о старинных памятниках стала символом сохранения в более широком
смысле, как в том замечании Кювье по поводу окаменелых костей, что ему «пришлось

научиться... восстанавливать эти памятники прошлых революций».
4
Даже само слово
«революция», которое когда-то означало периодическое обращение, или восстановление,
теперь приобрело смысл ниспровержения установленного порядка и радикальной инновации в
целом,
5
отрицая ценность безвозвратно уходящего даже самого недавнего прошлого.
По пятам этих потрясений шла новая индустриальная революция, наиболее отчетливо
заметная в Британии, где бедствия, сопровождающие стремительные процессы урбанизации,
усилили ностальгию по старым временам. Упадок монастырей в XVI в. ошеломил многих со-
временников, но сознание (и сожаление по этому поводу) материаль-
1
Курзон Джордж Натаниэль (1859—1925), маркиз Кедлестон (1898—1911), (1911—1921) граф Кедлестон,
британский государственный деятель, вице-король Индии (1898—1905), министр иностранных дел (1919—1924),
сыгравший существенную роль в формировании британской внешней политики. — Примеч. пер.
2
Avery. Rood-Loft from Hertogenbosch. P. 1—2; Dale. Historic Preservation in Foreign Countries: I:... The Netherlands.
P. 105; Curzon and Tipping. Tattershall Castle. P. 143, 144; Kennet. Preservation. P. 35, 36; Penny Nicholas. Constable:
an English heritage abroad, Sunday Times, 11 Nov. 1984. P. 43.
3
Linstrum. Giuseppe Valadier et 1 Arc de Titus. P. 52.
4
Cuvier. Recherches sur les ossemens fossiles (1825). Цит. по: Rudwick. Transposed concepts from the human sciences.
P. 69.
5
Gilbert Felix. Revolution, 4:152—156.
593
ных перемен впервые получило широкое распространение лишь в начале XIX в., когда
небывалому числу людей приходилось сниматься с насиженных мест.
1
Четвертой новой перспективой был рост осознания индивидуальной идентичности, который
мы рассмотрели в главе 5. Оглядываясь на свои прежние Я и рассматривая жизнь как
движение, в котором прошлые действия продолжают сказываться в настоящем через свои
последствия, люди открыли также значимость возвращения к местам, где прошло детство.
Привязанность к связанным с прошлым местам порождает стремление не только увидеть их
вновь, но и сохранить в том виде, в каком они запечатлелись в памяти — и сожалеть, если они
уже изменились.
2
В-пятых, повторное открытие древних достопримечательностей и памятников возбуждает
сентиментальное желание их сохранить. Раскопки, ведущиеся в колыбели цивилизации на
Ниле и на берегах Средиземного моря, а также рост деятельности антикваров в собственных
странах подогрел интерес к материальным остаткам, а расширение образования и сферы
досуга сделали «большее количество людей... восприимчивыми к прошлому, нежели это было
прежде».
3
Для многих интерес состоял не только в том, чтобы смотреть или
коллекционировать, но также и в том, чтобы искать и сохранять реликвии.
Все эти процессы развивались не синхронно, их кульминации пришлись на разное время. Как
и дух сохранения, их отправные точки были связаны с различными местами и
обстоятельствами, а прежние взгляды продолжали существовать наряду с более поздними. И
только в XIX в. произошел решительный перелом, когда эти импульсы стали особенно
интенсивными, возбуждая беспрецедентную инициативу в деле сохранения реликтов
прошлого.
Конец XIX в. отмечен еще одним таким разделением. Возникающие сомнения в неизменности
прогресса, волнение по поводу социальной и политической нестабильности, растущее
понимание того, что настоящее совершенно не похоже на какое-либо прошлое, — все это
вызывало острое беспокойство по поводу направления и темпов перемен. Это беспокойство
отражено, например, в прогнозе Брукса Адамса по поводу неминуемого падения демократии.
4
«События развиваются все быст-
1
Aston. Dissolution and the sense of the past; Burrow. Sense of the past.
2
Salvesen. Landscape of Memory. P. 1—45, 137—166. Эта тема послужила прообразом для работы Гольдсмита
«Покинутая деревня» (Goldsmith. «Deserted Village»); см.: Goldstein. Auburn syndrome: change and loss in «The Deserted
Village» and Wordsworth's Grasmere.
3
Hudson. Social History of Archaeology. P. 20, 53, 73—83.
4
Brooks Adams. Law of Civilization and Decay (1896). P. 292—295, 307, 308. См. также: Adams Henry. Education of Henry
Adams (1918). P. 486—498.
Адаме Брукс (IMS,—1927), американский историк, представитель известного семейства Адамсов, давшего Америке
целый ряд политических деятелей (среди них президенты Джон Адаме и его сын Джон Квинси Адаме) и мыслителей,
брат известного историка Генри Адамса. В своих работах братья Адамсы развивали близкие идеи по поводу изна-
чальной обреченности американской демократии по самой своей природе на разложение и упадок. Из двух братьев
большей известностью пользовался выдающийся историк
594

рее и быстрее, — отмечал Карлейл, — скорость возрастает... пропорционально квадрату
времени»; и будущее казалось невообразимым.
1
«Материальные, физические, механические
перемены в человеческой жизни» после Уатта и Аркрайта представлялись английскому
историку «более грандиозными, чем те, которые произошли на протяжении предшествующего
тысячелетия, возможно, даже двух или двадцати тысячелетий», и при этом продолжают
ускоряться. Шарль Пеги (Ch. Peguy) в 1913 г. ощущал, что «мир со времен Христа изменился
меньше, чем за последние тридцать лет».
2
Верны эти грозные пророчества, или нет, они получили широкое распространение. Одним из
следствий этого стала ностальгия, проявлявшаяся в идеализации сельской жизни,
возрождении национальной архитектуры, движении за развитие народных промыслов и
всплеске деятельности по охране памятников прошлого. Одна страна за другой принимали
законодательные акты, защищающие древние памятники, основывались агентства,
заботившиеся о том или другом аспекте прошлого, не говоря уже об исторических музеях и
почитаемых мемориалах. «Я не хочу ничего выбрасывать... Пусть остается все», — восклицал
Э.А. Фримен.
3
Нужно предоставить путешественникам «не только нечто аутентичное, но и все
достоверное, на что можно положиться», Общество защиты старинных зданий (SPAB)
стремилось «сохранить то, что осталось от прошлого, не отделяя при этом хорошее от
плохого, старое от нового, сохранять все».
4
и публицист Генри Адаме (1848—1927). В своей книге, написанной в ходе путешествия по Франции, «Гора Сен-
Мишель и Шартр» (1904) Генри Адаме описывает средневековый мир так, как он отражается в церквах и соборах. Для
него средневековье — желанная пора идеологического единства, воплощенного в католическом культе Девы Марии. В
автобиографической книге «Воспитание Генри Адамса» (1906), задуманной как продолжение «Шартра», автор
обращается к множественности и разобщенности XX в. Символом и богом этого века ему видится динамо-машину.
В 1895 г. Брукс Адаме опубликовал свою работу «Закон цивилизации и упадок» (Law of Civilization and Decay), в
которой доказывал, что центр торговли последовательно сдвигается к западу — от древнейших торговых путей на
Востоке к Константинополю, Венеции, Амстердаму и, наконец, к Лондону, в соответствии с законом относительной
плотности населения и развития новых централизованных методов торговли и промышленности.
После смерти брата, Брукс Адаме подготовил к печати его последнюю книгу «Деградация догмы демократии» (1919),
снабдив ее своим предисловием, в котором представил хронику семейства Адамсов, начиная от затруднений президента
Джона Квинси Адамса и кончая отречением от догмы демократии его внуков. — Примеч. пер.
1
Carlyle. Shooting Niagara: and after? (1867), 3:590.
2
Harrison Frederic. A few words about the nineteenth century. 1882. P. 424; Peguy. 1'Ar-gent (1913). P. 10. См.: Shattuck.
Banquet Years. P. 1. По поводу 1890-х Талькотт Парсонс писал, что «трудно найти где-либо революцию такого масштаба
в преобладающих эмпирических интерпретациях человеческого общества, совершающуюся на коротком промежутке
жизни одного поколения, разве что в XVI в.» (Talcott Parsons. Structure of Social Action. P. 5).
3
Freeman E. A. To Ugo Balzani, 3 Jan. 1886 // Stephens W. R. W. Life and Letters of Edward A. Freeman, 2:341. См.: Chapter
3. P. 102—104 above.
4
Ken-. English architecture thirty years hence (1884). P. 309. Kepp критиковал SPAB за излишнюю историчность (Wiener.
English Culture. P. 68—9).
595
Аналогичные тенденции подкрепляют импульс к сохранению и в наше время.
Возрождающийся интерес к национальной и этнической идентичности требует и выявления
символических связей с прошлым. Психология развития и психоанализ ищут корни поведения
взрослых в их детстве, подчеркивая необходимость переоценки личного прошлого.
Господствующие в культуре неудовлетворенность настоящим и пессимизм по поводу
будущего питают собой ностальгию, а становящиеся все более доступным блеск и величие
древности придают сотням миллионов людей дополнительный стимул к его сохранению.
Помимо всего прочего увеличивается и скорость разрушения следов прошлого.
Технологические инновации, стремительное устаревание, радикальная модернизация
техногенной среды, массовые миграции и растущая продолжительность жизни, взятые вместе,
приводят к тому, что мы оказываемся в условиях, которые нам все менее знакомы, которые
далеки даже от нашего недавнего прошлого. «Каждый челове-к — путешественник из другого
времени, — говорит Вильям Янович, — и если путешествие затянулось, то в итоге он
оказывается чужестранцем».
1
В сегодняшнем калейдоскопическом мире даже короткое
путешествие в прошлое может сделать нас чужими в своей собственной стране.
Большинству аспектов осязаемого прошлого, которые все еще не находятся в музеях,
угрожает скорое и необратимое уничтожение. Исторические здания и традиционные
достопримечательности оказываются бессильными против давления застройщиков,
подкрепленного новыми технологиями: список утраченных сельских домов, городских

жилищ, церквей и часовен, образцов общественной, коммерческой и индустриальной
архитектуры, составленные фондом СПАСИ Британское наследие (SAVE British Heritage),
представляет собой ужасающее зрелище.
2
Но даже и не столь тщательно
задокументированные, прочие потери не менее обширны.
Нынешнее поколение умудрилось разрушить больше следов доисторического прошлого, чем
ранее было известно. «Темп разрушений ныне настолько велик, — предостерегает Карл
Мейер, — что к концу столетия большинство из сохранившихся важнейших археологических
достопримечательностей также либо будут разграблены, либо скроются под асфальтом».
3
В
Британии сельскохозяйственные распашки недавних времен обнажили или уничтожили
множество могильных холмов и курганов, стирая следы поседений, которые сохранялись в
течение двух тысячелетий выпаса скота и традиционной обработки почвы.
1
Цит. по: Hough. Soundings at Sea Level. P. 206.
2
Strong Roy. Marcus Binney, and John Harris, Destruction of the Country House 1875—1975 (1974); Binney and
Burman. Future of Our Churches; Ken Powell, New Iconoclasts; idem, Fall of Zion; Binney, Harris and Emma
Winnington. Lost Houses of Scotland (1980); Binney and Hanna. Preservation Pays. P. x-xiv; Binney and Emma Milne.
Vanishing Houses of England (1982); idem, Time Gentlemen Please! (1983).
3
Meyer Karl. Plundered Past. P. 15. См.: Brinkley-Rogers. Big business of artifacts theft; Bator, International Trade in
Art.
596
Работы по облеснениею также представляют серьезную угрозу другим
достопримечательностям. Стремительно распространяющееся увлечение охоты за
сокровищами — еще одна угроза для археологического наследия: количество выданных в
Британии лицензий на использование металлоискателей, которые применяются
преимущественно для коммерческого поиска реликвий под землей, за период с 1974 по 1981 г.
удвоилось.
1
Конечно, разрушение памятников прошлого происходило не только в наше время. В 1861 г.
Томас Бейтман отмечал «стремительное исчезновение и исчерпание» кельтских черепов и ваз,
что «происходит от сельскохозяйственных новшеств и вреда, причиняемого праздным лю-
бопытством».
2
Век назад любопытство публики, по-видимому, нанесло существенный урон
древним памятникам по всей Британии. «Уже тот самый факт, что к ним привлечено
внимание, — высказывал опасения обозреватель-археолог, — делает их добычей, с одной
стороны, невежественного экскурсанта, а с другой — нуждающегося владельца земли».
3
Тем не менее, скорость разрушения неоспоримо возрастает. Современная техника может
изменить облик города или ландшафта за один прием; городские силуэты изменяются до
неузнаваемости каждые несколько лет, а облик улиц меняется каждое мгновение. Там, где
разрушения когда-то удавалось остановить, сегодня деревья срублены, зеленые ограждения
выкорчеваны, здания сносят прежде, чем кто-то успеет выразить протест. Так, в 1980 г.
бульдозер «по ошибке» всего за 45 минут снес Монкспат Холл (Monkspath Hall), а в 1982 г.
местные власти варварски за одну ночь разрушили здание муниципалитета в Кенсингтоне,
чтобы предупредить отправленное уже им распоряжение о его сохранении. Загрязнение
окружающей среды уничтожает шедевры, которые выстояли на протяжении столетий. Для
того, чтобы оградить Акрополь и «Тайную вечерю» от воздействия атмосферной серы,
потребовалось бы вывести из Афин все автомобильное движение и промышленность.
Промышленное загрязнение в Кракове приводит к
1
Cunliffc. The Past Tomorrow. P. 7—10; Lambrick. Archaeology and Agriculture; Barker. Scale of the problem; Shoard.
Theft of the Countryside. P. 175, 176; Should metal detectors be banned as archaeological aids? Everything Has a Value.
N 13 (Oct. 1981), 36—39; Treasure hunters and archaeologists, Treasure Hunting, 3:7 (1980), 4—8; Henry Cleere. Co-
uncil for British Archaeology. Treasure hunt through British heritage, letter. The Times, 16 July 1983. P. 9. Пожалуй,
наибольшей опасности подвергается археологическое наследие в городской среде. «Все важнейшие города всех
исторических периодов будут потеряны для археологии в течение ближайших 20 лет, или того ранее» (Biddle
Martin. Preface // Heighway. Archaeology and Planning in Towns. P. vi; см. также: Biddle. Future of the urban past. P.
101). Многие археологи сегодня практически приостановили все раскопки, отчасти из-за того, что велико
количество самовольных раскопок, отчасти потому, что неразрушающие методы, такие, как топографический
анализ, дают сегодня несопоставимые результаты, отчасти из-за того, чтобы «не лишать всех будущих археоло-
гов... их шанса совершить новые значительные открытия» (Thomas. Ethics in archaeology. P. 270, 272; Fowler.
Approaches to Archaeology. P. 35—67, 189, 190).
2
Bateman Thomas. Ten Years Diggings in Celtic and Saxon Grave Hills. P. v-vi.
3
Archaeologia (1881). P. 120, 121.
597
