Лоуэнталь Дэвид. Прошлое - чужая страна
Подождите немного. Документ загружается.


который случайно набрел на храм мертвой цивилизации».
4
Наша привязанность к остаткам
прошлого теперь куда менее личностна, менее эмоциональна и более проста в целом.
5
Последствия утраты прошлого
Современная культура... — это титанические и преднамеренные усилия, направленные на то, чтобы при помощи
технологии, рациональности и правительственной политики уничтожить данность того, что досталось нам по
наследству от прошлого
Эдвард Шилз. Традиция**
Что означают все эти потери? Об исчезновении некоторых форм связи с прошлым —
например, о самодостаточном традиционализме — вряд ли стоит сожалеть. Однако утрата
других форм единения с прошлым самым печальным образом снижает нашу способность
интересоваться тем, что досталось нам в наследство. Некоторые признаки эрозии чувств стали
наблюдаться еще до исхода Ренессанса: в конце XVI в. «образ античности был восстановлен,
но в то же время он перестал что-либо непосредственно говорить современному миру, —
отмечает Майрон Гилмор (М. Gilmore). — История становилась все более академичной. То,
что открыто, должно обладать археологической достоверностью, но при этом оно никак не
соотносилось с заботами по-
1
Пастырский (египетский) посох, епископский символ; изначально — пастушеский посох с закругленной верхней
частью, символизирующий пастырское служение иерархов церкви. — Примеч. пер.
2
Бите-Jones. Memorials, 1:97.
3
От bibber — пьяница, алкоголик (англ.) — Примеч. пер.
4
Larkin. Less Deceived. P. 28, 29; Clausen. Tintern Abbey to Little Gidding. P. 422, 423.
5
«У нас есть множество свидетельств людей середины (девятнадцатого) века, которые были тронуты до слез
ландшафтами Томаса Коула, столь велики были вызываемые ими религиозные и философские ассоциации. На те же
самые полотна сегодня смотрят совершенно сухими глазами» (Reiff. Memorial Hall. P. 40).
6
Shils Edward. Tradition, 198L P. 197.
568
следующих эпох».
1
Однако последующие поколения беспокоила не только бесполезность
истории. Поскольку историческое знание подорвало средневековую веру, «прошлое перестало
быть хранилищем подлинных учений и превратилось, — по словам Ричарда Саверна, — в
разрозненное нагромождение ошибок и бесчеловечности». Как я пытался показать, Ренессанс
и Просвещение загнали эти представления в угол, пока в конце XIX в. неадекватность общей
рамки унаследованных идей не стала очевидна всем. Обеспокоенные отчуждением прошлого,
викторианцы нашли лекарство в «энергичном и чувственном культивировании исторического
понимания», заменив «интеллектуальную определенность эмоциональной сплоченностью, в
пределах которой мог бы сосуществовать весь опыт прошлого». Таким образом им удалось
освободить интеллектуальные сферы для «художественного освоения» опыта прошлого.
2
Наши собственные обширные потери восполнить значительно сложнее, как и оценить их
воздействие на наше отношение к прошлому. Расширившее свои пределы благодаря науке,
прошлое как никогда сегодня притягательно. Однако текущее познание исторического
наследия в такой же мере ограничено, в какой сужаются наши способы его использования. В
США широкая публика проявляет ненасытный интерес к истории, тогда как число
профессиональных историков сокращается. Число специализирующихся в этой области
студентов сократилось в период между 1960-и и 1970-и с 10 до едва 2% от общего числа
выпускников университетов. Историческое мышление, как считает Джон Лукач, хотя и вошло
в кровь и плоть американцев, однако занимает небольшое место в их умах.
3
Во Франции
популярность некоторых историков соперничает с популярностью кинозвезд, однако при этом
историческое невежество — вполне обычное дело. По всей Западной Европе от XV и до XX
в., как считает один историк искусства, «понимание прошлого... было гораздо более тонким и
многообразным, нежели у нас сейчас».
4
Помимо всего прочего, мы утратили прежде почти всеобщую традицию образованности —
близкого знакомства с классическим и библейским прошлым. Доступ к большей части
истории требует тонкого знания классических авторов, если, как отмечает Дженкинс, мы
намереваемся «понять, как было устроено сознание тех, кто правил, мыслил, творил или
изобретал».
5
Однако эта некогда живая традиция теперь существует только в стерильно
академическом виде. «В 1921 г. античные греки были тем резонатором, тем эхом, с помощью
которого
1
Gilmore Myron. Humanists and Jurists. P. 37.
2
Southern R. Aspects of the European tradition of historical writing: 4. the sense of the past. P. 244.

3
Lukacs. Obsolete historians. P. 82. Количество получивших диплом историка студентов сократилось с 44 663 в 1971 г. до
18 301 1980—1981 гг. (American Historical Association Perspectives. 22:8 (1984), 3).
4
Coolidge. Foreword, Gods & Heroes. P. 9.
5
Jenkyns. Keeping up Greek.
569
учителя и проповедники подкрепляли и развивали современные занятия; в 1980-х мы
относимся к ним так, будто это мавзолей, куда доступ открыт лишь сертифицированным
экспертам; как к некрополю, который нужно бережно и корректно описывать».
1
Однако в большей степени, нежели греческий и латинский языки, нежели совокупность
античных текстов и аллюзий, мы потеряли густо населенный классический мир, который в
течение четырех столетий был lingua franca
1
обширной и влиятельной элиты. То, что было
сделано или инициировано элитой — архитектура, живопись и литература — составляет
значительную часть нашего культурного ландшафта. Однако коль скоро классические
символы и ассоциации наполняют собой все эти творения, мы в этом ландшафте блуждаем,
подобно заблудившимся путникам с другой планеты. Церкви и соборы, дворцы и сады,
картины и скульптуры, украшавшие собой жизнь многих поколений, все еще привлекают нас
своими очевидными достоинствами, однако лишь немногие из тех, кто любуется ими, имеют
более чем смутное представление об их историческом контексте и коннотациях.
3
Классические и мифологические аллюзии в опере Монтеверди «Орфей», как отмечает
недавняя ее экспликация, столь важные для ее понимания первоначальной аудиторией в 1607
г., для современных слушателей оказались практически утраченными. Наиболее образованные
люди XVII в. знали — часто наизусть — слова Орфея у Овидия и Вергилия. Античные
легенды об Орфее, пение которого привлекало зверей
1
Taplin. Guide to the necropolis. Можно сказать, что в Соединенных Штатах этот некрополь в течение некоторого
времени вовсе был закрыт. Среди студентов, посещавших в Гарварде занятия по сравнительной литературе, в
1912 г. ни один человек из сотни не знал, когда жил Аристотель (хотя в 1840 г. таких нашлось около
полудюжины). Притом газета Saturday Evening Post с похвалой отозвалась о подобном невежестве, поскольку
«знание того, когда жил Аристотель, или чего-то в этом роде — это самое бесполезное занятие, на которое только
мог бы человек употребить свои мозги». (Цит. по: Lukacs John. Outgrowing Democracy. P. 297.) Теперь в большом
количестве имеются переводы классических текстов, изданные в красивых переплетах, однако для большинства
читателей они практически полностью отделены от своего контекста (Arendt. Introduction: Walter Benjamin. P. 46).
2
Лингва-франка (букв, язык франков), общепонятный смешанный язык из элементов романских, греческого и
восточных языков, служащий для общения в восточном Срединоземноморье. В более широком смысле —
вспомогательный или компромиссный язык общения разных групп, не имеющих другого общего языка.
Например, французский или английский как языки дипломатического общения, суахили в Восточной Африке и
др. Сам термин лингва-франка впервые возник в отношении жаргона, состоявшего из смеси французского и
итальянского языков, бывшего входу у крестоносцев и торговцев в районе восточного Среднеземноморья в
Средние века. Последующее освоение европейцами других регионов мира также породило различные варианты
лингва-франка, как, например, индо-португальский (на Цейлоне), аннамито-французский (Индокитай),
папиаменто (испанский-кюрасао) и различные варианты пиджин-инг-лиш. — Примеч. пер.
3
«Слой образованной публики, обладавшей знанием об античных классиках и основных литературных
произведениях,... теперь настолько истончился, что культурный уровень университетского преподавателя
зачастую мало чем отличается от обычного интеллектуального уровня равнодушного дипломника» (Shils.
Tradition. P. 248). См.: Kubler. Shape of Time. P. 29, 30.
570
и горы, о предостережении Аполлона насчет ревнивых менад, угрожавших жизни Орфея,
образы Гадеса, всплывающие в памяти при замечании Харона о страдающих там нагих душах,
— все это было понятно слушателям той поры и еще на протяжении трех веков после. Для со-
временного же слушателя, за исключением, разве что, очень немногих, все это фактически
лишено смысла.
1
Как и либретто опер Монтеверди, «Камни Венеции»
2
и мраморные статуи
Микеланджело теперь представляют собой едва понятные диковины, всего лишь фрагменты
богато текстурированного прошлого, ушедшего столь же безвозвратно, как и их создатели.
Многие фрейдовские аллюзии теперь совершенно непонятны, поскольку «большинство
читателей имеет лишь поверхностное представление о классической европейской
литературе». Ключевые слова, которые «некогда были исполнены глубоким значением и
вызывали ответный гуманистический резонанс», теперь утратили большую часть своих
коннотаций. Вот, например, термин «эдипов комплекс», Фрейд полагал, что «его читателями
будут образованные люди, которые изучали в школе классику, как это в действительности и
было», — пишет Бруно Беттельгейм (В. Bettelheim). Теперь, однако, это редкий случай, так
что вся эдиповская метафора тривиализируется или понимается превратно.
3
Что делал бы

Фрейд с современными студентами, которые не знают даже Сократа?
Истончается также и традиция Священного Писания. Еще в XIX в. библейские сказания были
наполнены для Западной Европы особым мифическим значением и были самым
непосредственным образом связаны с другими формами знания. Мельчайшие детали
географии Израиля, Греции «накладывались на наше сознание до тех пор, пока не ста-
новились частью карты воображаемого мира». Такая степень близости, как отмечает Нортроп
Фрай (N. Frye), в наше время редка, поскольку «изучающие английскую литературу студенты
не знают Библию настолько хорошо, чтобы понять большую часть из того, что действительно
содержится в читаемом тексте», они постоянно перевирают их значение и смысл.
4
Просто знать что-то о прошлом уже недостаточно. Необходимо чувство близости,
интенсивного взаимодействия с древностью, что было отличительной чертой и составляло
часть самоопределения европейской мысли. Подобного знания прошлого требует и
восприятие Т. С. Элио-
1
Freeman David. Some thoughts on Orfeo, programme notes for Monteverdi/Striggio, Orfeo, London: English National
Opera, c. 1981.
2
Аллюзия на трехтомный труд Джона Рескина «Камни Венеции» (1851—1853), посвященный детальному
рассмотрению истории венецианской архитектуры. — Примеч. пер.
3
Bettelheim Bruno. Freud and Man's Soul. P. 7—10. По поводу трансформаций легенды об Эдипе в самого Фрейда,
см.: Schorske. Fin-de-Siecle Vienna. P. 199, 200; Именно Эдип Фрейда, а вовсе не Эдип греков пытался избежать
своей судьбы и познать самого себя.
4
Frye Northrop. Great Code. P. 33, 229, 218, x.
571
том «не только „прошлое™ прошлого, но и его присутствия в настоящем».
1
Неутомимые
археологи, собиратели фольклора, филологи, нумизматы обладают весьма обширными
знаниями о древнем мире, однако еще ни одно поколение со времен Средних веков не уделяло
ему так мало внимания. Некоторые из наиболее продвинутых модернистов уже «готовы
выбросить из головы Пантеон как священную корову утратившего доверие прошлого».
2
Ни
один общественный лидер ныне уже не решился бы призывать своих избирателей так, как это
сделал мэр Западной Австралии в начале века: «Граждане Перта (Perth), следуйте за мной, и я
сделаю этот город более прекрасным, чем Афины, и более свободным, чем Рим».
3
Многие люди открыто отвергают классическую традицию, поскольку видят в ней антитезу
современной технологии, политике и эстетике. Как они утверждают, индустриальному
обществу нужны не гуманисты, а техники, на смену аристократическому гению Греции и
Рима приходит эгалитаризм, модернистский культ оригинальности отвергает все, что связано
с твердо установленными правилами или же требует длительного ученичества.
4
Помимо
подобных антипатий, ницшеанский взгляд на историю как на нечто бесполезное, а на прошлое
как на деструктивное бремя — вполне соответствовал изнывавшему от скуки декадансу в
Европе конца XIX в. Анти-традиционализм эпохи fin-de-siec-/е постулировал бесполезность
всего прошлого в целом. Бунт против унаследованных форм достиг в начале XX века уровня
анти-рациона-лизма или даже иррационализма.
5
Самое понятие истории отвергалось как
привязывающее человека к устаревшим институтам, идеям и ценностям. Историкам
оставалось в такой ситуации заниматься только изучением прошлого ради него самого, что в
глазах модернистов превращало это занятие в своего рода бегство от современности, некую
«культурную некрофилию». Враждебное отношение к «лихорадочному копанию в руинах»
выражало бессознательный страх в атмосфере близящейся гибели и будущего, которое
слишком ужасно, чтобы смотреть
1
Eliot Т. S. Tradition and the individual talent. P. 14.
2
Kidson. Architecture and city planning. P. 376.
3
Brookman W. G. (1900—1901). Цит. по: Richards. Historic public gardens in Perth. P. 69 n. 1.
4
Marrou. Education and rhetoric. P. 199, 200. Идущее от проведенной Туллием градации римского общества, это
слово относилось лишь к высшему классу, «классический» первоначально означало «превосходный»,
«избранный», а потому явно отсылает к «авторитету, дискриминации и даже снобизму» (Rykwert. First Moderns. P.
1).
5
Harbison. Deliberate Regression. P. 176; Shils. Tradition. P. 231—237; bears. No Place of Grace. P. 5; Conn. Divided
Mind. P. 13; Hughes. Consciousness and Society. P. 338. Как уже отмечалось в гл. 5, существует некоторая
корреляция между концом столетия и особенностями нашего воображения, так что практически всегда эти
периоды объявлялись концами эры. Смерть Ницше и публикация «Толкования сновидений» Фрейда, «Логических
исследований» Гуссерля, критического исследования Расселом лейбницианской философии, квантовой теории
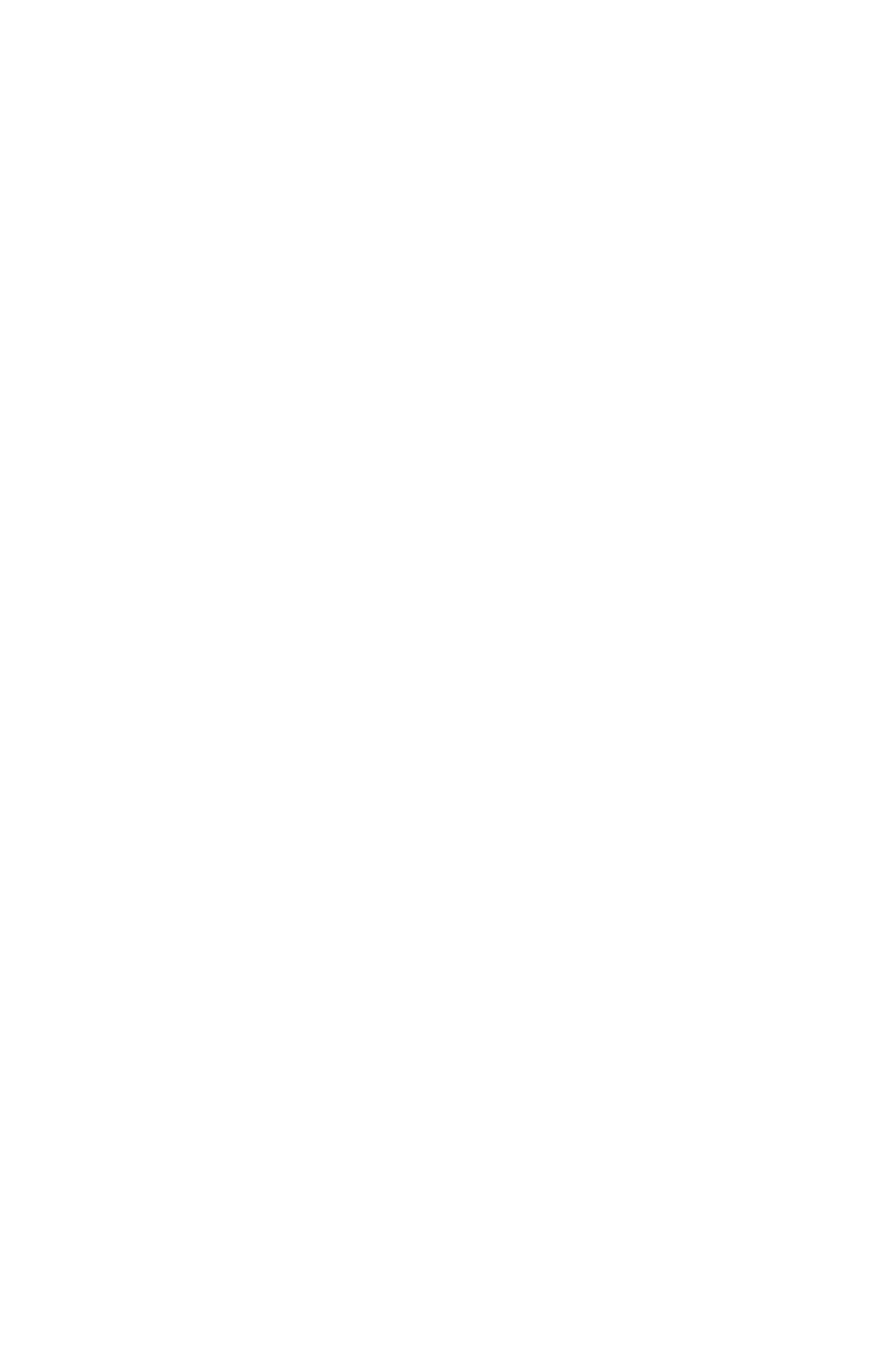
Планка, — все это неизменно группировали вокруг круглых дат, таких как «1900, 1400 и 1600, 1000 и так далее,...
вроде годов, на которые приходится окончание тысячелетия (Kermode. Sense of an Ending. P. 96—98).
572
на него бесстрастно.' Эти подозрения нашли свое отражение и в литературе: избыточная
поглощенность ее супруга историческими изысканиями сводит с ума ибсеновскую Гедду
Габлер; навязчивая забота о мертвых культурах ведет к тому, что археолог у А. Жида (Gide) в
прямом смысле слова заболевает; для Стивена Дедала у Джойса история была «ночным
кошмаром», от которого он мечтал проснуться.
2
Архитекторы тоже рассматривают прошлое как тягостное бремя. Отто Вагнер призывал
современных архитекторов освободиться от истории, а венское объединение «Сецессия»
стремилось сбросить с себя путы традиции через создание нового, ничем не ограниченного
стиля. С точки зрения Вагнера, приглушенный эклектизм венской Рингштрас-се представляет
собой неудачную попытку идти в ногу с социальными переменами; архитекторы, не
способные ответить на сегодняшние запросы, копаются в истории и реанимируют все стили
прошлого.
3
Эти модернистские нападки сделали европейцев эпохи fm-de-siecle до удивления похожими на
австралийских аборигенов у Стрелоу (Strehlow):
Поскольку каждая черточка ландшафта... в центральной Австралии уже связана с тем или иным мифом (о предках),...
скрупулезность их предшественников уже не оставила им ни единого свободного местечка, которое они могли бы
населить плодами своего воображения. Современные жители Австралии — это просто усердные, лишенные
вдохновения хранители великой и захватывающей традиции. Они почти полностью живут традициями своих предков.
4
Поборники нового заявили о себе прежде всего тем, что постарались избавиться от всего
прежнего наследия европейской культуры. Устав от пиетета, выказываемого обременяющему
прошлому, лидеры искусства начала XX в. нарочито порвали с ним — отреклись от образцов
прошлого, отвергли предшественников, отказались от почитания традиции. Абстрактная
живопись, атональная музыка, поток сознания в литературе, верлибр в поэзии, — все это
отражало убежденность в том, что прежний набор форм уже исчерпал себя и не способен
более выражать смысл современной жизни.
5
Культ оригинальности по-прежнему
ограничивает опыт того, что может считаться новым. Читатели
1
White Hayden. Burden of history. P. 125,119. См.: Harpham. Time running out: the Edwardian sense of cultural degeneration;
Rasch. Literary decadence. P. 213—215.
2
Ibsen. Hedda Gabler. 1890 (см.: Saari. Hedda Gabler; the past recaptured ); Gide. Im-moralist. 1902. P. 52, 53, 137, 138, 145;
Joyce. Ulysses (1922). P. 42. По поводу пессимистического фатализма, пронизывавшего умонастроения в 1880-х, см.:
Kern Stephen. Culture of Time and Space. P. 327 n.45.
3
Inaugural address, Vienna Academy of Fine Arts, 1894, and Moderne Architektur. 1895 // Schorske. Fin-de-Siecle Vienna. P.
82—84.
4
Strehlow. Aranda Traditions. P. 6.
s
Bradbury Malcolm and McFarlane. Name and nature of Modernism. P. 26; Cahm. Revolt, conservatism and reaction in Paris,
1905—1925; Kubler. Shape of Time. P. 70; Toliver. Past That Poets Make. P. 162. «Мы сегодня озабочены... резким
разрывом со всеми традициями... Цели, к которым стремилось европейское искусство на протяжении пяти столетий,
открыто отброшены в сторону» (Read Herbert. Art Now. 1933. P. 57—59).
573
современной поэзии, отмечает Гарольд Блум, «вслушиваются, чтобы услышать ее отчетливый
голос», однако поскольку он «настолько отличается от того, что говорили предшественники,...
мы просто перестаем слушать».
1
Модернисты в буквальном смысле слова стирают образцы совершенства прошлого. В 1920-х
и 1930-х гг. американские музеи и художественные школы отправили многие исторические
коллекции на свалку. Гомбрич вспоминает, как в Среднезападном университете гипсовые
слепки «попросту выбрасывали из окна и разбивали в запоздалом ритуале освобождения».
2
Ничто не стоит хранить так долго, чтобы оно становилось старым: «Литературная поэзия
действует только первый раз, потом ее можно выбрасывать, — призывает сюрреалист Ан-
тонен Арто. — Пусть мертвые поэты уступят место живым».
3
Футуристская идеология воплощает в себе взгляды, которые впервые появились в городах
северной Италии — Турине, Генуе, Милане, — претерпевших серьезные трансформации в
течение нескольких лет интенсивной индустриализации. Причудливое сосуществование ан-
тичных и ренессансных форм на фоне радикальных технологических перемен может помочь
понять направленные против прошлого манифесты футуристов.
4
Зачем «тратить лучшие силы
на это вечное и бесполезное почитание прошлого?» — спрашивает поэт Маринетти. Он
гордится тем, что «спровоцировал отвращение к этому изъеденному червями и поросшему

мхом прошлому» в поисках способов «избавить эту землю от смердящей гангрены
профессоров, археологов, гидов и антикваров. Слишком долго Италия занималась тем, что
торговала поношенным платьем. Мы собираемся избавить ее от бесчисленных музеев,
покрывающих ее, подобно могилам».
5
На место устаревшего прошлого Маринетти ставил
механическую быстротечность и скорость, считая, что рычащий мотор машины прекраснее,
чем эллинистическая крылатая Ника Самофракийская в Лувре.
6
Вкусы футуристов вскоре получили отражение и в архитектуре. Сант-Элиа (Sant'Elia)
запрещал сохранение, реставрацию или копиро-
1
Bloom H. Anxiety of Influence. P. 148.
2
Gombrich. Perfection's progress. P. 3. Описание аналогичных эпизодов см.: Reed H. H. Classical tradition in modern times.
P. 25.
3
Antonin Artaud. Theatre el son double (c. 1933), 4:94. Цит. по: Арго А. Театр и его двойник // Манифесты. Драматургия.
Лекции. М., СПб.: Симпозиум, 2000. С. 168. См.: de Man. Blindness and Insight. P. 147.
4
Banham. Theory and Design in the First Machine Age. P. 10; Carra. Idea of art and the idea of life.
5
Marinetti. Founding and manifesto of Futurism (1909); Birth of a Futurist aesthetic (1911—1915); Founding and manifesto //
His Selected Writings. P. 43, 81, 42. Деятели Просвещения неизменно с негодованием отмечали контраст между
низменным настоящим Италии и ее славным прошлым (Venturi. History and reform in the middle of the eighteenth century».
P. 223).
6
Founding and manifesto. P. 41. См. также: Lynton. Futurism; Rawson. Italian Futurism. Восторгу Маринетти вторит
восхищение Фрэнка Ллойда Райта океанским лайнером, самолетом и машиной (Conn. Divided Mind. P. 221—224).
574
вание древних памятников, поскольку современная технология изгоняет все
«монументальное, массивное, статичное» в пользу светлой, гибкой, недолговечной
архитектуры. «Наши дома будут стоять до тех пор, пока живы мы сами, и каждое поколение
будет возводить собственные дома».
1
Аналогичные проклятия в адрес старых зданий
раздаются со стороны и других модернистских архитекторов. «Мы выкинем устаревшие
орудия на свалку», — писал Ле Корбюзье, архитекторы должны избавиться от — «старой и
враждебной среды [с ее] душащими нас многолетними отложениями детрита».
2
В глазах
футуристов и модернистов, архитектура XX в. упразднила всю архитектуру прошлого; только
вновь созданные стили способны передать уникальность открывающихся перспектив.
«Современная жизнь и искусство снимают давление прошлого», — выражает уверенность
Мондриан, позволяя людям избежать тирании старых зданий.
3
Предубеждение против прошлого господствовало в архитектурной теории и практике в
течение длительного времени после второй мировой войны. «В послевоенную эру впервые
было подорвано доверие не только к стилям предыдущих времен, но и ко всему зданию
наследия в целом, — утверждает Маркус Бинни (М. Binney). — Ни одна предшествующая
эпоха не позволяла себе столь всеобъемлющего отрицания архитектурой прошлого».
Модернисты наложили запрет на обращение к существующим или существовавшим в
прошлом зданиям и оставили классическую, как и готическую, традиции за границами
текущей практики, не разрешая студентам набираться опыта, осваивая и имитируя творения
предшествующих эпох.
4
Два поколения модернизма — и появляется большое число художников и архитекторов (не
говоря уже об их клиентах) — уже слабо знакомы с классическим или каким-либо иным
наследием Западной культуры. И многие теперь горько сожалеют о подобном разрыве.
«Отрезать нас от традиции в бессмысленной погоне за новизной и оригинальностью —
означает оторвать нас от культуры, — приходит к выводу Ален Гринберг. — С таким же
успехом можно было бы отказаться от английского языка с его несравненным наследием и
силой экспрессии, для
1
Messaggio (1914) and Citta nuova (1914). Цит. по: Banham. First Machine Age. P. 129, 135. См.: Frampton. Critical History
of Modern Architecture. P. 84—89.
Сант-Элия (1888—1916), итальянский архитектор-модернист. В период с 1912 по 1914г. создал ряд рисунков и планов
города будущего — высоко механизированного и индустриализированного образования с небоскребами и
многоуровневым движением транспорта. Сант-Элия ушел добровольцем на первую мировую войну и погиб в битве при
Монфальконе. — Примеч. пер.
2
Le Corbusier. Towards a New Architecture. 1923. P. 17, 268.
3
Mondrian. Liberation from Oppression of Art and Life. 1941. Цит. по: Tafuri. Theories and History of Architecture. P. 38.
Конечно, такие модернисты как Ле Корбюзье или Мис ван дер РОЭ глубоко усвоили классицизм, но классические модели
интересовали их преимущественно как воплощения первоистоков и вневременных начал, они использовали их, скорее,
риторически, нежели контекстуально (Curtis. Modern transformation of classicism; Searing. Speaking a new classicism. P.
11—13).

4
Binney. Oppression to obsession. P. 210; Machado. Old buildings as palimpsest. P. 48.
575
того, чтобы общаться на... эсперанто».
1
Вспоминая смущение Льюиса Мамфорда по поводу
того, что в 1950-х столь достославный памятник, как нью-йорская Пенсильвания Стейшн,
«собираются накрыть футляром в классическом стиле», историки архитектуры высказывают
мнение, что, возможно, он «был столь хорош не вопреки своей связи с классикой,... но
благодаря ей». Пенсильвания Стейшн «уместна на 7 Авеню» потому, что она была «уместна в
Риме».
2
Язык исторической архитектуры «несет в себе лишь несколько обертонов, которые
понятны всем, — считает Робин Миддлтон, — догадки, тонкие модуляции использования в
прошлом нигде не записаны и были потеряны. Мы остались просто-напросто
безграмотными».
3
Однако вновь открывшейся ностальгии по традициям достославных времен редко когда
удается найти творческие образцы для настоящего и будущего, она в большей степени
нацелена на сохранение следов прошлого, будь оно славным или обыденным. Но даже эта
цель подвергается опасности из-за невежества. «Сорок лет модернистского движения привели
нас к тому, что практически нет архитекторов моложе 60 лет, кто был бы воспитан на знании
классической архитектуры — знании, необходимом для того, чтобы справиться с нынешними
задачами консервации зданий».
4
В конце 1940-х в Иейле, вспоминает Винсент Скалли, «была
целая группа джентльменов, взращенных в духе Beaux Arts,
5
— великой академической
классической традиции — у которых еще не истек срок их контракта, так что их нельзя было
уволить, но у которых уже совсем не было студентов. Никто не обращал на них никакого
внимания. Теперь всем нам хотелось бы, чтобы они снова появились там».
6
Захватывающий дух новый мир, которым модернисты заменили мир старый, теперь многими
воспринимается как бесчеловечный, бесплодный и непригодный к жизни. В течение двух
последних десятилетий мы стали свидетелями ширящейся реакции на амнезию авангарда:
исторический эклектизм в изобразительном искусстве, традиционализм в литературе,
постмодернистский классицизм в архитектуре. Последняя мода демонстрирует нам и
извечную тягу к древности, и трудности восстановления утраченной близости после
модернистского разрыва. Архитекторы используют классические мотивы как предмет
остроумия или иронии, как будто боятся, что их поймают на любовании ими.
7
Может, они и
«занимаются исследованием прошлого, но их
1
Greenberg Allen. A sense of the past: an architectural perspective. P. 48.
2
Goldberger. On the Rise: Architecture and Design in the Postmodern Age. P. 30. (A backward glance // His Roots of
Contemporary American Architecture. P. 14).
3
Middleton Robin. Use and abuse of tradition in architecture. P. 732,
4
Elsom Cecil. Цит. по: White David. Don t shoot the architect // New Society. 21 June 1978. P. 707, 708.
5
Изящные искусства (фр.) — Примеч. пер.
6
Lardner James. Vincent Scully // IHT, 5 Apr. 1983. P. 16.
1
Jencks. Introduction, Post-Modern Classicism. Один архитектор считает, что «ирония неразрывно следует за любой
попыткой использовать сегодня классический вока-буляр... И если объект не несет в себе отчетливый заряд
иронии, то это уже само по
576
знания о нем столь отрывочны, а энтузиазм столь произволен и эпизодичен, что большая
часть из того, что получается — это история в режиме „сделай сам"».
1
В небоскребе
«Чиппендейл» Филипа Джонсона (Philip Johnson) в Нью-Йорке для достижения нового
декоративного эффекта используются классические элементы, Пьяцца д'Италия из
нержавеющей стали и неона Чарльза Мура (С. Moore) в Новом Орлеане представляет собой
ошеломляющий коллаж классических сюжетов. Однако ни одно из этих творений не может
считаться убедительным свидетельством гармоничного синтеза предчувствий предшественни-
ков пре-модернизма с устоявшейся традицией, который был бы направлен на овладение духом
традиции, а не на воспроизведение ее деталей.
2
Несмотря на впечатляющий диапазон методов
— от прямого цитирования и косвенных аллюзий, до детального воспроизведения и
дразнящих инверсий — постмодернистам редко удается чувствовать себя комфортно в
окружении античных образов. Осуждая соперничающий с ними классический ривайвализм
как «причуды, претендующие на то, чтобы иметь некое отношение к прошлому» при помощи
«стилистических ухищрений» или «орнаментальных провокаций», представитель группы
«Taller de Arquitectura» Риккардо Бофилла бессознательно пародирует выстроенный этой
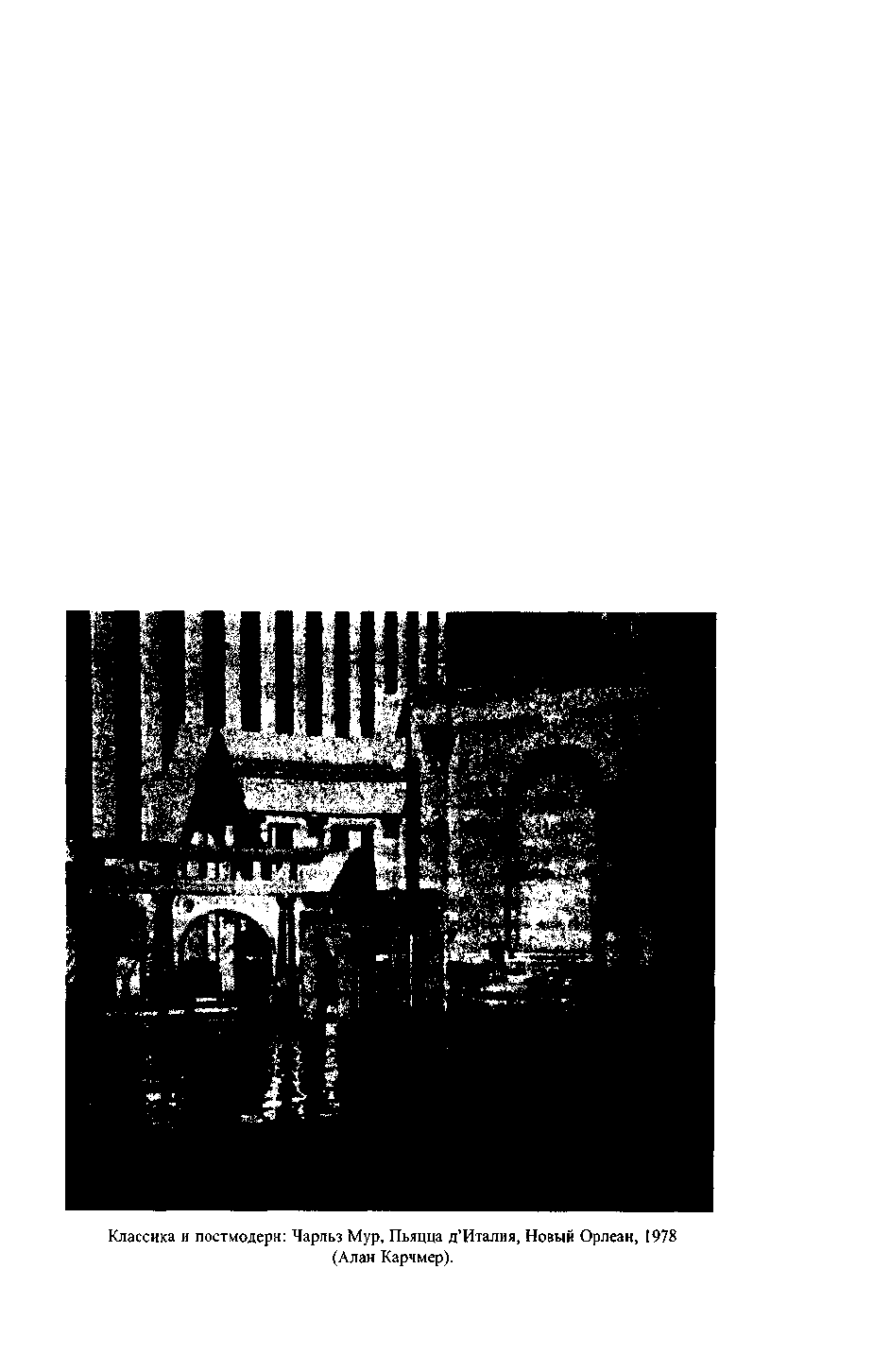
компанией комплекс Марне-ла-Вале (Marne-la-Valee) как «мыс Канаверал классического
космического
века».
3
Отличительным признаком космического века является незнание прошлого. Уверенная в
своих ценностях цивилизация, как считает Гом-брич, не нуждалась бы в подчеркивании
связей с каноническими текстами и памятниками. «Прошлое удаляется от нас с ужасающей
скоростью,... для того, чтобы сохранить открытыми каналы коммуникации, позволяющие нам
понимать величайшие творения человечества, мы должны изучать и обучать истории
культуры более глубоко и более интенсивно, чем это требовалось поколение назад, когда
большинство подобных резонансов можно было бы ожидать в порядке вещей».
4
Пост-
модернистские классицисты постоянно обращаются к старинным памятникам и
воспроизводят их черты, но зачастую оказываются не в состоянии постичь их сущностный
смысл. Обращаясь с прошлым, по выражению Моше Сафди, как со складом запчастей, они
вырывают исто-
себе может быть предметом иронии» (Levin Edward S. II Speaking a New Classicism.
P. 36).
1
Huxtablt. Troubled state of modern architecture. P. 26.
2
Longstreth. Academic eclecticism in American architecture. P. 78—80; Huxtable. Is modern architecture dead? По поводу
Пьяцца д Италия см.: Place debate (1984), включая и реакцию местных итало-американцев: «Нам хотелось бы сделать
что-нибудь более сицилийское, не столь римское» (Р. 17).
3
Searing. Speaking a new classicism. P. 9—10; Peter Hodgkinson // ТА talk to AR, Architectural Review, 121:6 (1982), 32.
См.: Annabelle d Huart. Losespacios de Abraxas // Ri-cardo Boftll: Taller de Arquiteciura, Barcelona: Gustavo Gili, 1984. P.
32—43.
4
Gombrich. Research in the humanities: ideals and idols. P. 2; In Search of Cultural History, цитата на с. 45.
577
рические мотивы из контекста, не зная или сознательно игнорируя их истоки и взаимосвязи.
1
Однако история — это целостное образование, а не «склад стилистических запчастей»,
произвольные ссылки или цитирование — слабая замена темпоральным ассоциациям,
заключенным в традиционных зданиях. «Создается впечатление, что ведущие представители

профессии тривиализируют прошлое, — приходит к выводу историк архитектуры, — они
используют в своих композициях всякий хлам; историческое исследование никак не
способствует расширению восприятия и не увеличивает их силы. Они просто тиражируют
основные мотивы и элементы прошлого».
2
Едва ли постмодернистский классицизм способен воссоединить историю. «В отчаянии
оглядываясь на прошлое, не имея ни малейшего
1
Rossi. The Greek Order. P. 19; Safdie. Private jokes in public places. P. 68. Лишь некоторые из зрителей, опрошенных в
ходе недавнего исследования, смогли уловить вложенные авторами в современные здания в историческом стиле
ассоциации (Groat and Canter. Does Post-Modernism communicate? p. 87).
2
Middleton. Use and abuse of tradition in architecture. P. 736.
578
представления о том, как его использовать», — пишет Манфредо Тафу-ри, современные
итальянские архитекторы сохраняют не историю, а свои собственные эмоции, ностальгию,
автобиографические эпизоды; их «спасение» истории — это просто-напросто «робкая и
нерешительная попытка освободиться от традиции нового».
1
Действительно,
постмодернистский классицизм столь эклектичен, что, похоже, включает в себя любой
исторически производный стиль, который «современные архитекторы вспоминают или
цитируют всуе».
2
Еще один симптом утраты прошлого — неструктурированный эклектизм нашего интереса к
истории. Традиция уже не выступает в виде целостного, организованного исторического
корпуса, но представляет собой попурри всего, что только было, в котором кинематограф
1930-х привлекает такое же внимание (и внимание того же самого типа), как и Парфенон. По
словам Лорена Эйсли (L. Eiseley) «кажется, будто мы живем посреди бессмысленной мозаики
фрагментов. От черепов обезьян до храмов майя, мы созерцаем разнообразные обломки
времени, подобно осматривающим достопримечательности туристам, которым все эти
величественные фрагменты, разрушенные ворота и затонувшие галеры не говорят ровным
счетом ничего».
3
Не желая или не умея воплотить наследие прошлого в собственных творческих актах, мы
сосредотачиваем усилия на сохранении дошедших до нас фрагментов. Чем менее целостна
роль прошлого в нашей жизни, тем более настоятельна потребность в сохранении его
реликтов. Поскольку мы редко понимаем, что же в действительности значили эти реликвии,
какую роль они играли, какие желания были с ними связаны, какие ценности воплощали они в
активной жизни прошлого, мы не находим ничего лучшего, как просто их сохранять. Они уже
не принадлежат действительному миру, не стимулируют вдохновение художников и
архитекторов на новое творчество. Они уже не составляют части живого прошлого, но тем
больше мы ценим его следы или же пытаемся приспособить их для нынешних целей. А
поскольку существовавшие ранее способы реакции на прошлое для нас теперь закрыты,
поскольку большая часть сохранившегося прошлого принадлежит чужой для нас стране,
именно сохранение стало основным — часто единственным — способом обращения к нашему
наследию.
1
Tajuri Man/redo. Theories and History of Architecture. P. 54, 52, 59.
2
Penny Nicholas. Cross purposes // TLS. 3 Apr. 1981. P. 383. «Те здания, которые лет десять тому назад назвали бы
вариациями на темы современности, теперь приветствуются как классические» (Reed. Classical tradition in modern times
(1981). P. 25).
3
Eiseley Loren. Unexpected Universe. P. 6. «Обширный рост наших знаний о прошлом ведет к тому, что все эти
[варианты] прошлого становятся в значительной мере сопоставимы между собой как по степени полноты, так и по
сложности» (Meyer L. В. Music the Arts and Ideas. P. 192), см.: Ong. Rhetoric, Romance, and Technology. P. 325, 326.
••> 579
Сохранение
В мире бетона, «Конкорда» и компьютеров жизненно важно, чтобы мы сохраняли то, еще осталось от
индивидуальности. Если бы все было современным, то мы повсюду видели бы одно и то же.
Тимоти Кантем. Зачем нужно заботиться о старинных зданиях?^
В XIX в. было совершенно естественным принадлежать к XIX в., и это было по силам каждому, но в XX в. это уже
требует труда.
Малькольм Брэдбери it Майкл Орслер. Отдел преувеличений
2
Цивилизация, которая стремится к сохранению — это цивилизация, идущая к закату.
Пьер Буль. Беседы с Селестчном Делижем
3
Крестовый поход против культурной амнезии совпал с распространением ностальгических
путешествий во времени (см. глава 1) и с манипуляциями с историей как со своего рода
товаром (глава 6). Все три тенденции сходятся воедино в стремлении к сохранению. Однако

современная страсть к сохранению отражает пятивековой опыт изменения подходов и
артефактов. В этом разделе мы рассмотрим нынешнее состояние дел с сохранением,
объясним, почему оно становится столь важным, сопоставим его предполагаемые выгоды и
опасности и рассмотрим его более широкие последствия.
Сохранение материальных объектов — далеко не единственный способ охраны наследия.
Великий храм Исэ-синто (Ise Shinto) в Японии разбирают каждые 20 лет и заменяют его
точной репликой, построенной из тех же самых материалов. Физическая преемственность для
японцев значит меньше, чем сохранение способов и ритуалов повторного воссоздания;
мастера, воспитанные в старых традициях, сами представляют собой «живое национальное
достояние» — высоко ценимые образцы культурного наследия.
4
Таким образом японцам удается избежать дилеммы, внутренне присущей задаче сохранения
объектов — ее конечной невозможности. Все, что мы считаем «сохраненным», в той или иной
мере оказывается измененным; во времени сохраняется только форма, но не содержание.
1
Cantell Timothy. Why care about old buildings?, 1980. P. 7.
2
Bradbury Malcolm and Orster Michael. Department of amplification, I960. P. 59.
3
Boulez Pierre. Conversations with Celestin Deliege, 1975. P. 33.
4
Kobayashi. Case of the Ise Grand Shinto temple in Japan. Среди 66 мастеров, заслуживших звание «живого национального
достояния» и получающих стипендии от правительства, есть гончары, мастера лаковых изделий, резчики по дереву,
ткачи, изготовители бумаги, оружейники, красильщики щелка, колокольные мастера, исполнители театра кабуки, но и
бунраку (марионеток), и музыканты, играющие на старинных инструментах (Christine Chapman. Living national treasures:
cultural anachronisms who keep a rich heritage alive for the future // IHT. 21 Mar. 1983. P. 12). См.: Arnheim. On duplication. P.
237; Margolis. Art, forgery, and authenticity. P. 166.
580
Многие вещи мы идентифицируем именно на этой основе. Бочка, в которой заменены все
исходные обручи и клепки, все еще остается для нас той же самой старой бочкой. Химия
безжалостно преобразовывает все составные части артефактов, но мы продолжаем смотреть
на них как на оригинальные до тех пор, пока они не рассыпятся вовсе: здание и пара
башмаков остаются для нас тем же самым зданием или парой башмаков до тех пор, пока
здание не превратится в груду камней, а башмаки — в хлам.
Живое также сохраняет идентичность несмотря на очевидные физические замещения. Деревья
каждый год сбрасывают листву и вновь обрастают листьями, они меняются по мере роста и
увядания, их могут пересадить куда-нибудь в другое место, но при этом они остаются все
теми же самыми узнаваемыми сущностями. Мы также сохраняем идентичность на
протяжении жизни, храня в себе собственные прошлые и настоящие Я, пусть и изменившиеся,
как принадлежащие тому же самому индивиду.
1
Таким образом, понятие сохранения выходит
далеко за пределы материального сохранения, на котором обычно концентрируют свои усилия
западные общества.
Масштаб
Только для нынешнего поколения сохранение осязаемого прошлого превратилось в некое
глобальное предприятие. Частицы прошлого, целостные, разрозненные или различимые лишь
по отдельным чертам, лежат вокруг нас повсюду, однако на протяжении истории люди по бо-
льшей части их не замечали. Принимая это коллективное материальное наследство как само
собой разумеющееся, они позволяли древности выживать, истлевать или вовсе исчезать в
соответствии с законами природы или прихотью собратьев-людей.
Конечно, еще с незапамятных времен имеются примеры сохранения такого наследия, а
отдельные его частицы — преданные земле тленные останки, религиозные реликты,
осязаемые символы власти — обычно хранили как ценность. Однако стремление сохранить
значительную часть прошлого — отличительная черта лишь недавнего времени.
1
«Дуб вырастает из маленького побега в большое дерево, но остается все тем же дубом, хотя ни одна частица его
прежней материи, ни форма его частей не остаются прежними» (David Hume. Treatise of Human Nature. Bk I, Pt 4, sect.
6,1:538. Цит. по: Д.Юм. Соч. Т. 1. M., 1965. С. 372 (перевод изменен.)). См.: Fain. Between Philosophy and History. P. 74—
80; Freeman E. A. Preservation and Restoration. P. 38, 39; Wiggins. Identity and Spatio-Temporal Continuity. P. 8—18;
Chisholm. Person and Object. P. 89—113. Однако, если мы узнаем человека, которого знали прежде, но не узнали его с
первого взгляда, это означает, что того человека, которого мы знали, уже больше нет, и что «то, что мы видим сейчас,
это человек, о существовании которого нам ничего не было известно»; Пруст был потрясен тем, что, оказывается, одно и
то же имя принадлежит, «девушке с прекрасными волосами, так замечательно вальсировавшей, которую я знал прежде,
и этой тяжеловесной седой дамой, пробирающейся через комнату со слоновьей грацией» (Proust. Remembrance of Things
Past. 3:982) (Пруст. У Германтов).
581

Только с XIX в. европейские народы стали отождествлять себя со своим материальным
наследием, и только в XX в. появились основные программы его охраны. Согласованные же
усилия по защите реликтов от разрушения предпринимаются преимущественно в последние
несколько десятилетий.
Охрана памятников ныне присутствует повсюду, практически каждое государство стремится
охранять свои исторические монументы. О своей приверженности делу сохранения
памятников истории заявляют все: и там, где такие памятники относятся к древнейшим
периодам и имеются в изобилии, и там, где их сравнительно немного, и они имеют недавнее
происхождение, при коммунизме и при капитализме, в бывших колониальных империях и
среди недавно освободившихся колоний. Повсеместное распространение различного рода
агентств — Международного музейного совета (International Council of Museums — ICOM),
Международного совета по памятникам и достопримечательностям (International Council on
Monuments and Sites — ICOMOS), Международного центра по изучению сохранения и
реставрации культурного достояния (International Centre for the Study of the Preservation —
ICCROM), Международного института охраны исторических и архитектурных работ
(International Institute for Conservation and Architectural Works — ПС), Всемирной конвенции о
мировом историческом наследии (World Heritage Convention) — говорит о глобальном
характере заботы об осязаемом наследии.
Особенно бросается в глаза распространение охраны памятников в сфере старинных зданий.
Количество групп, посвятивших себя заботе об архитектурном наследии, на протяжении
1960—1970-х годов умножилось многократно. В США охрана памятников в 1960 г. все еще
была развлечением немногочисленной и обеспеченной элиты, а к 1980 г. более половины
строительных работ в Америке включали в себя реставрационные действия, в
государственном бюджете 1983 г. более 2 млрд долл. было выделено на налоговые кредиты
подобным проектам.
1
Почти 2/3 недавних выпускников Гарвардского колледжа были заняты
на реставрациях старинных зданий — занятие, которое для предыдущего поколения
представлялось в высшей степени эксцентричным.
2
В Великобритании имеется значительный
спрос на старинные строения: похоже, чуть не половина населения мечтает владеть старым
гумном, водяной мельницей или сушилкой для хмеля. Число потенциально охраняемых
исторических зданий, включенных в реестр, превысило 300 тыс. в 1984 г., а в 1987 г.
ожидается, что оно превысит полмиллиона, т. е. 4% от всего числа зданий в Великобритании.
3
В Вос-
1
Preservation News. 1983. 27:1. P. 3. См. мою работу Conserving the heritage: Anglo-American comparisons. P. 228—
233; Lee. Profiteers vs. antiquarians.
2
Lukacs. Obsolete historians. P. 80. Обследование выпуска Гарвардского колледжа 1968 г. проводилось в 1980 г.
3
SPAB Annual Report, 1981—1982. P. 5. Число таких включенных в реестр охраняемых зданий в 1987 г. может
даже превысить 750 тыс., поскольку одна позиция в реестре может включать в себя несколько строений (Richard
Griffith. Greater London Council, Historic Building Division. Lecture at University College London. 30 Jan. 1984).
582
