Чубаров И.М. (ред., сост.) Антология феноменологической философии в России
Подождите немного. Документ загружается.

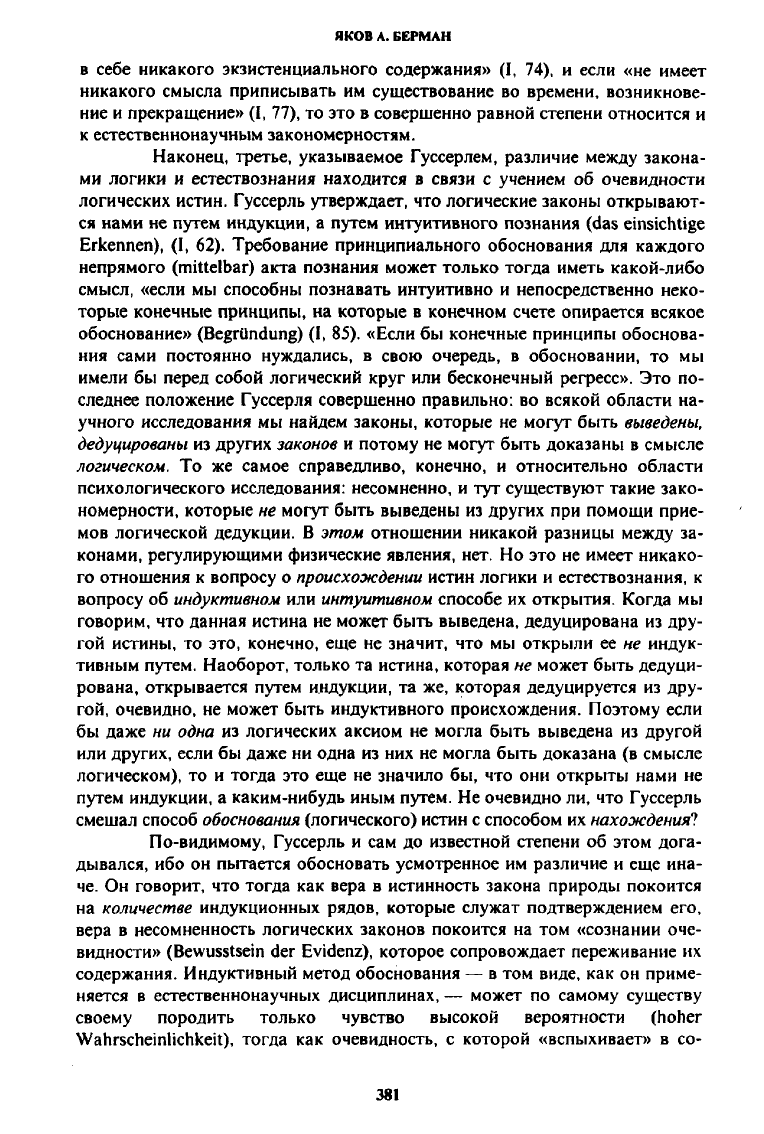
ЯКОВ
А.
БЕРМЛН
в
себе никакого экзистенциального содержания» (I, 74), и если «не имеет
никакого
смысла приписывать им существование во времени, возникнове-
ние
и прекращение»
(I,
77), то это в совершенно равной степени относится и
к
естественнонаучным закономерностям.
Наконец,
третье, указываемое Гуссерлем, различие между закона-
ми
логики и естествознания находится в связи с учением об очевидности
логических истин. Гуссерль
утверждает,
что логические законы открывают-
ся
нами не путем индукции, а путем интуитивного познания (das einsichtige
Erkennen),
(I, 62). Требование принципиального обоснования для каждого
непрямого (mittelbar) акта познания может только тогда иметь какой-либо
смысл, «если мы способны познавать интуитивно и непосредственно неко-
торые конечные принципы, на которые в конечном счете опирается всякое
обоснование»
(Begründung)
(I, 85). «Если бы конечные принципы обоснова-
ния
сами постоянно нуждались, в свою очередь, в обосновании, то мы
имели бы перед собой логический круг или бесконечный регресс». Это по-
следнее положение Гуссерля совершенно правильно: во всякой области на-
учного исследования мы найдем законы, которые не
могут
быть
выведены,
дедуцированы
из
других
законов
и потому не
могут
быть доказаны в смысле
логическом.
То же самое справедливо, конечно, и относительно области
психологического исследования: несомненно, и тут
существуют
такие зако-
номерности, которые не
могут
быть выведены из
других
при помощи прие-
мов логической дедукции. В
этом
отношении никакой разницы между за-
конами,
регулирующими физические явления, нет. Но это не имеет никако-
го отношения к вопросу о
происхождении
истин логики и естествознания, к
вопросу об
индуктивном
или
интуитивном
способе их открытия. Когда мы
говорим, что данная истина не может быть выведена, дедуцирована из дру-
гой истины, то это, конечно, еще не значит, что мы открыли ее не индук-
тивным путем. Наоборот, только та истина, которая не может быть дедуци-
рована, открывается путем индукции, та же, которая дедуцируется из дру-
гой, очевидно, не может быть индуктивного происхождения. Поэтому если
бы даже ни
одна
из логических аксиом не могла быть выведена из другой
или
других,
если бы даже ни одна из них не могла быть доказана (в смысле
логическом), то и тогда это еще не значило бы, что они открыты нами не
путем индукции, а каким-нибудь иным путем. Не очевидно ли, что Гуссерль
смешал способ
обоснования
(логического) истин с способом их
нахождения!
По-видимому, Гуссерль и сам до известной степени об этом дога-
дывался, ибо он пытается обосновать усмотренное им различие и еще ина-
че. Он говорит, что тогда как вера в истинность закона природы покоится
на
количестве
индукционных рядов, которые
служат
подтверждением его,
вера в несомненность логических законов покоится на том «сознании оче-
видности»
(Bewusstsein
der Evidenz), которое сопровождает переживание их
содержания. Индуктивный метод обоснования — в том виде, как он приме-
няется
в естественнонаучных дисциплинах, — может по самому существу
своему породить только чувство высокой вероятности (hoher
Wahrscheinlichkeit), тогда как очевидность, с которой
«вспыхивает»
в со-
381
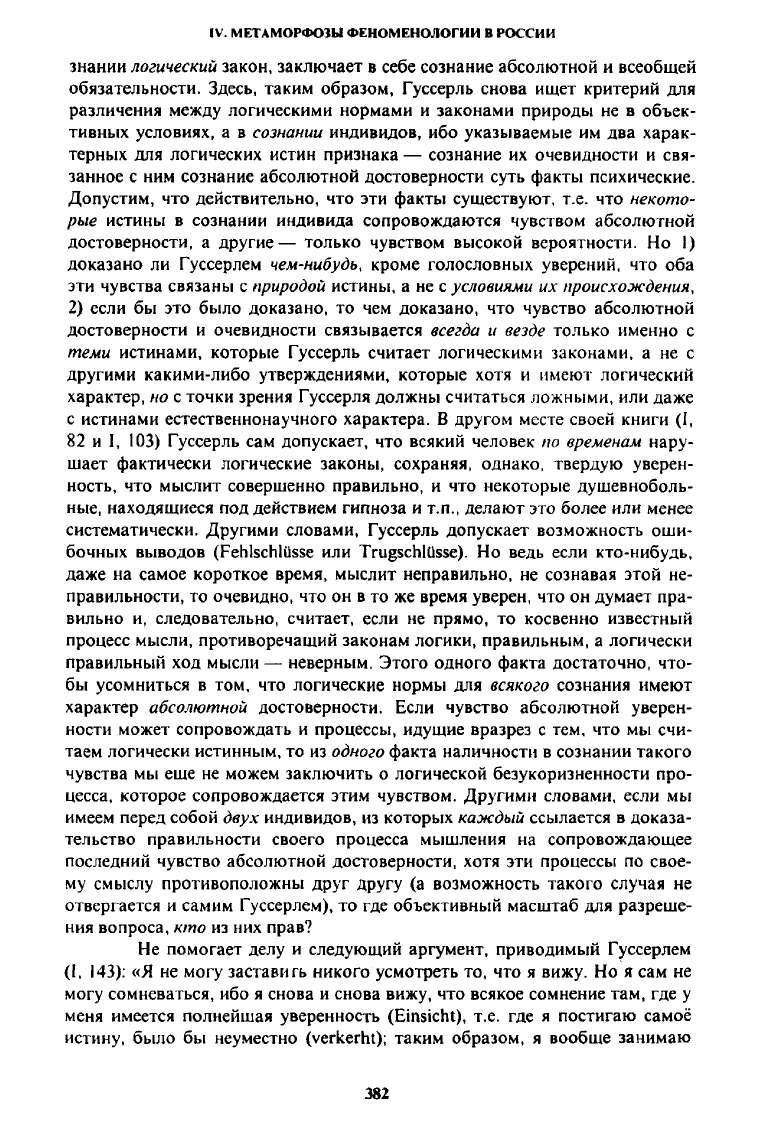
IV.
МЕТАМОРФОЗЫ
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
В
РОССИИ
знании
логический
закон,
заключает в себе сознание абсолютной и всеобщей
обязательности. Здесь, таким образом, Гуссерль снова ищет критерий для
различения между логическими нормами и законами природы не в объек-
тивных условиях, а в
сознании
индивидов, ибо указываемые им два харак-
терных для логических истин признака — сознание их очевидности и свя-
занное
с ним сознание абсолютной достоверности
суть
факты психические.
Допустим, что действительно, что эти факты существуют, т.е. что
некото-
рые истины в сознании индивида сопровождаются чувством абсолютной
достоверности, а другие— только чувством высокой вероятности. Но 1)
доказано ли Гуссерлем
чем-нибудь,
кроме голословных уверений, что оба
эти
чувства связаны с
природой
истины, а не с
условиями
их
происхождения,
2) если бы это было доказано, то чем доказано, что чувство абсолютной
достоверности и очевидности связывается
всегда
и
везде
только именно с
теми
истинами, которые Гуссерль считает логическими законами, а не с
другими какими-либо утверждениями, которые хотя и имею! логический
характер, но с точки зрения Гуссерля должны считаться ложными, или даже
с истинами естественнонаучного характера. В другом месте своей книги (I,
82 и I, 103) Гуссерль сам допускает, что всякий человек по
временам
нару-
шает фактически логические законы, сохраняя, однако,
твердую
уверен-
ность, что мыслит совершенно правильно, и что некоторые душевноболь-
ные,
находящиеся под действием гипноза и т.п., делают это более или менее
систематически. Другими словами, Гуссерль допускает возможность оши-
бочных выводов
(Fehlschlüsse
или
Trugschlüsse).
Но ведь если кто-нибудь,
даже на самое короткое время, мыслит неправильно, не сознавая этой не-
правильности, то очевидно, что он в то же время уверен, что он
думает
пра-
вильно и, следовательно, считает, если не прямо, то косвенно известный
процесс мысли, противоречащий законам логики, правильным, а логически
правильный ход мысли — неверным. Этого одного факта достаточно, что-
бы усомниться в том, что логические нормы для
всякого
сознания имеют
характер
абсолютной
достоверности. Если чувство абсолютной уверен-
ности может сопровождать и процессы, идущие вразрез с тем, что мы счи-
таем логически
истинным,
то из
одного
факта наличности в сознании такого
чувства мы еще не можем заключить о логической безукоризненности про-
цесса, которое сопровождается этим чувством. Другими словами, если мы
имеем перед собой двух индивидов, из которых
каждый
ссылается в доказа-
тельство правильности своего процесса мышления на сопровождающее
последний чувство абсолютной достоверности, хотя эти процессы по свое-
му смыслу противоположны
друг
другу
(а возможность такого случая не
отвергается и самим Гуссерлем), то где объективный масштаб для разреше-
ния
вопроса, кто из них прав?
Не
помогает
делу
и следующий аргумент, приводимый Гуссерлем
(I,
143): «Я не могу заставить никого усмотреть то, что я вижу. Но я сам не
могу сомневаться, ибо я снова и снова вижу, что всякое сомнение там, где у
меня
имеется полнейшая уверенность (Einsicht), т.е. где я постигаю самоё
истину, было бы неуместно (verkerht); таким образом, я вообще занимаю
382
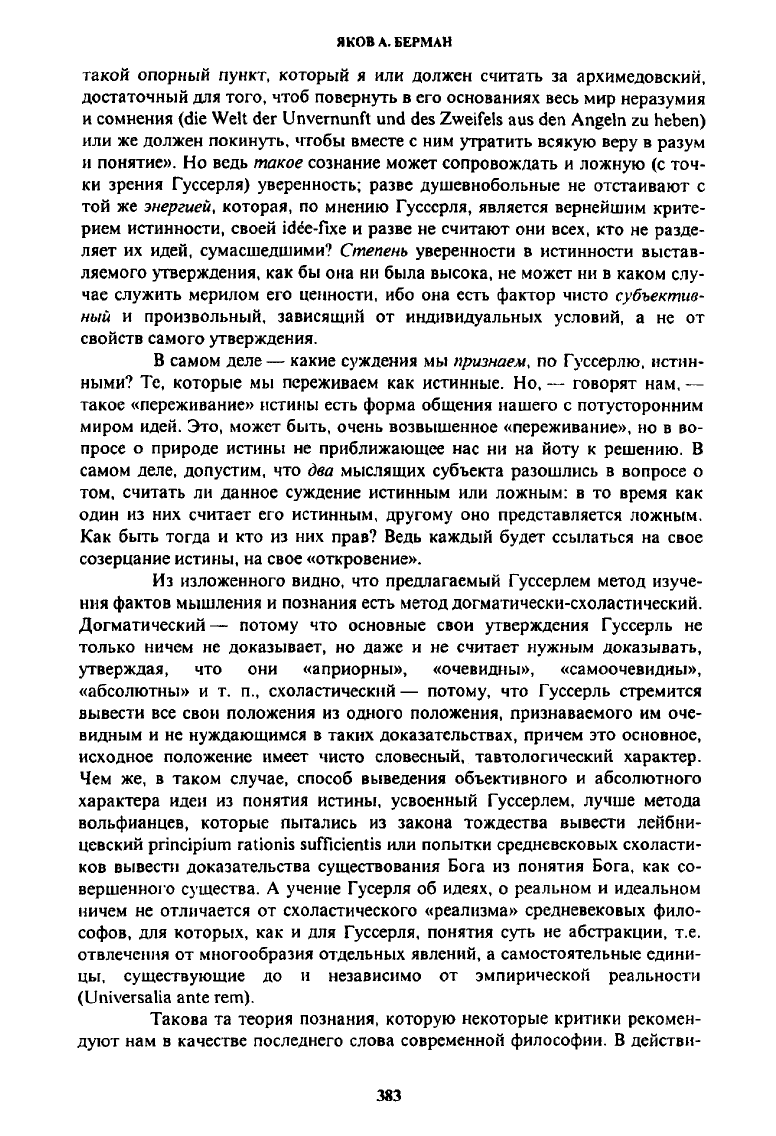
ЯКОВ
А.
БЕРМАН
такой
опорный пункт, который я или должен считать за архимедовский,
достаточный для того, чтоб повернуть в его основаниях весь мир неразумия
и
сомнения (die
Welt
der Unvernunft und des
Zweifels
aus den
Angeln
zu heben)
или
же должен покинуть, чтобы вместе с ним утратить всякую веру в разум
и
понятие». Но ведь
такое
сознание может сопровождать и ложную (с точ-
ки
зрения Гуссерля) уверенность; разве душевнобольные не отстаивают с
той
же
энергией,
которая, по мнению Гуссерля, является вернейшим крите-
рием
истинности, своей
idée-fixe
и разве не считают они всех, кто не разде-
ляет их идей, сумасшедшими?
Степень
уверенности в истинности выстав-
ляемого утверждения, как бы она ни была высока, не может ни в каком слу-
чае служить мерилом его ценности, ибо она есть фактор чисто
субъектив-
ный и произвольный, зависящий от индивидуальных условий, а не от
свойств самого утверждения.
В самом деле — какие суждения мы
признаем,
по Гуссерлю, истин-
ными?
Те, которые мы переживаем как истинные. Но, — говорят нам, —
такое «переживание» истины есть форма общения нашего с потусторонним
миром
идей. Это, может быть, очень возвышенное «переживание», но в во-
просе
о природе истины не приближающее нас ни на йоту к решению. В
самом
деле, допустим, что два мыслящих субъекта разошлись в вопросе о
том,
считать ли данное суждение истинным или ложным: в то время как
один
из них считает его истинным,
другому
оно представляется ложным.
Как
быть тогда и кто из них прав? Ведь каждый
будет
ссылаться на свое
созерцание
истины, на свое «откровение».
Из
изложенного видно, что предлагаемый Гуссерлем метод изуче-
ния
фактов мышления и познания есть метод догматически-схоластический.
Догматический—
потому что основные свои утверждения Гуссерль не
только ничем не доказывает, но даже и не считает нужным доказывать,
утверждая, что они «априорны», «очевидны», «самоочевидны»,
«абсолютны» и т. п., схоластический— потому, что Гуссерль стремится
вывести все свои положения из одного положения, признаваемого им оче-
видным
и не нуждающимся в таких доказательствах, причем это основное,
исходное положение имеет чисто словесный, тавтологический характер.
Чем
же, в таком случае, способ выведения объективного и абсолютного
характера идеи из понятия истины, усвоенный Гуссерлем, лучше метода
вольфианцев,
которые пытались из закона тождества вывести лейбни-
цевский
principium rationis
sufficientis
или попытки средневековых схоласти-
ков
вывести доказательства существования Бога из понятия Бога, как со-
вершенною
существа. А учение Гусерля об идеях, о реальном и идеальном
ничем
не отличается от схоластического «реализма» средневековых фило-
софов,
для которых, как и для Гуссерля, понятия
суть
не абстракции, т.е.
отвлечения
от многообразия отдельных явлений, а самостоятельные едини-
цы,
существующие до и независимо от эмпирической реальности
(Universalia ante rem).
Такова
та теория познания, которую некоторые критики рекомен-
дуют
нам в качестве последнего слова современной философии. В действи-
383
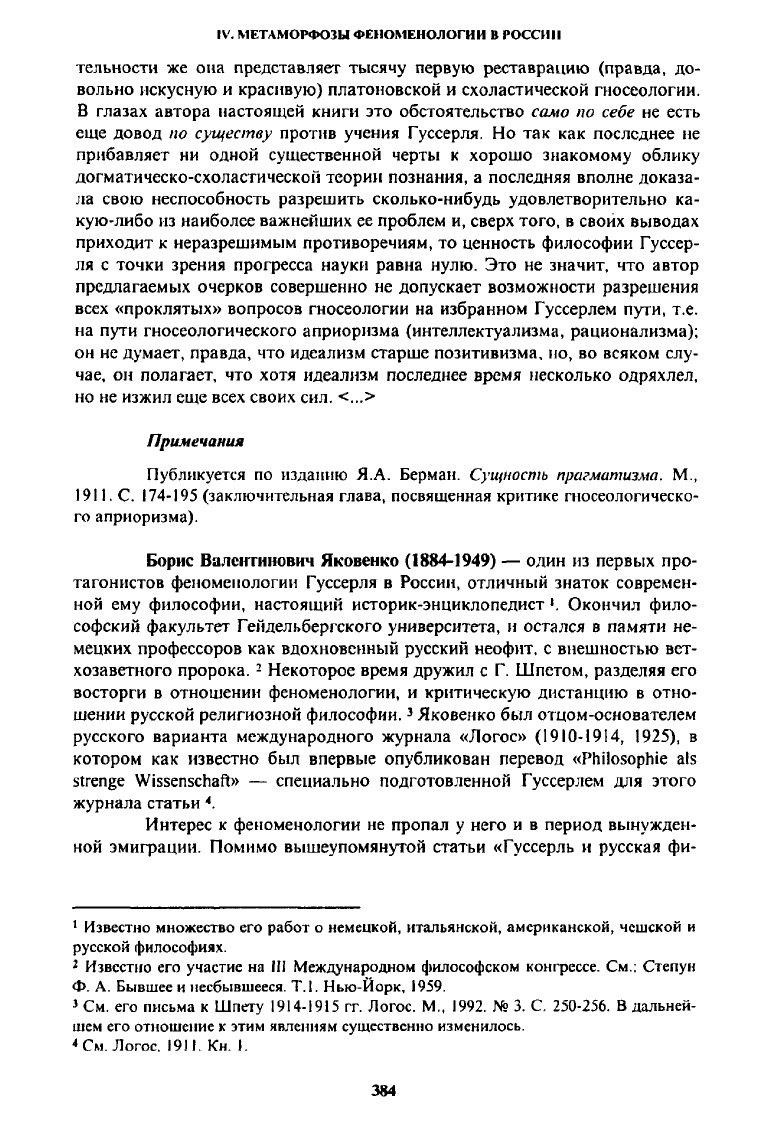
IV.
МЕТАМОРФОЗЫ
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
В
РОССИИ
тельности же она представляет тысячу первую реставрацию (правда, до-
вольно искусную и красивую) платоновской и схоластической гносеологии.
В
глазах
автора настоящей книги это обстоятельство
само
по
себе
не есть
еще довод по
существу
против учения Гуссерля. Но так как последнее не
прибавляет ни одной существенной черты к хорошо знакомому облику
догматическо-схоластическон теории познания, а последняя вполне доказа-
ла свою неспособность разрешить сколько-нибудь удовлетворительно ка-
кую-либо из наиболее важнейших ее проблем и, сверх того, в своих выводах
приходит к неразрешимым противоречиям, то ценность философии Гуссер-
ля
с точки зрения прогресса науки равна нулю. Это не значит, что автор
предлагаемых очерков совершенно не допускает возможности разрешения
всех
«проклятых»
вопросов гносеологии на избранном Гуссерлем пути, т.е.
на
пути гносеологического априоризма (интеллектуализма, рационализма);
он
не
думает,
правда, что идеализм старше позитивизма, но, во всяком слу-
чае, он полагает, что хотя идеализм последнее время несколько одряхлел,
но
не изжил еще
всех
своих сил. <...>
Примечания
Публикуется по изданию ЯЛ. Берман.
Сущность
прагматизма.
М.,
1911. С.
174-195
(заключительная глава, посвященная критике гносеологическо-
го априоризма).
Борис
Валентинович
Яковенко
(1884-1949) — один из первых про-
тагонистов феноменологии Гуссерля в России, отличный знаток современ-
ной
ему философии, настоящий историк-энциклопедист
1
. Окончил фило-
софский
факультет Гейдельбергского университета, и остался в памяти не-
мецких профессоров как вдохновенный русский неофит, с внешностью вет-
хозаветного пророка.
2
Некоторое время
дружил
с Г. Шпетом, разделяя его
восторги в отношении феноменологии, и критическую дистанцию в отно-
шении
русской религиозной философии.
3
Яковенко был отцом-основателем
русского варианта международного журнала
«Логос»
(1910-1914,
1925),
в
котором как известно был впервые опубликован перевод «Philosophie als
strenge
Wissenschaft»
— специально подготовленной Гуссерлем для этого
журнала статьи
4
.
Интерес
к феноменологии не пропал у него и в период вынужден-
ной
эмиграции. Помимо вышеупомянутой статьи
«Гуссерль
и русская фи-
1
Известно множество
его
работ
о
немецкой, итальянской, американской, чешской
и
русской философиях.
2
Известно
его
участие
на III
Международном философском конгрессе. См.: Степун
Ф.
А.
Бывшее и несбывшееся. Т.
1.
Нью-Йорк,
1959.
3
См.
его
письма
к
Шпету
1914-1915
гг.
Логос.
М, 1992. № 3. С.
250-256.
В
дальней-
шем
его
отношение к этим явлениям существенно изменилось.
*
См. Логос, 1911. Кн.
I.
384
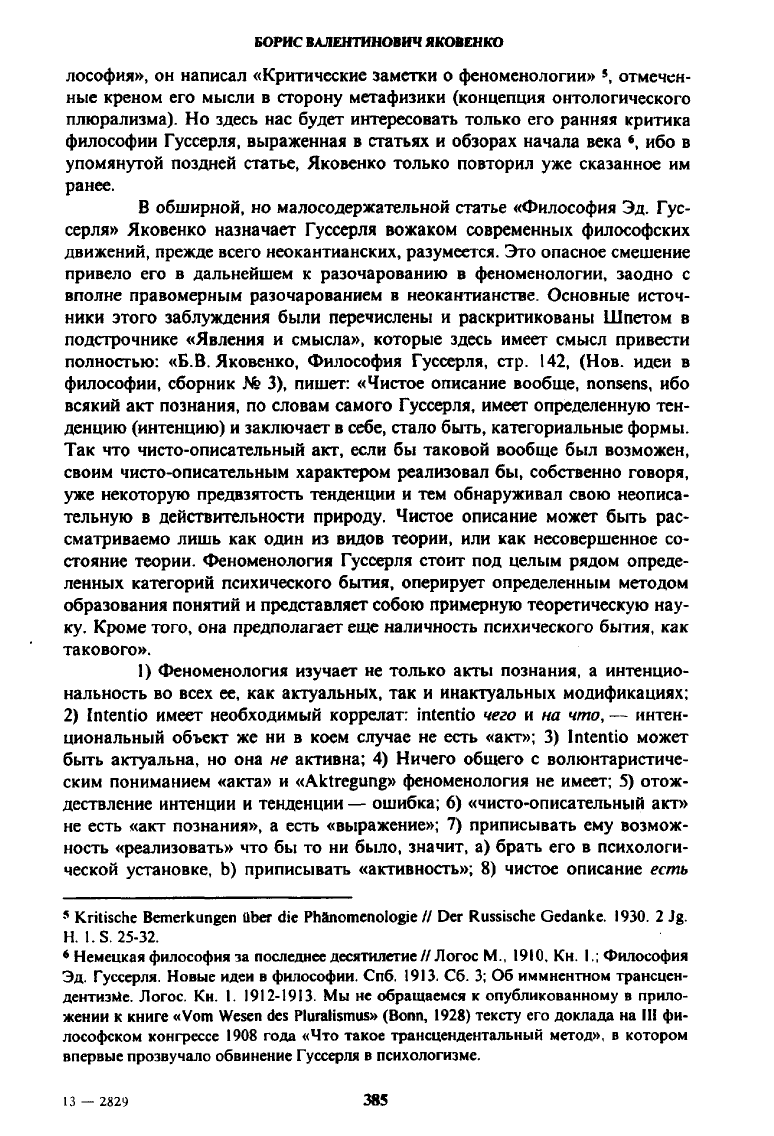
БОРИС
ВАЛЕНТИНОВИЧ
ЯКОВЕНКО
лософия», он написал «Критические заметки о феноменологии»
5
, отмечен-
ные креном его мысли в сторону метафизики (концепция онтологического
плюрализма). Но здесь нас
будет
интересовать только его ранняя критика
философии
Гуссерля, выраженная в статьях и обзорах начала века
б
, ибо в
упомянутой поздней статье, Яковенко только повторил уже сказанное им
ранее.
В обширной, но малосодержательной статье «Философия Эд. Гус-
серля» Яковенко назначает Гуссерля вожаком современных философских
движений, прежде всего неокантианских, разумеется. Это опасное смешение
привело его в дальнейшем к разочарованию в феноменологии, заодно с
вполне правомерным разочарованием в неокантианстве. Основные источ-
ники
этого заблуждения были перечислены и раскритикованы Шпетом в
подстрочнике «Явления и смысла», которые здесь имеет смысл привести
полностью: «Б.В. Яковенко, Философия Гуссерля, стр. 142, (Нов. идеи в
философии,
сборник № 3), пишет: «Чистое описание вообще, nonsens, ибо
всякий
акт
познания,
по словам самого Гуссерля, имеет определенную тен-
денцию (интенцию) и заключает в себе, стало быть, категориальные формы.
Так
что чисто-описательный акт, если бы таковой вообще был возможен,
своим чисто-описательным характером реализовал бы, собственно говоря,
уже некоторую предвзятость тенденции и тем обнаруживал свою неописа-
тельную в действительности природу. Чистое описание может быть рас-
сматриваемо лишь как один из видов теории, или как несовершенное со-
стояние теории. Феноменология Гуссерля стоит под целым рядом опреде-
ленных категорий психического бытия, оперирует определенным методом
образования понятий и представляет собою примерную теоретическую нау-
ку. Кроме того, она предполагает еще наличность психического бытия, как
такового».
1) Феноменология изучает не только акты познания, а интенцио-
нальность во всех ее, как актуальных, так и инактуальных модификациях;
2) Intentio имеет необходимый коррелат: intentio
чего
и на что, — интен-
циональный
объект же ни в коем
случае
не есть
«акт»;
3) Intentio может
быть актуальна, но она не активна; 4) Ничего общего с волюнтаристиче-
ским
пониманием
«акта»
и
«Aktregung»
феноменология не имеет; 5) отож-
дествление интенции и тенденции — ошибка; 6) «чисто-описательный
акт»
не
есть
«акт
познания», а есть «выражение»; 7) приписывать ему возмож-
ность «реализовать» что бы то ни было, значит, а) брать его в психологи-
ческой установке, Ь) приписывать «активность»; 8) чистое описание
есть
5
Kritische
Bemerkungen
über die Phänomenologie // Der Russische Gedanke. 1930. 2 Jg.
H.l.S. 25-32.
6
Немецкая
философия
за
последнее
десятилетие//Логос
M., I9I0, Кн. I.;
Философия
Эд.
Гуссерля.
Новые
идеи
в
философии.
Спб. 1913. Сб. 3; Об
иммнентном
трансцен-
дентизМе.
Логос.
Кн. I. 1912-1913. Мы не
обращаемся
к
опубликованному
в
прило-
жении
к
книге
«Vom
Wesen
des
Pluralismus»
(Bonn, 1928)
тексту
его
доклада
на III фи-
лософском
конгрессе
1908
года
«Что
такое
трансцендентальный
метод»,
в
котором
впервые
прозвучало
обвинение
Гуссерля
в
психологизме.
13 — 2829 385
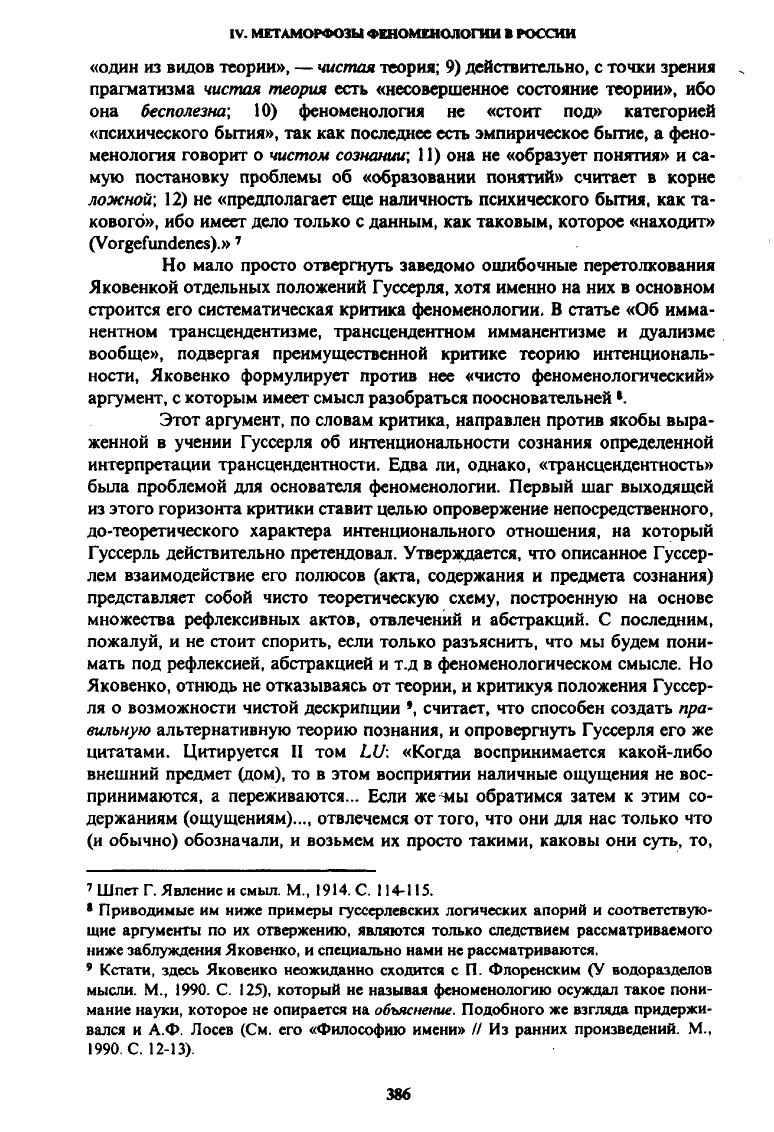
IV.
МЕТАМОРФОЗЫ ФЕНОМЕНОЛОГИИ В РОССИИ
«один из видов теории», —
чистая
теория; 9) действительно, с точки зрения
прагматизма чистая теория есть «несовершенное состояние теории», ибо
она
бесполезна; 10) феноменология не «стоит под» категорией
«психического бытия», так как последнее есть эмпирическое бытие, а
фено-
менология говорит о чистом сознании; 11) она не «образует понятия» и са-
мую постановку проблемы об «образовании понятий» считает в корне
ложной; 12) не «предполагает еще наличность психического бытия, как та-
кового», ибо имеет дело только с данным, как таковым, которое «находит»
(Vorgefundenes).»
7
Но
мало просто
отвергнуть
заведомо ошибочные перетолкования
Яковенкой отдельных положений Гуссерля, хотя именно на них в основном
строится его систематическая
критика
феноменологии. В статье «Об имма-
нентном трансцендентизме, трансцендентном имманентизме и дуализме
вообще», подвергая преимущественной
критике
теорию интенциональ-
ности,
Яковенко формулирует против нее «чисто феноменологический»
аргумент, с которым имеет смысл разобраться поосновательней ·.
Этот
аргумент, по словам
критика,
направлен против якобы
выра-
женной в учении Гуссерля об интенциональности сознания определенной
интерпретации трансцендентности. Едва ли, однако, «трансцендентность»
была проблемой для основателя феноменологии. Первый шаг выходящей
из
этого горизонта
критики
ставит целью опровержение непосредственного,
до-теоретического характера интенционального отношения, на который
Гуссерль действительно претендовал. Утверждается, что описанное Гуссер-
лем взаимодействие его полюсов (акта, содержания и предмета сознания)
представляет
собой
чисто теоретическую схему, построенную на основе
множества рефлексивных актов, отвлечений и абстракций. С последним,
пожалуй, и не стоит спорить, если только разъяснить, что мы будем пони-
мать под рефлексией, абстракцией и т.д в феноменологическом смысле. Но
Яковенко, отнюдь не отказываясь от теории, и
критикуя
положения Гуссер-
ля о возможности чистой дескрипции ', считает, что способен создать пра-
вильную альтернативную теорию познания, и
опровергнуть
Гуссерля его же
цитатами. Цитируется II том LU: «Когда воспринимается какой-либо
внешний
предмет
(дом),
то в этом восприятии
наличные
ощущения не вос-
принимаются, а переживаются... Если же мы обратимся затем к этим со-
держаниям (ощущениям)..., отвлечемся от того, что они для нас только что
(и
обычно) обозначали, и возьмем их просто такими,
каковы
они суть, то,
7
Шпет
Г. Явление и смыл.
М.,
1914.
С.
114-115.
* Приводимые
им
ниже
примеры
гуссерлевских логических апорий
и
соответствую-
щие аргументы
по их
отвержению, являются только следствием рассматриваемого
ниже
заблуждения Яковенко,
и
специально нами не рассматриваются.
9
Кстати, здесь Яковенко неожиданно сходится
с
П. Флоренским
(У
водоразделов
мысли. М.,
1990.
С.
125),
который
не
называя феноменологию осуждал такое пони-
мание науки, которое
не
опирается
на
объяснение.
Подобного же взгляда придержи-
вался
и
А.Ф. Лосев (См.
его
«Философию имени» // Из ранних произведений.
М.,
1990.
С.
12-13).
386
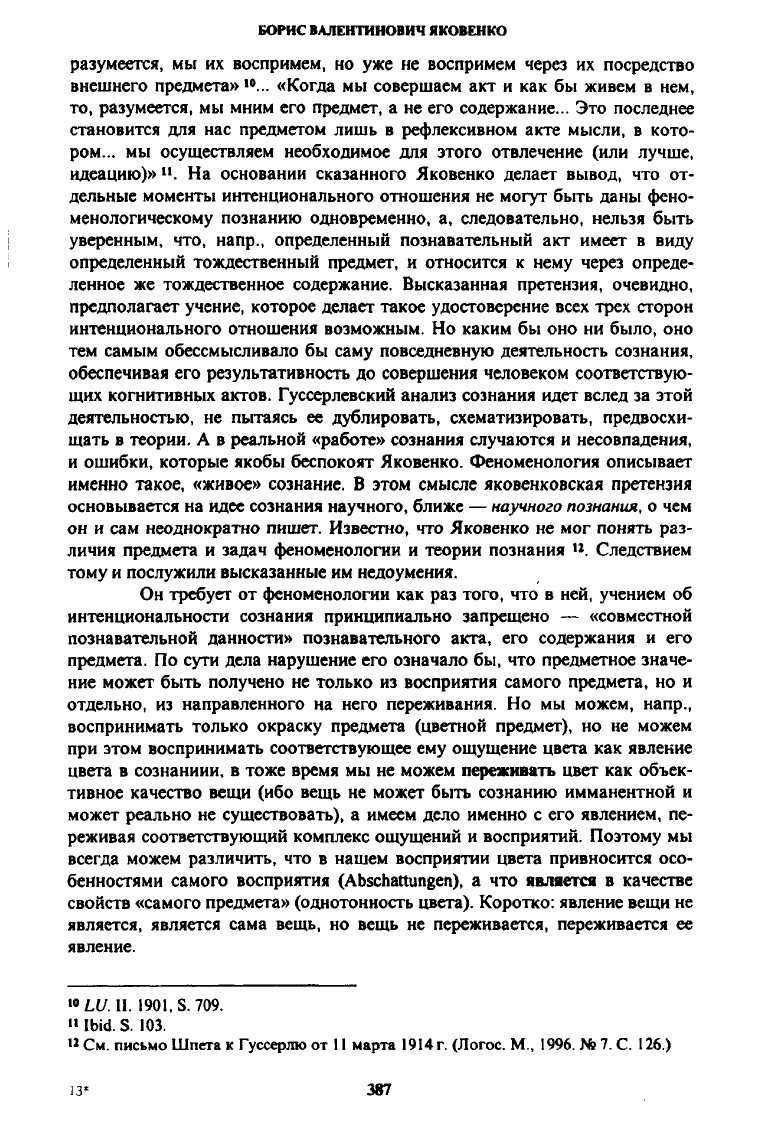
БОРИС
ВАЛЕНТИНОВИЧ
ЯКОВЕНКО
разумеется,
мы их
воспримем,
но уже не
воспримем через
их
посредство
внешнего
предмета»
|0
...
«Когда
мы совершаем
акт и
как
бы
живем
в
нем,
то,
разумеется, мы мним
его
предмет,
а
не его содержание... Это последнее
становится
для нас
предметом лишь
в
рефлексивном акте мысли,
в
кото-
ром...
мы
осуществляем необходимое
для
этого отвлечение
(или
лучше,
идеацию)»
». На
основании сказанного Яковенко
делает
вывод,
что от-
дельные моменты интенционального отношения не
могут
быть даны фено-
менологическому познанию одновременно,
а,
следовательно, нельзя быть
уверенным,
что,
напр., определенный познавательный
акт
имеет
в
виду
определенный тождественный предмет,
и
относится
к
нему через опреде-
ленное
же
тождественное содержание. Высказанная претензия, очевидно,
предполагает учение, которое
делает
такое удостоверение
всех
трех
сторон
интенционального отношения возможным. Но каким
бы
оно ни было, оно
тем самым обессмысливало
бы
саму повседневную деятельность сознания,
обеспечивая его результативность
до
совершения человеком соответствую-
щих когнитивных актов. Гуссерлевский анализ сознания идет
вслед
за этой
деятельностью,
не
пытаясь
ее
дублировать, схематизировать, предвосхи-
щать
в
теории.
А в
реальной
«работе»
сознания случаются
и
несовпадения,
и
ошибки, которые якобы беспокоят Яковенко. Феноменология описывает
именно
такое,
«живое»
сознание.
В
этом смысле яковенковская претензия
основывается на идее сознания научного, ближе
—
научного
познания,
о
чем
он
и
сам неоднократно пишет. Известно,
что
Яковенко не мог понять раз-
личия
предмета
и
задач феноменологии
и
теории познания
".
Следствием
тому
и послужили высказанные им недоумения.
Он
требует
от
феноменологии как раз того,
что в
ней, учением
об
интенциональности сознания принципиально запрещено
—
«совместной
познавательной данности» познавательного акта,
его
содержания
и его
предмета. По
сути
дела
нарушение его означало бы,
что
предметное значе-
ние
может быть получено не только
из
восприятия самого предмета,
но и
отдельно,
из
направленного
на
него переживания.
Но мы
можем, напр.,
воспринимать только окраску предмета (цветной предмет),
но не
можем
при
этом воспринимать соответствующее ему ощущение цвета как явление
цвета
в
сознаниии,
в
тоже
время мы не можем
переживать
цвет как объек-
тивное качество вещи (ибо вещь
не
может быть сознанию имманентной
и
может реально не существовать),
а
имеем
дело
именно
с его
явлением,
пе-
реживая соответствующий комплекс ощущений и восприятий. Поэтому мы
всегда
можем различить,
что в
нашем восприятии цвета привносится осо-
бенностями самого восприятия (Abschattungen),
а что является в
качестве
свойств
«самого
предмета»
(однотонность цвета). Коротко: явление вещи не
является, является сама вещь,
но
вещь
не
переживается, переживается
ее
явление.
"Li/. II. 1901,
S.
709.
»Ibid.
S.
103.
12
См. письмо
Шпста
к Гуссерлю от
11
марта
1914
г.
(Логос.
М., 1996. № 7.
С. 126.)
13*
387
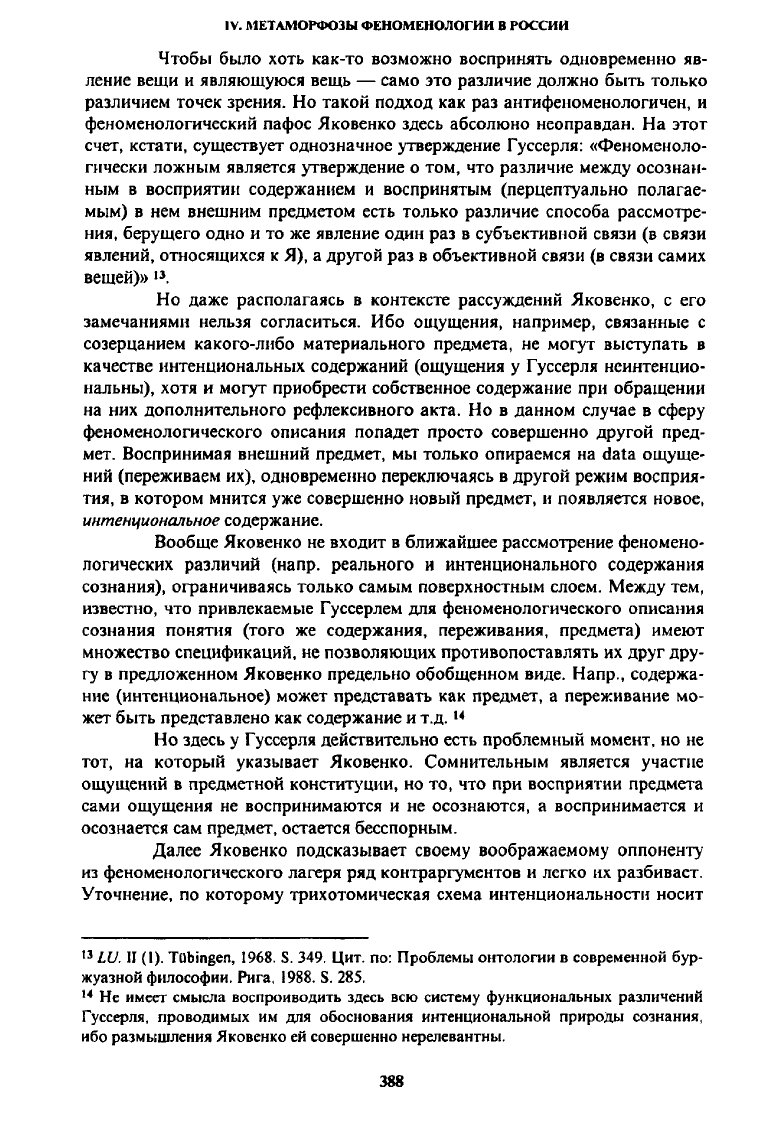
IV.
МЕТАМОРФОЗЫ
ФЕНОМЕНОЛОГИИ В
РОССИИ
Чтобы было
хоть
как-то возможно воспринять одновременно яв-
ление вещи и являющуюся вещь — само это различие должно быть только
различием точек зрения. Но такой
подход
как раз антифеноменологичен, и
феноменологический пафос Яковенко здесь абсолюно неоправдан. На этот
счет, кстати,
существует
однозначное утверждение Гуссерля: «Феноменоло-
гически ложным является утверждение о том, что различие
между
осознан-
ным
в восприятии содержанием и воспринятым (перцептуально полагае-
мым) в нем внешним предметом есть только различие способа рассмотре-
ния,
берущего
одно и то же явление один раз в субъективной связи (в связи
явлений,
относящихся к Я), а
другой
раз в объективной связи (в связи самих
вещей)»
13
.
Но
даже
располагаясь в контексте рассуждений Яковенко, с его
замечаниями нельзя согласиться. Ибо ощущения, например, связанные с
созерцанием какого-либо материального предмета, не
могут
выступать в
качестве интенциональных содержаний (ощущения у Гуссерля неинтенцио-
нальны),
хотя
и
могут
приобрести собственное содержание при обращении
на
них дополнительного рефлексивного акта. Но в данном
случае
в сферу
феноменологического описания попадет просто совершенно
другой
пред-
мет. Воспринимая внешний предмет, мы только опираемся на data ощуще-
ний
(переживаем их), одновременно переключаясь в
другой
режим восприя-
тия,
в котором мнится уже совершенно новый предмет, и появляется новое,
интенциональное
содержание.
Вообще Яковенко не
входит
в ближайшее рассмотрение феномено-
логических различий (напр, реального и интенционального содержания
сознания),
ограничиваясь только самым поверхностным слоем. Между тем,
известно, что привлекаемые
Гуссерлем
для феноменологического описания
сознания
понятия (того же содержания, переживания, предмета) имеют
множество
спецификаций,
не позволяющих противопоставлять их
друг
дру-
гу в предложенном Яковенко предельно обобщенном виде. Напр., содержа-
ние
(интенциональное) может представать как предмет, а переживание мо-
жет быть представлено как содержание и
т.д.
14
Но
здесь у Гуссерля действительно есть проблемный момент, но не
тот, на который указывает Яковенко. Сомнительным является
участие
ощущений в предметной конституции, но то, что при восприятии предмета
сами ощущения не воспринимаются и не осознаются, а воспринимается и
осознается сам предмет, остается бесспорным.
Далее
Яковенко подсказывает своему воображаемому оппоненту
из
феноменологического лагеря ряд контраргументов и легко их разбивает.
Уточнение, по которому трихотомическая
схема
интенциональности носит
13
LU. II (1).
Tübingen,
1968. S. 349. Цит. по: Проблемы онтологии в современной бур-
жуазной
философии.
Рига, 1988. S. 285.
14
Не имеет смысла воспроиводить здесь всю систему функциональных различений
Гуссерля,
проводимых им для
обоснования
интенциональной
природы
сознания,
ибо
размышления
Яковенко
ей совершенно нерелевантны.
388
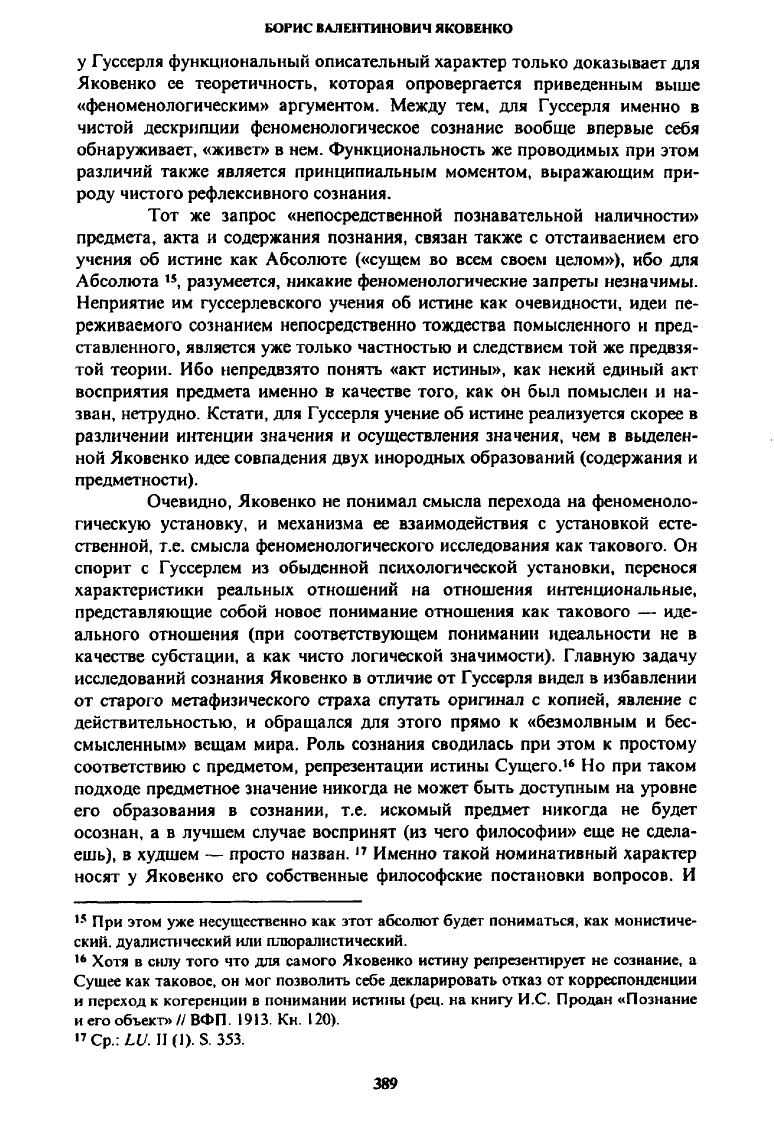
БОРИС
ВАЛЕНТИНОВИЧ
ЯКОВЕНКО
у Гуссерля функциональный описательный характер только доказывает для
Яковенко ее теоретичность, которая опровергается приведенным выше
«феноменологическим» аргументом. Между тем, для Гуссерля именно в
чистой дескрипции феноменологическое сознание вообще впервые себя
обнаруживает,
«живет»
в нем. Функциональность же проводимых при этом
различий также является принципиальным моментом, выражающим при-
роду
чистого рефлексивного сознания.
Тот же запрос «непосредственной познавательной наличности»
предмета, акта и содержания познания, связан также с отстаиваением его
учения об истине как
Абсолюте
(«сущем
во всем своем целом»), ибо для
Абсолюта
15
, разумеется, никакие феноменологические запреты незначимы.
Неприятие
им гуссерлевского учения об истине как очевидности, идеи пе-
реживаемого сознанием непосредственно
тождества
помысленного и пред-
ставленного, является уже только частностью и следствием той же предвзя-
той теории. Ибо непредвзято понять
«акт
истины», как некий единый акт
восприятия
предмета именно в качестве того, как он был помыслен и на-
зван,
нетрудно. Кстати, для Гуссерля учение об истине реализуется скорее в
различении интенции значения и осуществления значения, чем в выделен-
ной
Яковенко идее совпадения
двух
инородных образований (содержания и
предметности).
Очевидно, Яковенко не понимал смысла перехода на феноменоло-
гическую установку, и механизма ее взаимодействия с установкой есте-
ственной, т.е. смысла феноменологического исследования как такового. Он
спорит с
Гуссерлем
из обыденной психологической установки, перенося
характеристики реальных отношений на отношения интенциональные,
представляющие собой новое понимание отношения как такового — иде-
ального отношения (при соответствующем понимании идеальности не в
качестве субстации, а как чисто логической значимости). Главную
задачу
исследований сознания Яковенко в отличие от Гуссерля видел в избавлении
от старого метафизического
страха
спутать оригинал с копией, явление с
действительностью, и обращался для этого прямо к «безмолвным и бес-
смысленным» вещам мира. Роль сознания сводилась при этом к простому
соответствию с предметом, репрезентации истины Сущего.
16
Но при таком
подходе
предметное значение никогда не может быть доступным на уровне
его образования в сознании, т.е. искомый предмет никогда не
будет
осознан,
а в лучшем
случае
воспринят (из
чего
философии» еще не сдела-
ешь),
в
худшем
— просто назван.
17
Именно такой номинативный характер
носят у Яковенко его собственные философские постановки вопросов. И
15
При
этом
уже
несущественно
как
этот
абсолют
будет
пониматься,
как
монистиче-
ский,
дуалистический
или
плюралистический.
16
Хотя
в
силу
того
что для
самого
Яковенко
истину
репрезентирует
не
сознание,
а
Сущее
как
таковое,
он мог
позволить
себе
декларировать
отказ
от
корреспонденции
и
переход
к
когеренцнн
в
понимании
истины
(рец. на
книгу
И.С.
Продан
«Познание
и его
объект»
// ВФП. 1913. Кн. 120).
17
Ср.: LU. II (1).
S.
353.
389
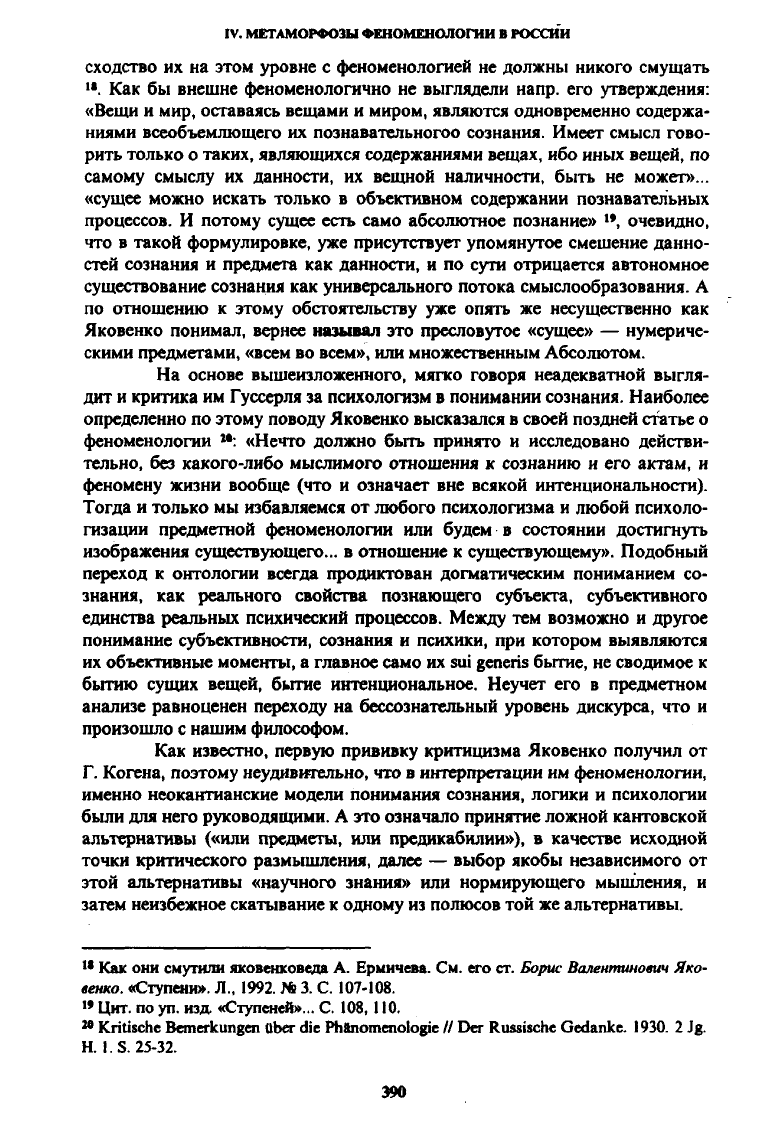
IV.
МЕТАМОРФОЗЫ
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
В
РОССИИ
сходство
их на этом уровне с феноменологией не должны никого смущать
'·.
Как бы внешне феноменологично не
выглядели
напр, его утверждения:
«Вещи
и мир, оставаясь вещами и миром, являются одновременно содержа-
ниями
всеобъемлющего их познавательногоо сознания.
Имеет
смысл гово-
рить
только о таких, являющихся содержаниями вещах, ибо иных вещей, по
самому смыслу их данности, их вещной наличности, быть не может»...
«сущее
можно искать только в объективном содержании познавательных
процессов.
И потому сущее есть само абсолютное познание» ", очевидно,
что в такой формулировке, уже присутствует упомянутое смешение данно-
стей
сознания и предмета как данности, и по сути отрицается автономное
существование сознания как универсального потока смыслообразования. А
по отношению к этому обстоятельству уже опять же несущественно как
Яковенко понимал, вернее называл это пресловутое «сущее» — нумериче-
скими предметами, «всем во всем», или множественным Абсолютом.
На
основе вышеизложенного,
мягко
говоря неадекватной
выгля-
дит и
критика
им Гуссерля за психологизм в понимании сознания. Наиболее
определенно по этому поводу Яковенко высказался в своей поздней статье о
феноменологии
м
: «Нечто должно быть принято и исследовано действи-
тельно, без какого-либо мыслимого отношения к сознанию и его актам, и
феномену
жизни вообще (что и означает вне всякой интенциональности).
Тогда и только мы избавляемся от любого психологизма и любой психоло-
гизации предметной феноменологии или будем в состоянии достигнуть
изображения
существующего... в отношение к существующему». Подобный
переход
к онтологии всегда продиктован догматическим пониманием со-
знания, как реального свойства познающего субъекта, субъективного
единства реальных психический процессов.
Между
тем возможно и другое
понимание субъективности, сознания и психики, при котором выявляются
их
объективные моменты, а главное само их sui generis бытие, не сводимое к
бытию сущих вещей, бытие интенциональное. Неучет его в предметном
анализе равноценен переходу на бессознательный уровень дискурса, что и
произошло с
нашим
философом.
Как известно, первую
прививку
критицизма Яковенко
получил
от
Г. Когена, поэтому неудивительно, что в интерпретации им феноменологии,
именно неокантианские модели понимания сознания,
логики
и психологии
были для него руководящими. А это означало принятие ложной кантовской
альтернативы («или предметы, или предикабилии»), в качестве исходной
точки критического размышления, далее — выбор якобы независимого от
этой
альтернативы «научного знания» или нормирующего
мышления,
и
затем
неизбежное
скатывание к одному из полюсов той же альтернативы.
11
Как они смутили яковенковеда А.
Ермичева.
См. его ст. Борис Валентинович Яко-
венко.
«Ступени». Л.,
1992.
№
3.
С.
107-108.
19
Цит.
по уп. изд. «Ступеней»... С. 108, 110.
20
Kritische Bemerkungen Ober die
Phänomenologie
//
Der
Russische
Gedanke.
1930. 2 Jg.
H.
I.S.
25-32.
390
