Чубаров И.М. (ред., сост.) Антология феноменологической философии в России
Подождите немного. Документ загружается.

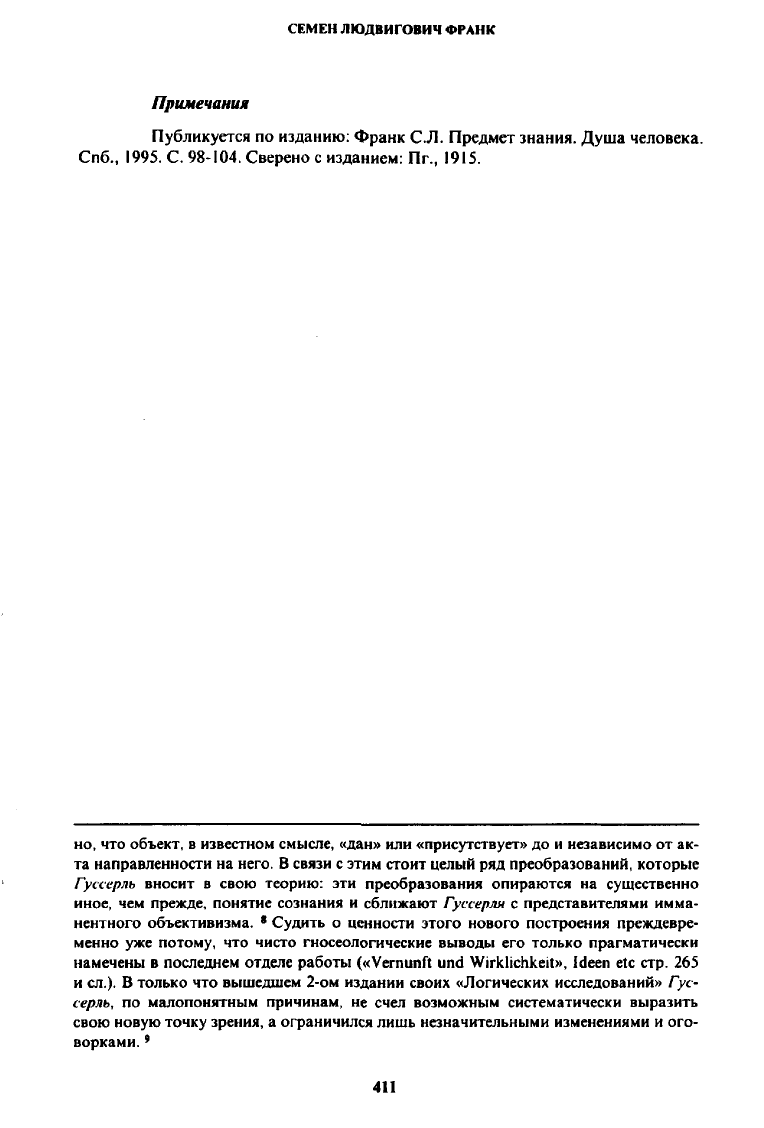
СЕМЕН
ЛЮДВИГОВИЧ
ФРАНК
Примечания
Публикуется по изданию: Франк С.Л. Предмет
знания.
Душа человека.
Спб.,
1995. С.
98-104.
Сверено с изданием: Пг., 1915.
но,
что объект, в известном смысле,
«дан»
или
«присутствует»
до и независимо от ак-
та направленности на него. В связи с этим стоит иелый ряд преобразований, которые
Гуссерль
вносит в свою теорию: эти преобразования опираются на существенно
иное,
чем прежде, понятие сознания и сближают
Гуссерля
с представителями имма-
нентного объективизма. ' Судить о ценности этого нового построения преждевре-
менно
уже потому, что чисто гносеологические выводы его только прагматически
намечены в последнем отделе работы
(«Vernunft
und
Wirklichkeit»,
Ideen etc стр. 265
и
ел.). В только что вышедшем 2-ом издании своих «Логических исследований» Гус-
серль,
по малопонятным причинам, не счел возможным систематически выразить
свою новую точку
зрения,
а ограничился лишь незначительными изменениями и ого-
ворками.
'
411
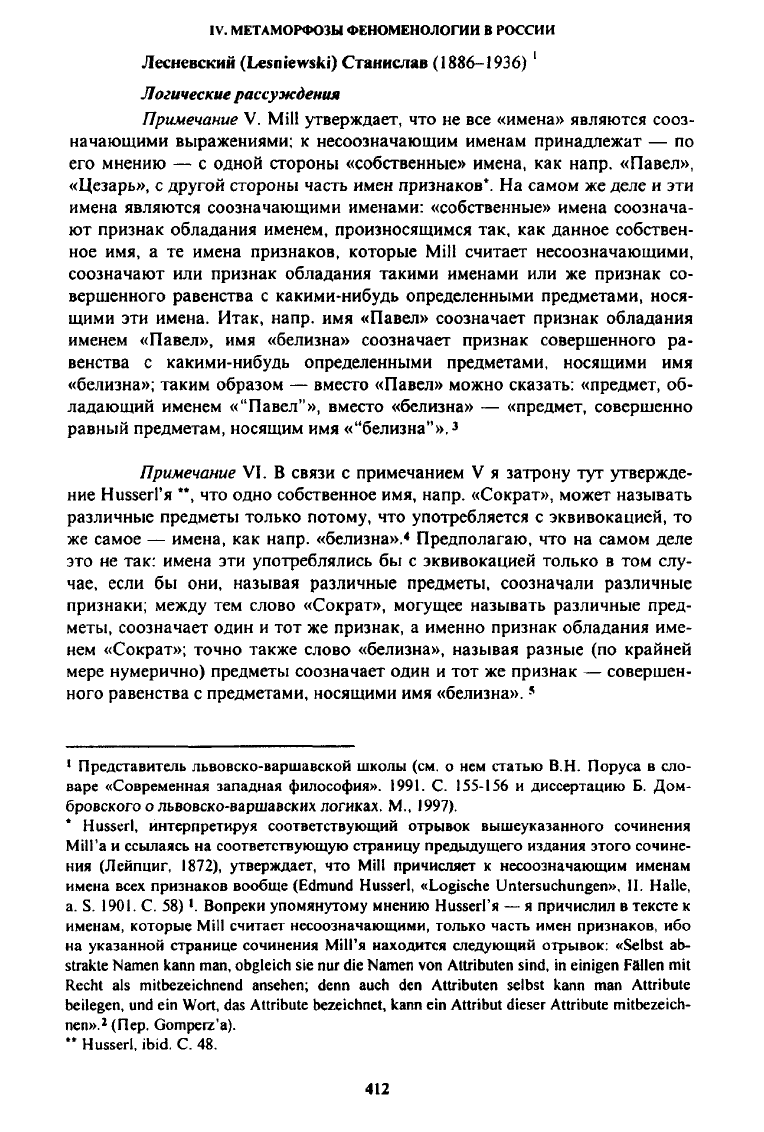
IV. МЕТАМОРФОЗЫ ФЕНОМЕНОЛОГИИ В РОССИИ
Лесневский (Lesniewski)
Станислав
(1886-1936)
'
Логические рассуждения
Примечание
V. Mill утверждает, что не все «имена» являются сооз-
начающими выражениями;
к
несоозначающим именам принадлежат
— по
его мнению
— с
одной стороны «собственные» имена, как напр. «Павел»,
«Цезарь», с другой стороны часть имен признаков*. На самом же деле и эти
имена являются соозначающими именами: «собственные» имена соознача-
ют признак обладания именем, произносящимся так, как данное собствен-
ное имя,
а те
имена признаков, которые Mill считает несоозначающими,
соозначают или признак обладания такими именами или
же
признак
со-
вершенного равенства
с
какими-нибудь определенными предметами, нося-
щими
эти имена. Итак, напр, имя «Павел» соозначает признак обладания
именем «Павел»,
имя
«белизна» соозначает признак совершенного
ра-
венства
с
какими-нибудь определенными предметами, носящими
имя
«белизна»; таким образом
—
вместо «Павел» можно сказать: «предмет, об-
ладающий именем «"Павел"», вместо «белизна»
—
«предмет, совершенно
равный предметам, носящим имя «"белизна"».
3
Примечание
VI. В связи
с
примечанием
V я
затрону
тут
утвержде-
ние
Husserl'H **, что одно собственное
имя,
напр. «Сократ», может называть
различные предметы только потому, что употребляется
с
эквивокацией,
то
же самое
—
имена, как напр, «белизна».
4
Предполагаю, что
на
самом деле
это не так: имена эти употреблялись бы
с
эквивокацией только
в
том
слу-
чае, если
бы
они, называя различные предметы, соозначали различные
признаки;
между тем слово «Сократ», могущее называть различные пред-
меты, соозначает один и тот же признак,
а
именно признак обладания име-
нем «Сократ»; точно также слово «белизна», называя разные (по крайней
мере нумерично) предметы соозначает один и тот же признак
—
совершен-
ного равенства с предметами, носящими имя «белизна».
5
1
Представитель
львовско-варшавской
школы
(см.
о нем
статью
В.Н. Поруса
в
сло-
варе
«Современная
западная
философия».
1991.
С.
155-156
и
диссертацию
Б. Дом-
бровского
о
львовско-варшавских
логиках.
М., 1997).
* Husserl,
интерпретируя
соответствующий
отрывок
вышеуказанного
сочинения
Mill'а
и
ссылаясь
на
соответствующую
страницу
предыдущего
издания
этого
сочине-
ния
(Лейпциг,
1872),
утверждает,
что
Mill
причисляет
к
несоозначающим
именам
имена
всех
признаков
вообще
(Edmund
Husserl,
«Logische
Untersuchungen»,
II.
Halle,
a. S. 1901. С. 58)
!
.
Вопреки
упомянутому
мнению
Husserl'я
— я
причислил
в
тексте
к
именам,
которые
Mill
считает
несоозначающими,
только
часть
имен
признаков,
ибо
на
указанной
странице
сочинения
Mill'я
находится
следующий
отрывок:
«Selbst
ab-
strakte
Namen
kann
man,
obgleich
sie nur die
Namen
von
Attributen
sind,
in
einigen
Fällen mit
Recht
als
mitbezeichnend ansehen; denn auch
den
Attributen selbst kann
man
Attribute
beilegen, und ein Wort, das Attribute bezeichnet, kann ein Attribut dieser Attribute mitbezeich-
nen».
2
(Пер.
Gomperz'a).
" Husserl,
ibid.
С
48.
412
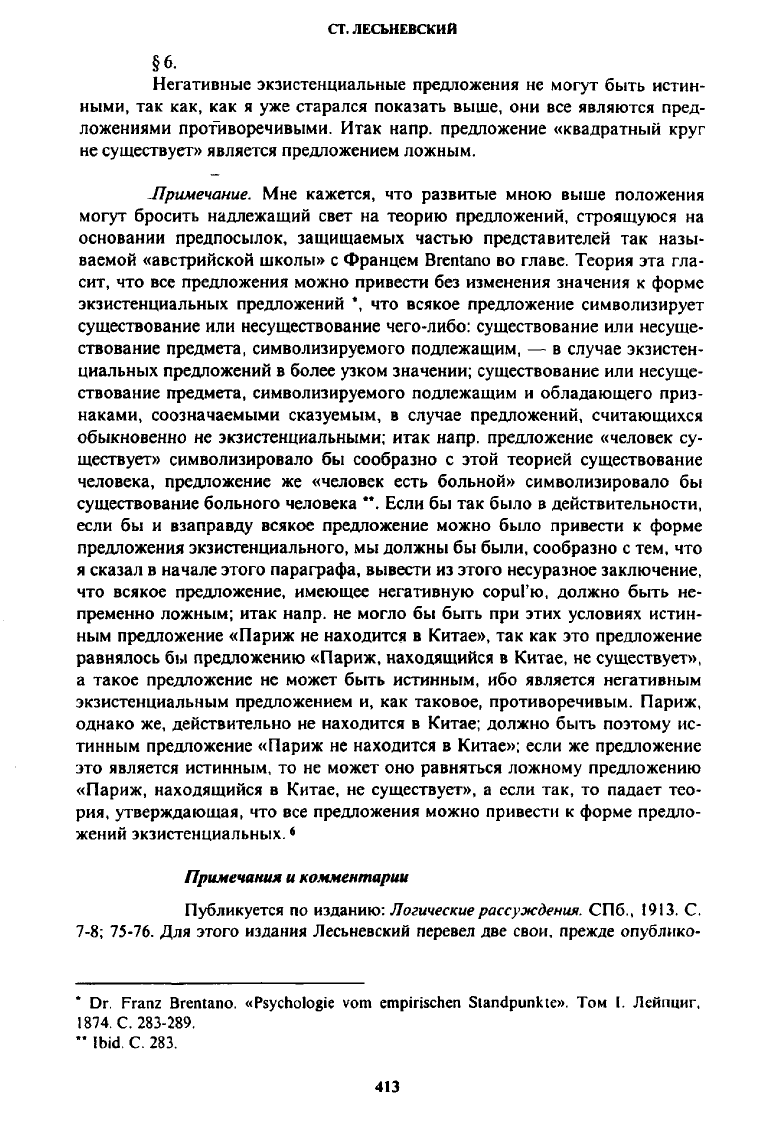
СТ.
ЛЕСЬНЕВСКИЙ
§6.
Негативные экзистенциальные предложения не
могут
быть истин-
ными,
так как, как я уже старался показать выше, они все являются пред-
ложениями
противоречивыми.
Итак
напр,
предложение «квадратный
круг
не
существует»
является предложением ложным.
Мримечание.
Мне кажется, что развитые мною выше положения
могут
бросить надлежащий свет на теорию предложений, строящуюся на
основании
предпосылок, защищаемых частью представителей так назы-
ваемой «австрийской школы» с Францем Brentano во главе. Теория эта гла-
сит, что все предложения можно привести без изменения значения к форме
экзистенциальных
предложений *, что всякое предложение символизирует
существование или несуществование чего-либо: существование или несуще-
ствование предмета, символизируемого подлежащим, — в
случае
экзистен-
циальных предложений в более узком
значении;
существование или несуще-
ствование предмета, символизируемого подлежащим и обладающего приз-
наками,
соозначаемыми сказуемым, в
случае
предложений, считающихся
обыкновенно
не
экзистенциальными;
итак
напр,
предложение «человек су-
ществует»
символизировало бы сообразно с этой теорией существование
человека, предложение же «человек есть больной» символизировало бы
существование больного человека **. Если бы так было в действительности,
если бы и взаправду всякое предложение можно было привести к форме
предложения
экзистенциального,
мы должны бы были, сообразно с тем, что
я
сказал в начале этого параграфа, вывести из этого несуразное заключение,
что всякое предложение, имеющее негативную сориГю, должно быть не-
пременно
ложным; итак
напр,
не могло бы быть при этих условиях истин-
ным
предложение «Париж не находится в Китае», так как это предложение
равнялось
бы предложению «Париж, находящийся в Китае, не
существует»,
а такое предложение не может быть истинным, ибо является негативным
экзистенциальным
предложением и, как таковое, противоречивым. Париж,
однако
же, действительно не находится в Китае; должно быть поэтому ис-
тинным
предложение «Париж не находится в Китае»; если же предложение
это
является истинным, то не может оно равняться ложному предложению
«Париж, находящийся в Китае, не
существует»,
а если так, то падает тео-
рия,
утверждающая, что все предложения можно привести к форме предло-
жений
экзистенциальных.
6
Примечания
и
комментарии
Публикуется по
изданию:
Логические
рассуждения.
СПб., 1913. С.
7-8;
75-76.
Для этого издания Лесьневский перевел две свои, прежде опублико-
*
Dr. Franz Brentano.
«Psychologie
vom empirischen Standpunkte». Том I. Лейпциг,
1874.
С.
283-289.
"
Ibid.
С.
283.
413
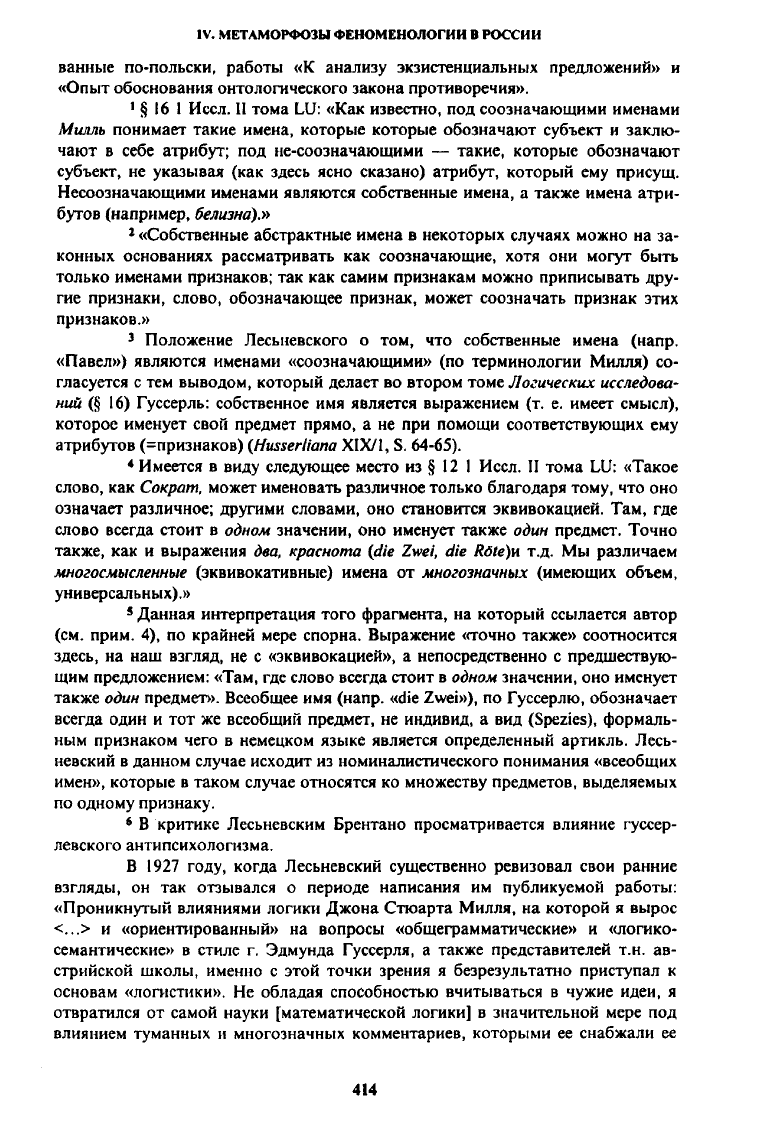
IV.
МЕТАМОРФОЗЫ
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
В
РОССИИ
ванные
по-польски, работы «К анализу экзистенциальных предложений» и
«Опыт обоснования онтологического закона противоречия».
1
§ 16 1 Иссл. II тома LU: «Как известно, под соозначающими именами
Милль понимает такие имена, которые которые обозначают субъект и заклю-
чают в себе атрибут; под не-соозначающими — такие, которые обозначают
субъект, не указывая (как здесь ясно сказано) атрибут, который ему присущ.
Несоозначающими именами являются собственные имена, а также имена атри-
бутов
(например,
белизна).»
2
«Собственные абстрактные имена в некоторых
случаях
можно на за-
конных
основаниях рассматривать как соозначающие, хотя они
могут
быть
только именами признаков; так как самим признакам можно приписывать дру-
гие признаки, слово, обозначающее признак, может соозначать признак этих
признаков.»
3
Положение Лесьневского о том, что собственные имена (напр.
«Павел»)
являются именами «соозначающими» (по терминологии Милля) со-
гласуется с тем выводом, который
делает
во втором томе
Логических
исследова-
ний (§ 16) Гуссерль: собственное имя является выражением (т. е. имеет смысл),
которое именует свой предмет прямо, а не при помощи соответствующих ему
атрибутов
(=признаков)
(Husserliana
XIX/1, S. 64-65).
4
Имеется в виду
следующее
место из § 12 1 Иссл. II тома LU: «Такое
слово, как
Сократ,
может именовать различное только благодаря
тому,
что оно
означает различное; другими словами, оно становится эквивокацией. Там, где
слово
всегда
стоит в
одном
значении, оно именует также
один
предмет. Точно
также, как и выражения два,
краснота
(die
Zwei,
die
Röte)w
т.д. Мы различаем
многосмысленные
(эквивокативные) имена от
многозначных
(имеющих объем,
универсальных).»
5
Данная интерпретация того фрагмента, на который ссылается автор
(см.
прим. 4), по крайней мере спорна. Выражение «точно
также»
соотносится
здесь, на наш взгляд, не с «эквивокацией», а непосредственно с предшествую-
щим
предложением: «Там, где слово
всегда
стоит в
одном
значении,
оно именует
также
один
предмет». Всеобщее имя (напр,
«die
Zwei»),
по Гуссерлю, обозначает
всегда
один и тот же всеобщий предмет, не индивид, а вид (Spezies), формаль-
ным
признаком чего в немецком языке является определенный артикль. Лесь-
невский
в данном
случае
исходит из номиналистического понимания «всеобщих
имен», которые в таком
случае
относятся ко множеству предметов, выделяемых
по
одному признаку.
6
В критике Лесьневским Брентано просматривается влияние гуссер-
левского антипсихологизма.
В 1927
году,
когда Лесьневский существенно ревизовал свои ранние
взгляды, он так отзывался о периоде написания им публикуемой работы:
«Проникнутый влияниями логики Джона Стюарта Милля, на которой я вырос
<...> и «ориентированный» на вопросы «общеграмматические» и «логико-
семантические» в стиле г. Эдмунда Гуссерля, а также представителей т.н. ав-
стрийской
школы, именно с этой точки зрения я безрезультатно приступал к
основам «логистики». Не обладая способностью вчитываться в
чужие
идеи, я
отвратился от самой науки [математической логики] в значительной мере под
влиянием
туманных и многозначных комментариев, которыми ее снабжали ее
414
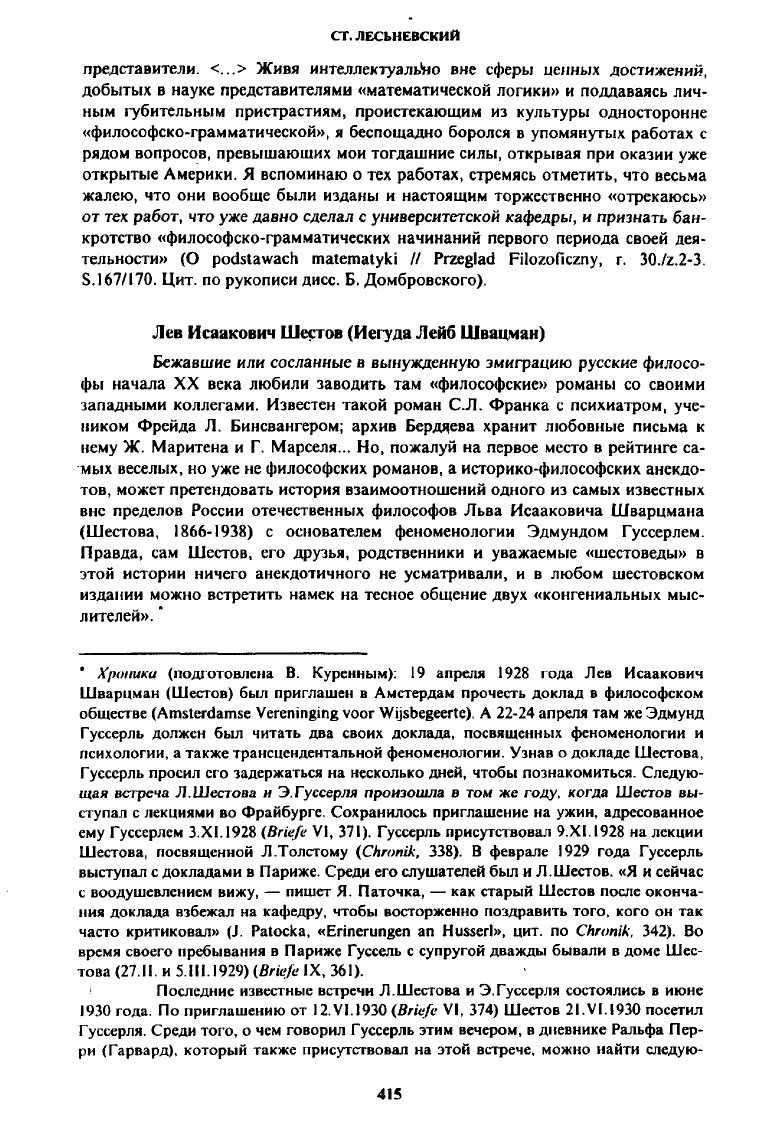
СТ.
ЛЕСЬНЕВСКИЙ
представители. <...> Живя интеллектуально вне сферы ценных достижений,
добытых в науке представителями «математической логики» и поддаваясь лич-
ным
губительным пристрастиям, проистекающим из
культуры
односторонне
«философско-грамматической», я беспощадно боролся в упомянутых работах с
рядом вопросов, превышающих мои тогдашние силы, открывая при оказии уже
открытые Америки. Я вспоминаю о тех работах, стремясь отметить, что весьма
жалею, что они вообще были изданы и настоящим торжественно
«отрекаюсь»
от тех работ, что уже давно сделал с университетской кафедры, и признать бан-
кротство «философско-грамматических начинаний первого периода своей дея-
тельности» (О podstawach matematyki //
Przeglad
Filozoficzny, r. 3O./z.2-3.
S.
167/170.
Цит. по рукописи дисс. Б. Домбровского).
Лев
Исаакович
Шестов
(Иегуда
Лейб
Швацман)
Бежавшие или сосланные в вынужденную эмиграцию русские филосо-
фы
начала XX века любили заводить там «философские» романы со своими
западными коллегами. Известен такой роман С.Л. Франка с психиатром, уче-
ником
Фрейда Л. Бинсвангером; архив Бердяева хранит любовные письма к
нему Ж. Маритена и Г. Марселя... Но, пожалуй на первое место в рейтинге са-
мых веселых, но уже не философских романов, а историко-философских анекдо-
тов, может претендовать история взаимоотношений одного из самых известных
вне пределов России отечественных философов Льва Исааковича Шварцмана
(Шестова,
1866-1938)
с основателем феноменологии Эдмундом Гуссерлем.
Правда, сам Шестов, его друзья, родственники и уважаемые
«шестоведы»
в
этой
истории ничего анекдотичного не усматривали, и в любом шестовском
издании
можно встретить намек на тесное общение
двух
«конгениальных мыс-
лителей». *
*
Хроники
(подготовлена В. Куренным): 19 апреля 1928
года
Лев Исаакович
Шварцман
(Шестов) был приглашен в
Амстердам
прочесть доклад в философском
обществе (Amsterdamse
Vereninging
voor
Wijsbegeerte).
A
22-24
апреля там же Эдмунд
Гуссерль должен был читать два своих доклада, посвященных феноменологии и
психологии, а также трансцендентальной феноменологии. Узнав о докладе Шестова,
Гуссерль просил его задержаться на несколько дней, чтобы познакомиться. Следую-
щая
встреча Л.Шестова и Э.Гуссерля произошла в том же
году,
когда Шестов вы-
ступал с лекциями во Фрайбурге. Сохранилось приглашение на ужин, адресованное
ему Гуссерлем
3.XI.1928
(Briefe
VI, 371). Гуссерль присутствовал
9.XI.1928
на лекции
Шестова, посвященной Л.Толстому
(Chronik,
338). В феврале 1929
года
Гуссерль
выступал с докладами в Париже. Среди его слушателей был
и
Л.Шестов. «Я и сейчас
с воодушевлением вижу, — пишет Я. Паточка, — как старый Шестов после оконча-
ния
доклада взбежал на кафедру, чтобы восторженно поздравить того, кого он так
часто критиковал» (J. Patocka, «Erinerungen an
Husserl»,
цит. по
Chronik,
342). Во
время своего пребывания в Париже
Гуссель
с супругой дважды бывали в доме Шес-
това (27.11. и 5.III.I929)
(Briefe
IX, 361).
:
- Последние известные встречи Л.Шестова и Э.Гуссерля состоялись в июне
1930
года.
По приглашению от
I2.VI.I930
(Briefe
VI, 374) Шестов
21.VI.1930
посетил
Гуссерля. Среди того, о чем говорил Гуссерль этим вечером, в дневнике Ральфа Пер-
ри
(Гарвард), который также присутствовал на этой встрече, можно найти
следую-
415
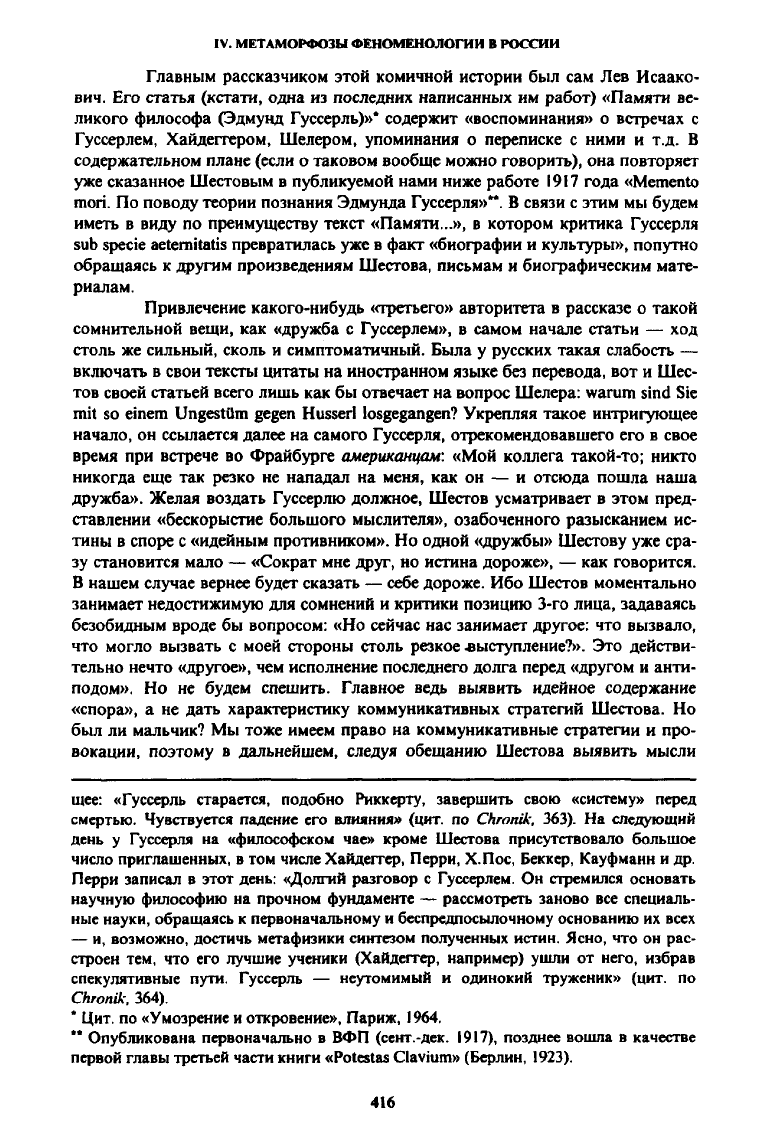
IV.
МЕТАМОРФОЗЫ
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
В
РОССИИ
Главным рассказчиком этой комичной истории был сам Лев Исаако-
вич.
Его статья (кстати, одна из последних написанных им работ) «Памяти ве-
ликого философа (Эдмунд Гуссерль)»* содержит «воспоминания» о встречах с
Гуссерлем, Хайдеггером, Шелером, упоминания о переписке с ними и т.д. В
содержательном плане (если о таковом вообще можно говорить), она повторяет
уже сказанное Шестовым в публикуемой нами ниже работе 1917 года «Memento
mon.
По поводу теории познания Эдмунда Гуссерля»**. В связи с этим мы
будем
иметь в виду по преимуществу текст «Памяти...», в котором критика Гуссерля
sub specie aetemitatis превратилась уже в факт «биографии и культуры», попутно
обращаясь к другим произведениям Шестова, письмам и биографическим мате-
риалам.
Привлечение какого-нибудь
«третьего»
авторитета в рассказе о такой
сомнительной вещи, как
«дружба
с Гуссерлем», в самом начале статьи — ход
столь же сильный, сколь и симптоматичный. Была у русских такая слабость —
включать в свои тексты цитаты на иностранном языке без перевода, вот и Шес-
тов своей статьей всего лишь как бы отвечает на вопрос Шелера: warum sind Sie
mit so einem
Ungestüm
gegen Husserl
losgegangen?
Укрепляя такое интригующее
начало,
он ссылается далее на самого Гуссерля, отрекомендовавшего его в свое
время при встрече во Фрайбурге
американцам:
«Мой коллега такой-то; никто
никогда еще так резко не нападал на меня, как он — и отсюда пошла наша
дружба».
Желая воздать Гуссерлю должное, Шестов усматривает в этом пред-
ставлении «бескорыстие большого мыслителя», озабоченного разысканием ис-
тины
в споре с «идейным противником». Но одной
«дружбы»
Шестову уже сра-
зу становится мало — «Сократ мне
друг,
но истина дороже», — как говорится.
В нашем случае вернее
будет
сказать — себе дороже. Ибо Шестов моментально
занимает недостижимую для сомнений и критики позицию 3-го лица, задаваясь
безобидным вроде бы вопросом: «Но сейчас нас занимает другое: что вызвало,
что могло вызвать с моей стороны столь резкое-выступление?». Это действи-
тельно нечто
«другое»,
чем исполнение последнего долга перед
«другом
и анти-
подом». Но не
будем
спешить. Главное ведь выявить идейное содержание
«спора», а не дать характеристику коммуникативных стратегий Шестова. Но
был ли мальчик? Мы тоже имеем право на коммуникативные стратегии и про-
вокации,
поэтому в дальнейшем, следуя обещанию Шестова выявить мысли
щее:
«Гуссерль
старается, подобно Риккерту, завершить свою
«систему»
перед
смертью. Чувствуется падение его влияния» (цит. по
Chronik,
363). На следующий
день у Гуссерля на «философском
чае»
кроме Шестова присутствовало большое
число приглашенных, в том числе Хайдеггер, Перри, Х.Пос, Беккер, Кауфманн и др.
Перри
записал в этот день: «Долгий разговор с Гуссерлем. Он стремился основать
научную философию на прочном фундаменте — рассмотреть заново все специаль-
ные
науки, обращаясь к первоначальному и беспредпосылочному основанию их всех
— и, возможно, достичь метафизики синтезом полученных истин. Ясно, что он рас-
строен тем, что его лучшие ученики (Хайдеггер, например) ушли от него, избрав
спекулятивные пути. Гуссерль — неутомимый и одинокий труженик» (цит. по
Chronik,
364).
* Цит. по «Умозрение
и
откровение», Париж, 1964.
** Опубликована первоначально в ВФП (сент.-дек. 1917), позднее вошла в качестве
первой главы третьей части книги «Potestas
Clavium»
(Берлин,
1923).
416
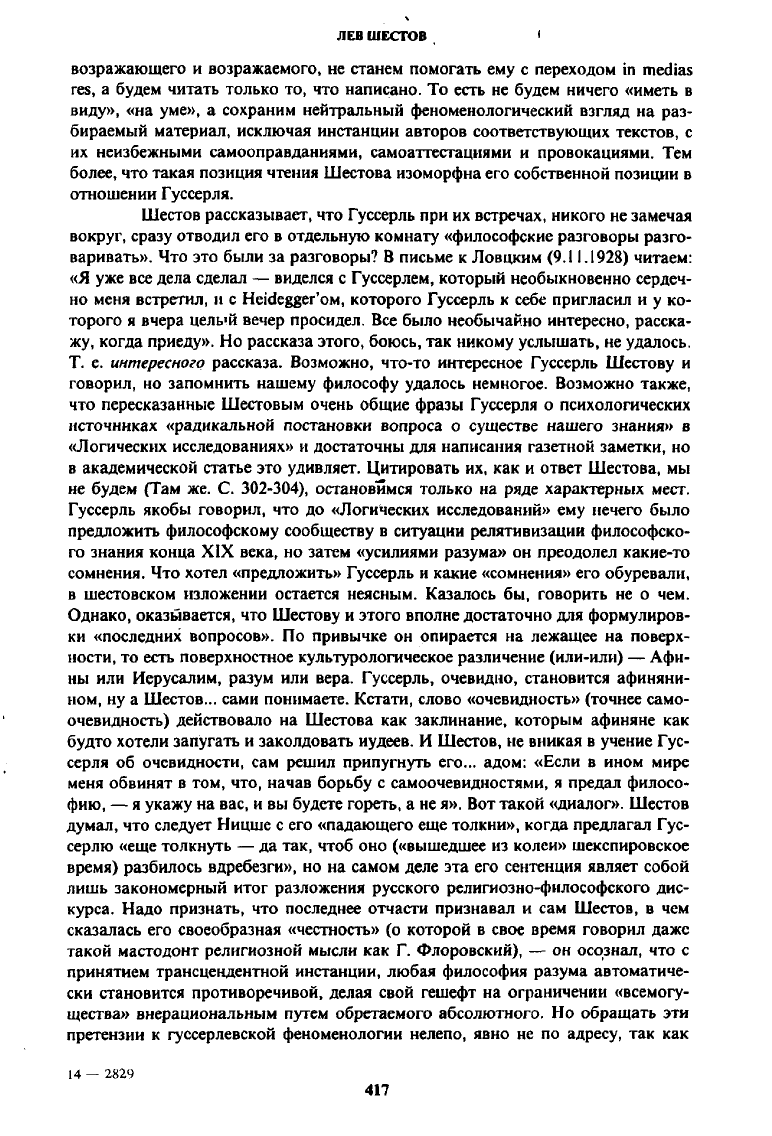
ЛЕВ
ШЕСТОВ
*
возражающего и возражаемого, не станем помогать ему с переходом in
médias
res, а
будем
читать только то, что написано. То есть не
будем
ничего «иметь в
виду»,
«на
уме»,
а сохраним нейтральный феноменологический взгляд на раз-
бираемый материал, исключая инстанции авторов соответствующих текстов, с
их неизбежными самооправданиями, самоаттестациями и провокациями. Тем
более, что такая позиция чтения Шестова изоморфна его собственной позиции в
отношении
Гуссерля.
Шестов рассказывает, что Гуссерль при их встречах, никого не замечая
вокруг, сразу отводил его в отдельную комнату «философские разговоры разго-
варивать». Что это были за разговоры? В письме к Ловцким
(9.11.1928)
читаем:
«Я уже все дела сделал — виделся с Гуссерлем, который необыкновенно сердеч-
но
меня встретил, и с Heidegger'ом, которого Гуссерль к себе пригласил и у ко-
торого я вчера целый вечер просидел. Все было необычайно интересно, расска-
жу, когда приеду». Но рассказа этого, боюсь, так никому услышать, не удалось.
Т.
е.
интересного
рассказа. Возможно, что-то интересное Гуссерль Шестову и
говорил, но запомнить нашему философу удалось немногое. Возможно также,
что пересказанные Шестовым очень общие фразы Гуссерля о психологических
источниках «радикальной постановки вопроса о существе нашего знания» в
«Логических исследованиях» и достаточны для написания газетной заметки, но
в
академической статье это удивляет. Цитировать их, как и ответ Шестова, мы
не
будем
(Там же. С. 302-304), остановимся только на ряде характерных мест.
Гуссерль якобы говорил, что до «Логических исследований» ему нечего было
предложить философскому сообществу в ситуации релятивизации философско-
го знания конца XIX века, но затем «усилиями
разума»
он преодолел какие-то
сомнения.
Что
хотел
«предложить» Гуссерль и какие «сомнения» его обуревали,
в
шестовском изложении остается неясным. Казалось бы, говорить не о чем.
Однако,
оказывается, что Шестову и этого вполне достаточно для формулиров-
ки
«последних вопросов». По привычке он опирается на лежащее на поверх-
ности,
то есть поверхностное культурологическое различение (или-или) — Афи-
ны
или Иерусалим, разум или вера. Гуссерль, очевидно, становится
афиняни-
ном,
ну а Шестов... сами понимаете. Кстати, слово «очевидность» (точнее само-
очевидность) действовало на Шестова как заклинание, которым афиняне как
будто
хотели запугать и заколдовать иудеев. И Шестов, не вникая в учение Гус-
серля об очевидности, сам решил припугнуть его... адом: «Если в ином мире
меня
обвинят в том, что, начав борьбу с самоочевидностями, я предал филосо-
фию,
— я укажу на вас, и вы
будете
гореть, а не я». Вот такой
«диалог».
Шестов
думал, что
следует
Ницше с его «падающего еще толкни», когда предлагал Гус-
серлю
«еще
толкнуть — да так, чтоб оно («вышедшее из колеи» шекспировское
время) разбилось вдребезги», но на самом деле эта его сентенция являет собой
лишь
закономерный итог разложения русского религиозно-философского дис-
курса. Надо признать, что последнее отчасти признавал и сам Шестов, в чем
сказалась его своеобразная
«честность»
(о которой в свое время говорил даже
такой мастодонт религиозной мысли как Г. Флоровский), — он осознал, что с
принятием
трансцендентной инстанции, любая философия разума автоматиче-
ски
становится противоречивой, делая свой гешефт на ограничении
«всемогу-
щества» внерациональным путем обретаемого абсолютного. Но обращать эти
претензии
к гуссерлевской феноменологии нелепо, явно не по адресу, так как
14 — 2829
417
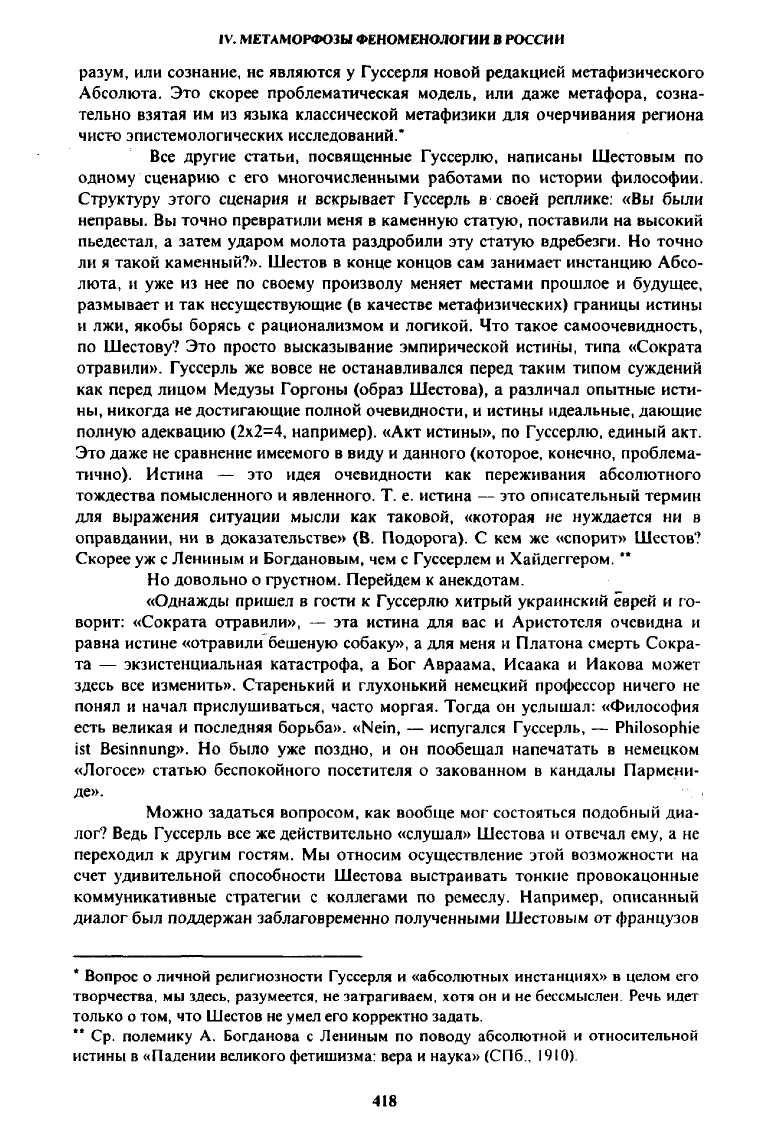
IV.
МЕТАМОРФОЗЫ
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
В
РОССИИ
разум, или сознание, не являются у Гуссерля новой редакцией метафизического
Абсолюта.
Это скорее проблематическая модель, или
даже
метафора, созна-
тельно взятая им из языка классической метафизики для очерчивания региона
чисто эпистемологических исследований.*
Все
другие
статьи, посвященные Гуссерлю, написаны Шестовым по
одному сценарию с его многочисленными работами по истории философии.
Структуру
этого сценария и вскрь/вает Гуссерль в своей реплике: «Вы были
неправы.
Вы точно превратили меня в каменную
статую,
поставили на высокий
пьедестал, а затем
ударом
молота раздробили эту
статую
вдребезги. Но точно
ли я такой каменный?». Шестов в конце концов сам занимает инстанцию
Абсо-
люта, и уже из нее по своему произволу меняет местами прошлое и
будущее,
размывает и так несуществующие (в качестве метафизических) границы истины
и
лжи, якобы борясь с рационализмом и логикой. Что такое самоочевидность,
по
Шестову? Это просто высказывание эмпирической истины, типа «Сократа
отравили». Гуссерль же вовсе не останавливался перед таким типом суждений
как
перед лицом Медузы Горгоны (образ Шестова), а различал опытные исти-
ны,
никогда не достигающие полной очевидности, и истины идеальные, дающие
полную адеквацию (2x2=4, например).
«Акт
истины», по Гуссерлю, единый акт.
Это
даже
не сравнение имеемого в
виду
и данного (которое, конечно, проблема-
тично).
Истина — это идея очевидности как переживания абсолютного
тождества помысленного и явленного. Т. е. истина — это описательный термин
для выражения ситуации мысли как таковой, «которая не нуждается ни в
оправдании, ни в доказательстве» (В. Подорога). С кем же
«спорит»
Шестов?
Скорее уж с Лениным и Богдановым, чем с Гуссерлем и Хайдеггером. "
Но
довольно о грустном. Перейдем к анекдотам.
«Однажды
пришел в гости к
Гуссерлю
хитрый украинский еврей и го-
ворит: «Сократа отравили», — эта истина для вас и Аристотеля очевидна и
равна истине «отравили бешеную собаку», а для меня и Платона смерть Сокра-
та — экзистенциальная катастрофа, а Бог
Авраама,
Исаака и Иакова может
здесь все изменить». Старенький и глухонький немецкий профессор ничего не
понял
и начал прислушиваться, часто моргая. Тогда он услышал: «Философия
есть великая и последняя борьба». «Nein, — испугался Гуссерль, — Philosophie
ist
Besinnung».
Но было уже поздно, и он пообещал напечатать в немецком
«Логосе»
статью беспокойного посетителя о закованном в кандалы Пармени-
де».
Можно
задаться вопросом, как вообще мог состояться подобный диа-
лог?
Ведь
Гуссерль все же действительно
«слушал»
Шестова и отвечал ему, а не
переходил к
другим
гостям. Мы относим осуществление этой возможности на
счет удивительной способности Шестова выстраивать тонкие провокацонные
коммуникативные стратегии с коллегами по ремеслу. Например, описанный
диалог был поддержан заблаговременно полученными Шестовым от французов
* Вопрос о личной религиозности Гуссерля и «абсолютных инстанциях» в целом его
творчества, мы здесь, разумеется, не затрагиваем, хотя он и не бессмыслен. Речь идет
только о том, что Шестов не
умел
его корректно задать.
** Ср. полемику А. Богданова с Лениным по поводу абсолютной и относительной
истины
в «Падении великого фетишизма: вера
и
наука»
(СПб.,
1910).
418
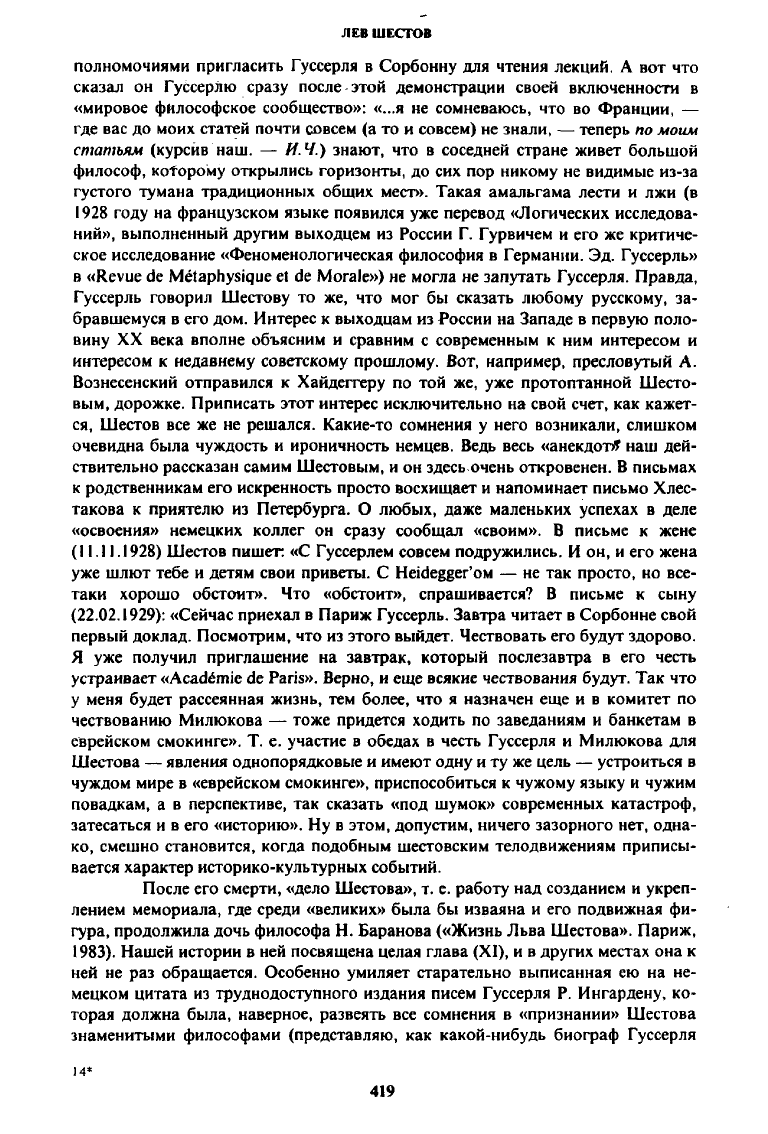
ЛЕВ
ШЕСТОВ
полномочиями
пригласить Гуссерля в Сорбонну для чтения лекций. А вот что
сказал он Гуссерлю сразу после этой демонстрации своей включенности в
«мировое философское сообщество»: «...я не сомневаюсь, что во Франции, —
где вас до моих статей почти совсем (а то и совсем) не знали, — теперь по
моим
статьям
(курсив наш. — И.Ч.) знают, что в соседней стране живет большой
философ,
которому открылись горизонты, до сих пор никому не видимые из-за
густого
тумана традиционных общих мест». Такая амальгама лести и лжи (в
1928
году
на французском языке появился уже перевод «Логических исследова-
ний»,
выполненный другим выходцем из России Г. Гурвичем и его же критиче-
ское исследование «Феноменологическая философия в Германии. Эд.
Гуссерль»
в
«Revue
de
Métaphysique
et de
Morale»)
не могла не запутать Гуссерля. Правда,
Гуссерль говорил Шестову то же, что мог бы сказать любому русскому, за-
бравшемуся в его дом. Интерес к выходцам из России на Западе в первую поло-
вину XX века вполне объясним и сравним с современным к ним интересом и
интересом к недавнему советскому прошлому. Вот, например, пресловутый А.
Вознесенский
отправился к Хайдеггеру по той же, уже протоптанной Шесто-
вым,
дорожке. Приписать этот интерес исключительно на свой счет, как кажет-
ся,
Шестов все же не решался. Какие-то сомнения у него возникали, слишком
очевидна была чуждость и ироничность немцев. Ведь весь «анекдот»* наш дей-
ствительно рассказан самим Шестовым, и он здесь очень откровенен. В письмах
к
родственникам его искренность просто восхищает и напоминает письмо Хлес-
такова к приятелю из Петербурга. О любых, даже маленьких
успехах
в деле
«освоения» немецких коллег он сразу сообщал «своим». В письме к жене
(11.11.1928)
Шестов пишет: «С Гуссерлем совсем подружились. И он, и его жена
уже шлют тебе и детям свои приветы. С Heidegger'oM — не так просто, но все-
таки
хорошо обстоит». Что «обстоит», спрашивается? В письме к сыну
(22.02.1929): «Сейчас приехал в Париж Гуссерль. Завтра читает в Сорбонне свой
первый доклад. Посмотрим, что из этого выйдет. Чествовать его
будут
здорово.
Я уже получил приглашение на завтрак, который послезавтра в его честь
устраивает
«Académie
de
Paris».
Верно, и еще всякие чествования
будут.
Так что
у меня
будет
рассеянная жизнь, тем более, что я назначен еще и в комитет по
чествованию Милюкова — тоже придется ходить по заведаниям и банкетам в
еврейском смокинге». Т. е. участие в обедах в честь Гуссерля и Милюкова для
Шестова — явления однопорядковые и имеют одну и ту же цель — устроиться в
чуждом мире в «еврейском смокинге», приспособиться к чужому языку и чужим
повадкам, а в перспективе, так сказать
«под
шумок» современных катастроф,
затесаться и в его «историю». Ну в этом, допустим, ничего зазорного нет, одна-
ко,
смешно становится, когда подобным шестовским телодвижениям приписы-
вается характер историко-культурных событий.
После
его смерти,
«дело
Шестова», т. е. работу над созданием и укреп-
лением мемориала, где среди
«великих»
была бы изваяна и его подвижная фи-
гура,
продолжила дочь философа Н. Баранова («Жизнь Льва Шестова». Париж,
1983). Нашей истории в ней посвящена целая глава (XI), и в
других
местах она к
ней
не раз обращается. Особенно умиляет старательно выписанная ею на не-
мецком
цитата из труднодоступного издания писем Гуссерля Р. Ингардену, ко-
торая должна была, наверное, развеять все сомнения в «признании» Шестова
знаменитыми
философами (представляю, как какой-нибудь биограф Гуссерля
14*
419
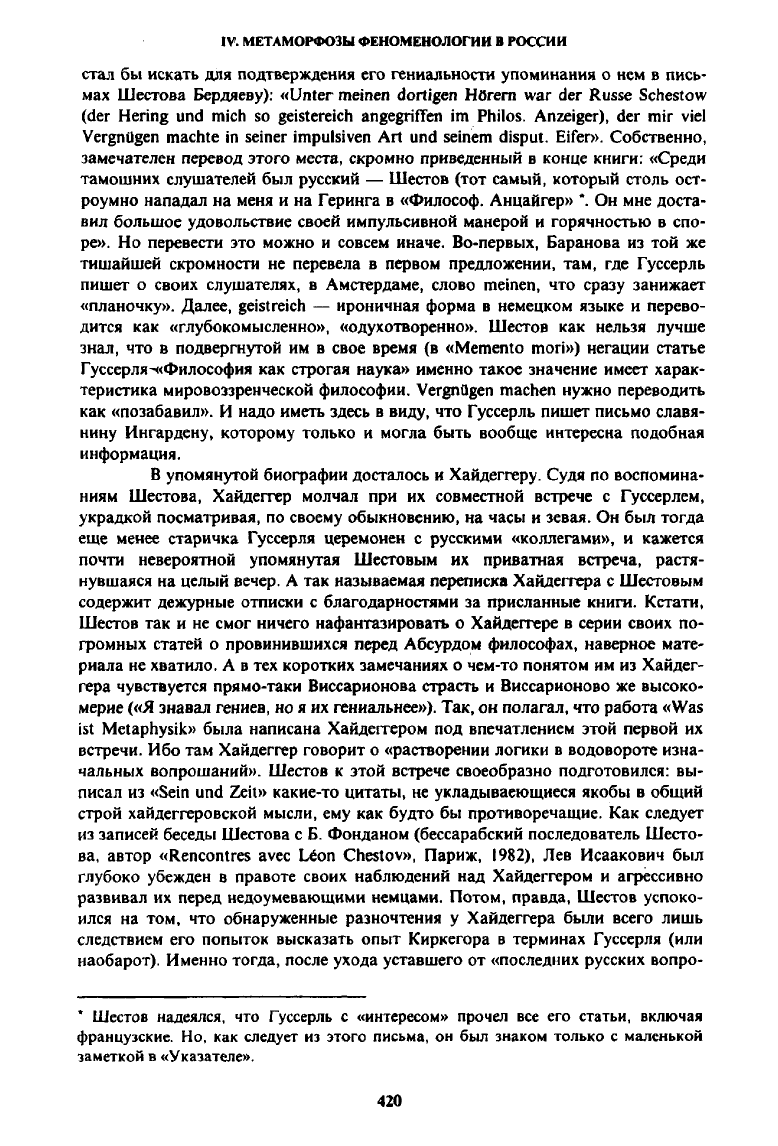
IV.
МЕТАМОРФОЗЫ
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
В
РОССИИ
стал
бы искать для подтверждения его гениальности упоминания о нем в пись-
мах
Шестова
Бердяеву): «Unter meinen dortigen
Hörern
war der
Russe
Schestow
(der
Hering
und
mich
so
geistereich
angegriffen
im
Philos.
Anzeiger),
der mir
viel
Vergnügen
machte
in
seiner
impulsiven
Art und
seinem
disput.
Eifer».
Собственно,
замечателен
перевод этого места, скромно приведенный в конце
книги:
«Среди
тамошних слушателей был русский —
Шестов
(тот самый, который столь ост-
роумно нападал на меня и на Геринга в
«Философ.
Анцайгер»
*.
Он мне доста-
вил большое удовольствие своей импульсивной манерой и горячностью в спо-
ре». Но перевести это можно и совсем иначе. Во-первых, Баранова из той же
тишайшей скромности не перевела в первом предложении, там, где Гуссерль
пишет о своих слушателях, в Амстердаме, слово meinen, что сразу занижает
«планочку». Далее, geistreich — ироничная форма в немецком языке и перево-
дится
как «глубокомысленно», «одухотворенно».
Шестов
как нельзя лучше
знал,
что в подвергнутой им в свое время (в «Memento mori») негации статье
Гуссерля-«Философия
как строгая наука» именно такое значение имеет харак-
теристика мировоззренческой
философии.
Vergnügen
machen
нужно переводить
как «позабавил». И надо иметь здесь в виду, что Гуссерль пишет письмо славя-
нину Ингардену, которому только и могла быть вообще интересна подобная
информация.
В
упомянутой биографии досталось и Хайдеггеру. Судя по воспомина-
ниям
Шестова,
Хайдеггер молчал при их совместной встрече с Гуссерлем,
украдкой посматривая, по своему обыкновению, на часы и зевая. Он был тогда
еще
менее старичка Гуссерля церемонен с русскими «коллегами», и кажется
почти невероятной упомянутая Шестовым их приватная встреча, растя-
нувшаяся на целый вечер. А так называемая переписка Хайдеггера с Шестовым
содержит
дежурные отписки с благодарностями за присланные
книги.
Кстати,
Шестов
так и не смог ничего нафантазировать о Хайдеггере в серии своих по-
громных статей о провинившихся перед Абсурдом
философах,
наверное мате-
риала не хватило. А в тех коротких замечаниях о чем-то понятом им из Хайдег-
гера чувствуется прямо-таки Виссарионова страсть и Виссарионово же высоко-
мерие
(«Я
знавал гениев, но я их гениальнее»). Так, он полагал, что работа «Was
ist
Metaphysik» была написана Хайдеггером под впечатлением этой первой их
встречи.
Ибо
там Хайдеггер говорит о «растворении логики в водовороте изна-
чальных вопрошаний».
Шестов
к этой встрече своеобразно подготовился: вы-
писал из «Sein und Zeit» какие-то цитаты, не укладываеющиеся якобы в общий
строй
хайдеггеровской мысли, ему как будто бы противоречащие. Как следует
из
записей беседы
Шестова
с
Б.
Фонданом
(бессарабский
последователь
Шесто-
ва, автор «Rencontres avec
Léon
Chestov»,
Париж,
1982),
Лев Исаакович был
глубоко убежден в правоте своих наблюдений над Хайдеггером и агрессивно
развивал их перед недоумевающими немцами. Потом, правда,
Шестов
успоко-
ился на том, что обнаруженные разночтения у Хайдеггера были всего
лишь
следствием
его попыток высказать опыт Киркегора в терминах Гуссерля (или
наобарот).
Именно тогда, после ухода уставшего от «последних русских вопро-
*
Шестов надеялся, что Гуссерль с «интересом»
прочел
все его статьи,
включая
французские. Но, как следует из этого
письма,
он был знаком только с
маленькой
заметкой в «Указателе».
420
