Чубаров И.М. (ред., сост.) Антология феноменологической философии в России
Подождите немного. Документ загружается.


ПРЕДИСЛОВИЕ
* * *
В раздел II вошли самые первые по времени
(1909-1910)
отклики на
перевод
1
тома «Логических исследований» Гуссерля, в том числе одна ре-
цензия
на еще более ранние «Основания арифметики» (Г. Челпанов). Это
рецензии,
заметки и первые обзорные статьи, практически не приобретшие
еще критической заостренности. Среди низ архивное письмо Ивана Ильина
о
«феноменологическом
методе»
и архивная запись лекции того же Г. Чел-
панова «О предмете психологии у Ф. Брентано
и
Э.
Гуссерля».
Третий и четвертый разделы представляют соответственно пози-
тивную и негативную критику Гуссерля, периода написания им обоих то-
мов «Логических исследований», статьи «Философия как строгая
наука»
и
«Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии I», и
критическую разработку ряда его учений, проводимую как его русскими
учениками
(Шпет),
так и выучениками неокантианцев
(Яковенко),
русскими
спиритуалистами (А. Аскольдов, А. Огнев), эмпириокритиками (Я. Бер-
ман),
одного представителя львовско-варшавской школы (Ст. Лесь-
невский),
и просто неинституациализованными исследователями (Н. Во-
кач).
Эти разделы составляют наиболее интересную и значимую часть тома
в
плане представления нашей темы.
В третьем разделе приведены два перевода текстов русских фило-
софов,
опубликованных первоначально на немецком языке (работы Г. Лан-
ца
«Das
Problem der
Gegenständlichkeit
in der
modernen
Logik»
и Л. Салагова
«Vom
Begriff
des Geltens in der modernen
Logik»)
и впервые публикуемые
нами
на русском языке. Здесь же предпринята попытка критического пред-
ставления наиболее значительного достижения в рамках рассматриваемого
нами
периода истории философии в России — заключительной главы моно-
графии Г. Шпета «Явление и смысл», посвященной изложению, интерпре-
тации и обстоятельной критике упомянутых «Идей I».
Пятый
раздел наиболее сомнителен в плане наличия в вошедших в
него текстах, феноменологических коннотаций. Мы выделили его исключи-
тельно доверившись авторитету Б. Яковенко
é
, и свидетельствам о зна-
комстве их авторов с гуссерлевской мыслью. Это работы И. Ильина, Б.
Вышеславцева и О. Котельниковой о Гегеле, Фихте и Якоби.
7
По замыслу
они
должны демонстрировать попытку приложения феноменологического
метода в историко-философских исследованиях. Но экспликация способов
такого приложения — задача крайне трудная, если не безнадежная. Остав-
ляем ее за любителями историко-философских штудий.
Заключительный VI раздел, также свободный от критики и наших
комментариев, представляет уже зрелые опыты энциклопедической и хре-
6
Уп. изд.
«Ступеней».
С.
116-117.
7
Известно, что Ильин
даже
посещал лекции
Гуссерля,
а Вышеславцев посвятил ему
много
места
уже в
работах
эмигрантского периода. Но с таким же
успехом
сюда
могли бы войти и историко-философские работы Г. Ланца, самого Б. Яковенко, Г.
Гурвича
и
др.
11

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
В
РОССИИ
стоматийнои репрезентации
(С.
Франк, И. Лапшин, П. Блонский), компара-
тивного анализа (А. Кунцман) и сжатого реферативного изложения
(Г.
Челпанов) феноменологической философии Гуссерля, отражая
уровень
ее
освоения в институциональной среде на пороге новой эры в истории рус-
ской
философии.
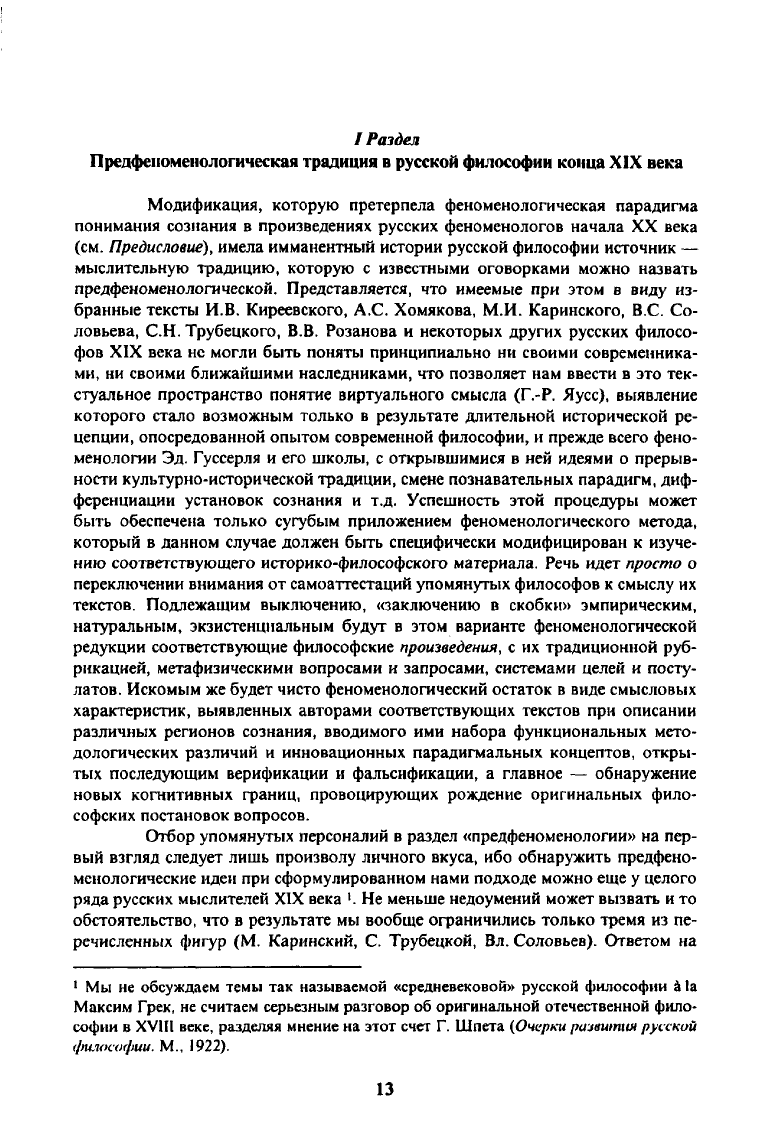
/
Раздел
Предфепоменологическая
традиция
в
русской
философии
конца
XIX
века
Модификация,
которую претерпела феноменологическая парадигма
понимания
сознания в произведениях русских феноменологов начала XX века
(см.
Предисловие),
имела имманентный истории русской философии источник —
мыслительную традицию, которую с известными оговорками можно назвать
предфеноменологической. Представляется, что имеемые при этом в
виду
из-
бранные тексты И.В. Киреевского, A.C. Хомякова, М.И. Карийского, B.C. Со-
ловьева, С.Н. Трубецкого, В.В. Розанова и некоторых
других
русских филосо-
фов
XIX века не могли быть поняты принципиально ни своими современника-
ми,
ни своими ближайшими наследниками, что позволяет нам ввести в это тек-
стуальное пространство понятие виртуального смысла (Г.-Р. Яусс), выявление
которого стало возможным только в
результате
длительной исторической ре-
цепции,
опосредованной опытом современной философии, и прежде всего фено-
менологии Эд. Гуссерля и его школы, с открывшимися в ней идеями о прерыв-
ности культурно-исторической традиции, смене познавательных парадигм, диф-
ференциации
установок сознания и т.д. Успешность этой процедуры может
быть обеспечена только
сугубым
приложением феноменологического метода,
который в данном
случае
должен быть специфически модифицирован к изуче-
нию
соответствующего историко-философского материала. Речь идет
просто
о
переключении внимания от самоаттестаций упомянутых философов к смыслу их
текстов. Подлежащим выключению, «заключению в скобки» эмпирическим,
натуральным, экзистенциальным
будут
в этом варианте феноменологической
редукции соответствующие философские
произведения,
с их традиционной руб-
рикацией,
метафизическими вопросами и запросами, системами целей и посту-
латов. Искомым же
будет
чисто феноменологический остаток в виде смысловых
характеристик, выявленных авторами соответствующих текстов при описании
различных регионов сознания, вводимого ими набора функциональных мето-
дологических различий и инновационных парадигмальных концептов, откры-
тых последующим верификации и фальсификации, а главное — обнаружение
новых когнитивных границ, провоцирующих рождение оригинальных фило-
софских постановок вопросов.
Отбор упомянутых персоналий в раздел «предфеноменологии» на пер-
вый взгляд
следует
лишь произволу личного вкуса, ибо обнаружить предфено-
менологические идеи при сформулированном нами
подходе
можно еще у целого
ряда русских мыслителей XIX века '. Не меньше недоумений может вызвать и то
обстоятельство, что в
результате
мы вообще ограничились только тремя из пе-
речисленных фигур (М. Каринский, С. Трубецкой, Вл. Соловьев). Ответом на
1
Мы не обсуждаем темы так называемой «средневековой» русской философии à la
Максим
Грек, не считаем серьезным разговор об оригинальной отечественной фило-
софии
в
XVIII
веке, разделяя мнение на этот счет Г. Шпета
{Очерки
развития
русской
философии.
М., 1922).
13

I.
ПРЕДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКЛЯ
ТРАДИЦИЯ
эти
вопросы могло бы послужить только целое исследование по истории рус-
ской
философии, которое несколько шире задач настоящего издания. Поэтому
мы ограничимся здесь только самыми общими аргументами в обосновании та-
кого выбора.
Философия
ранних славянофилов, сама фрагментарная и незавершен-
ная,
выражает общее настроение постклассической эпохи в западно-
европейской
философии,
и в ее бедной провинции — русской философии первой
половины
XIX века. Это отказ от чисто рационалистических способов обосно-
вания
главных философских рубрик, опора на чувственный и волевой опыты
сознания
и попытки построения синтетических теорий знания. Уже у поздних
Шеллинга и Фихте можно обнаружить эти тенденции. В Россию его принесли
немецкие
легионеры (Ф. Фишер), неофихтеанцы (И.Б. Шад), и развивали, соб-
ственно,
русские мыслители (О. Новицкий, Ф. Сидонский, Ф. Голубинский, В.
Карпов,
арх. Гавриил и др.). Славянофилы обобщили соответствующие идеи и
попытались подвести под них онтологические, исторические и религиозные
основания.
В этом состояла
суть
проекта A.C. Хомякова, который более
других
представителей кружка преуспел в философских занятиях. Но после
долгих
ко-
лебаний мы решили все же не печатать его интересные, богатые разнообразны-
ми
мыслями работы (это прежде всего относится к
статье
«По поводу отрывков,
найденных в
бумагах
И.В. Киреевского», и письмам по философии Ю.Ф. Сама-
рину),
ибо все же в отношении феноменологии здесь можно говорить разве что
о
тенденции, сравнивая мысли Хомякова с находящимися с ними в несомненной
преемственности идеями В. Соловьева и С. Трубецкого. Вот мы и ограничились
цитациями
и ссылками на Хомякова в комментариях к текстам его преемников
в
русской философии. Что касается книги Розанова «О понимании», то мы по-
считали невозможным купировать эту блестящую философскую утопию, безус-
ловно заслуживающую отдельного изучения. И вообще, рамки нашей темы для
такого гения как Розанов слишком узки и
даже
неадекватны, хотя некоторые
его идеи
могут
смело быть рассмотрены в предложенной выше перспективе.
г
Но
даже
у упомянутых выше
трех
мыслителей мы выбрали исключи-
тельно оригинальные сочинения, занимающие особое место в целом их твор-
чества. Они посвящены почти исключительно эпистемологическим размышле-
ниям,
что нетипично для большинства философских сочинений этого периода
истории русской философии. Это ранняя работа М. Карийского «Явление и
действительность» (1878), раннее сочинение С. Трубецкого «О природе челове-
ческого сознания»
(1889-1891)
и проект позднего Вл. Соловьева «Теоретическая
философия»
(1897-1899).
Наши философы воздерживаются здесь от традицион-
ных метафизических выводов и пытаются
даже
обнаружить ядра коллективного
бессознательного своих манифестаций. Ибо, бесспорно, полностью отрешиться
от метафизических комплексов никому из них так и не удалось, и потому их
индивидуальные дискурсы фундированы некоторыми общими основаниями,
которые в дальнейшем определят и ряд ключевых позиций рецепции и модифи-
кации
русской философией XX века феноменологии Эд. Гуссерля и его школы.
2
Сошлемся здесь на работы В. Бибихина по вылепливанию головы Розанова по
посмертной маске
Хайдеггера.
14

ВВЕДЕНИЕ
Под
«основаниями» мы понимаем некоторые особенности русской
ментальности, объединяющие и определяющие весь социо-культурный кон-
текст, религиозную традицию и собственно философские достижения русских
мыслителей XIX века, которые можно, пока только в первом приближении,
свести к нескольким пунктам:
• Гиперреализм в понимании
всех
сторон личной и общественной жизни,
выдаваемый за стремление к «истинной
правде»
(правде-матке), «живой
жизни» и пр. примеров риторических плеоназмов.
• Неизбежная в гиперреальной установке порносимуляция маскируется оп-
тическими утопиями — отказом от эмпирического зрения в пользу
«неведения» (См. замечательную ст. М. Маяцкого «Некоторые подходы к
проблеме визуальности в русской философии». Логос. М., 1995. С. 47-76),
позволяющего созерцать «незримую очами» мировую
душу
— Софию, са-
мый
«лакомый» и соблазнительный предмет русской религиозной мысли.
На
неизбежность смешения идеального женского образа с реально че-
ловеческим указывали уже современники русских софиологов. Наиболее
поучительные ситуации связаны здесь с фигурой Вл. Соловьева, которого
одна из инкарнаций Софии признала Христом (См. Вл. Соловьев. Письма.
Пг.,
1923. С. 8-13; Шмидт А.Н. Из рукописей... под ред. П. Флоренского и
С. Булгакова. М.,
1916).
Проницательные (и неблагожелательные) критики
обращали внимание на еще одну сторону этой темы: они подозревали, что
за попытками трансцендентализации и сакрализации женского начала
скрывается вытесненное желание созерцания обнаженной женской натуры.
Тем более, что следствием подобного вытеснения совсем не обязательно
должен стать реальный сексуальный вуайеризм, скорее наоборот — запрет
на
зрение, фантазм реального и его абсорбция гиперреальным, «вуайеризм
(вагинального) представления и его утраты, головокружение от
утраты
сцены
и вторжения непристойного» (см. Ж. Бодрийяр. О совращении. Еже-
годник
Ad Marginem-93. M., 1994. С. 333, 337 и др.). Только в отличие от
японских
гегемонов русские софиологи-флаггеляторы предпочитали
«созерцать незримое» в более приватном
кругу.
• Неприятие чисто рациональных моделей познания и овладения миром, и
формулировка императивных учений о синтезе (собирании) познаватель-
ных способностей (чувства+разум+воля/вера) на основе (и при условии)
«общего
дела».
Любопытно, что центральный гносеологический концепт большинства
известных русских философов —
«соборность»
соответствует
описанию
первобытного мышления у Леви-Брюля, с характерным для него отказом
от формальной логики в пользу чувственной и моторной сторон сознания,
приоритетом коллективных представлений,
регулируемых
законом парти-
ципации
и носящих специфически мистический характер.
3
• В социальном плане — это отказ от имманентного исследования и описа-
ния
реальных социальных отношений в целях реформирования государ-
3
См. Л. Леви-Брюль. Первобытное мышление. М., 1994. Разумеется, эта отсылка
говорит скорее в пользу упомянутого учения, хотя и ставит под сомнение его
исто-
рическую
ценность. В то же время, никто не доказал ценность самой истории.
15

I.
ПРВДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКЛЯ
ТРАДИЦИЯ
ственного устройства, и поиск-вера в
«лучший»,
уже существующий мир
(«Град
Китеж» и т.п.)- Т.е. создание
принципиально
нереализуемых
(зато
гиперреализуемых) проектов преображения действительности, нацеленных
как на будущее, так и регрессивных. Ибо упомянутое
выше
«дело» не обя-
зательно
предполагало какую-либо практическую деятельность (во всяком
случае не созидательную),
речь
шла или о мгновенном нравственном пре-
ображении
(«из
грязи
— в князи») на приватном уровне, пассивном
участии в коллективном культовом действе (литургия), и/или... воору-
женном
восстании.
•
Платой за обретение «высшей
правды»
оказывается смешение иллюзии,
фикции и явления, реального феномена. Ибо если наш мир представляет
собой
только ложную копию «горнего мира», последнее различие оказы-
вается
излишним, чем открывается широкий простор логической недобро-
совестности
и интеллектуальному лукавству.
•
В этическом плане различие истины и лжи подменяется различием истины
и
правды
(отсутствующим в большинстве европейских
культур),
всегда
оставляющим лазейки для сделок с совестью и безнравственных поступков,
бесконечное
количество которых искупается одним единственным публич-
ным покаянием (вариант эксгибиционизма).
В
многообразных преломлениях и
даже
попытках изживания
этих
комплексов «русского характера» и разворачивались основные коллизии ис-
тории
философии
в
России,
что отразилось и в публикуемых ниже статьях. Лю-
бопытно однако, что первое же фундаментальное феноменологическое положе-
ние,
которые одинаково разделяли Каринский, С. Трубецкой и Соловьев,
утверждает
интенцию
принципиально
противоположную смыслу перечислен-
ных
выше
«особенностей».
Всех
троих объединяет неприятие, ставших к концу
XIX века для традиции западно-европейского философствования центральны-
ми, концепций картезианства, кантианства, чистого эмпиризма и позитивизма,
на уровне их
главных
гносеологических и методологических деклараций. Глав-
ным пунктом выступала здесь
критика
субъективизма в понимании сознания.
Базировалась
она на утверждении ими реальной действительности (а не являе-
мости
только) феномена сознания, иногда проходившего под псевдонимами
«чувствительности» и
даже
«психики», но понимаемого в существенно близком
феноменологии смысле. Хотя, конечно, здесь же имеются существенные разли-
чия. Источник размежевания классической феноменологической
парадигмы
и ее
русского варианта расположен в интерпретации интенционального отношения.
Если
в первой это отношение возможно только при сохранении манифестируе-
мого источника субъективности (трансцендентального ego) и противостоящего
ему мира (со всеми связанными с этим натуралистическими предпосылками и
последствиями), то в последней появляется возможность отказа от натурали-
стического
понимания отношения «сознание - бытие» за счет введения в дис-
курс трансцендентной инстанции — Бога, берущей на
себя
опосредование
всех
реальных и идеальных отношений.
Представляется,
что инстанция эта сыграла
для предфеноменологической мысли в
России
конца XIX века чисто инструмен-
тальную роль, ведь ее последующая деструкция была уже не таким сложным
мыслительным
предприятием, как достигнутая с ее помощью проблематизация
инстанции «Я-сознания» (с его Besondereseinsweise, как синонимом «натуры»),
16

ВВЕДЕНИЕ
которую не смог до конца преодолеть
даже
Хайдеггер
(не говоря уже о Сартре).
В характеристиках введения и дальнейшего функционирования этой
инстанции
у русских религиозных философов обнаруживаются на первый
взгляд существенные различия, однако их существенность безусловна только в
перспективе изложения аутентичных учений последних, или исповеданий соот-
ветствующих символов веры, но
никак
не в поле феноменологической дескрип-
ции
процессов смыслообразования. Здесь трансцендентная инстанция
всегда
выступает как трансцендентальная манифестация без каких-либо реальных де-
нотаций
и отчетливых сигнификаций. Их мнимое осуществление в концепте
«Софии» как
«душе
мира»,
«четвертой
ипостаси» и т.п. (софиология С. Трубец-
кого,
Вл. Соловьева, П. Флоренского, С. Булгакова и др.), мало
дает
для мыс-
лимости идеи Бога, зато (хотя и косвенно) тематизирует идею мира, и именно
поэтому подвергается время от времени антипантеистической критике в рамках
самой религиозно-философской традиции (Аскольдов, Лопатин, Шестов и др.).
Причем
эта критика была далеко не периферийным явлением в пределах гене-
ральной линии развития русского религиозной философии, определяя эту по-
следнюю в ее навязчивом тяготении к апофатическому истолкованию идеи Аб-
солюта, лишь иногда подвергаясь смещениям в отдельных фрагментах тех же
Соловьева,
Карийского,
Трубецкого...
Вернемся к общей точке исхождения размышлений наших авторов.
Только на первый взгляд они повторяют здесь картезианский ход, в котором от
акта сомнения заключают к существованию его субъекта. Подвергая Декарта
критике
в этом пункте, наши философы во многом совпадают с Гуссерлем, про-
водившим
соответствующую
критическую работу в своих «Картезианских ме-
дитациях». Но
идут
и еще дальше, ибо вообще не нуждаются в том, без чего не
обошелся основатель феноменологии — инстанции ego cogito. * Первичность и
самодостоверность «факта психического происшествия» (Соловьев) отнюдь не
полагает индивидуализированную форму и не предполагает индивидуального
источника соответствующих оригинальных интуитивных актов. Русские фило-
софы
обходятся без этих полаганий в проблеме обоснования существования
внешнего мира, и, следовательно, обоснованности человеческих претензий на
его адекватное познание. Но на
путях
решения соответствующих метафизиче-
ских задач у Соловьева, Трубецкого и Карийского уже обнаруживаются рас-
хождения. Трубецкой идет в этом вопросе от родовой «доантропоморфной»
чувственности. Каринский — от инвариантных логических отношений, в кото-
рые
вступают
вещи и люди. Соловьев же, как это ни парадоксально, — от воле-
вого начала в сознании человека («замысел»). Соответственно ими реализуются
три возможные модели метафизического философствования — онтологическая,
логическая и гносеологическая. Различия эти проявляются в трактовке ключе-
вых концептов религиозно-философского дискурса. Так, вера, как фактор или
способность познания, занимает у
всех
трех
мыслителей различное место. У
4
Мы не можем согласиться с утверждением П.П. Гайденко («Конкретный идеализм»
С.Н.
Трубецкого // Трубецкой С.Н. Сочинения. М., 1994. С. 31), что Трубецкой, как
и
Соловьев «в качестве исходного понятия философской системы полагает... кон-
кретное сущее, самобытное реальное существо, которое является субъектом
всех
тех
определений, тех предикатов, которые в нем открывает мышление.»
17

I. ПРЕДФЕНОМ
БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ
Карийского
(несмотря, или благодаря его
«духовному»
образованию) вера вы-
полняет минимальную гносеологическую функцию, на уровне следования тра-
диции
обыденного и научного мировосприятия (возможно и приватного рели-
гиозного исповедания), полностью лишаясь критериальных претензий. У Соло-
вьева она выступает как «отвлеченное начало», при исключительной опоре на
которое, при построении системы знания, неизбежна такая же односторонность,
как
и при эксклюзивной опоре на чувственность или рассудок. И только у Тру-
бецкого вера декларируется как фундаментальная и наиболее активная сторона
познающего сознания, чем, отчасти, возрождается славянофильская утопия. Но
платой за такой откровенный фидеизм у Трубецкого является некорректное
смешение интеллектуальной и мистической интуиции. Как бы там ни было, и
для Карийского, и для Соловьева, и для Трубецкого вера
требует
еще дополни-
тельного оправдания — онтологического, гносеологического, логического... А,
следовательно, имеет совершенно иной смысл, чем в клерикально-религиозной
догматике. Во всяком случае, дискурсы этих
трех
философов открывают для
русской мысли путь феноменологическому описанию сознания и непредвзятому
изучению природы смысла.
Подтверждением тому
служит
и понимание нашими «предфеномено-
логами»
статуса
логического сознания, его связи с сознанием нравственным, и
предельных целей философии. Кн. С.Н. Трубецкой натыкается на границы мыс-
лимости в вопросе о претворении нравственного идеала (который одновремен-
но
есть идеал познания) в реальной жизни общества, поэтому последним сло-
вом-постулатом его философии оказывается
любовь.
«Тесные
пределы»
психи-
ческой имманенции не устраивают и Карийского, хотя он менее
других
авторов
обозначил свою позитивную программу. Выявив логическую
структуру
лежа-
щего в ее основе отношения (сознание-предмет), он пытается, не без
успеха,
перенести ее и на отношения совершенно
другого
рода (предмет-предмет), сни-
мая
различие онтологии и гносеологии в проекте sui
generis
логики отношений.
Соловьев идет от обретенной в рефлексии самодостоверной сферы восприем-
лющего сознания к общеобязательности логической формы, в которой это со-
знание
себя мыслит, и завершает свое путешествие интуицией замышляющего
сознания,
которое только и
делает
возможным соединение материальной и
формальной его стороны. В концепте
замысла
легко прочитываются герменев-
тические
коннотации,
тем более, что Соловьев здесь же пишет о
слове,
как необ-
ходимом (наряду с памятью) условии мышления. Но как и в
случае
С. Трубец-
кого (в отношении публикуемого текста которого, текст Соловьева находится в
прямой
зависимости, как и текст Трубецкого в отношении текста Карийского)
целью стремлений этого легендарного героя русской философии являлся скорее
прорыв герменевтического круга, в забрезжившей в его голове идее создания
чистой
логики
революции
— интеллектуальнойзсоциальной=перманентной...
Последнее, пожалуй, более всего сближает «нашу предфеноменоло-
гию»
с их «феноменологией»: переход на феноменологическую установку Эд.
Гуссерля и хайдеггеровские темпоральные экстазы очерчивают если не то же, то
смежное поле
«актуальных
философских исследований».
18

Михаил
Иванович Карийский
(4.11.1840
—
20.07.1917)
один
из не-
многих русских философов «дооктябрьского» периода, удостоившийся быть
напечатанным
в
период «послеоктябрьский»
', и
ряда позитивных отзывов
в
это
же время
со
стороны советских
ученых.
Правда взамен
ему
пришлось претер-
петь становление материалистом
2
.
Аргументом
в
пользу последнего отнесения
служила цитата из его курса
«Логики»
(1884-85):
«Существующим мы называем
все то,
что
будучи
само
по
себе независимо
от
данного
в
нас образа его,
от на-
шего представления
о
нем, только отражается
в
этом представлении». Однако,
мало того,
что
сами представления как модификации сознания Каринский ни-
когда не заподазривал
в
нереальности, его критическое отношение
к
оппозиции
материализм-идеализм позволяет скорее характеризовать
его
общую онтолого-
гносеологическую позицию
как
реалистическую,
а в
методологическом плане
говорить
о
нем
даже
как
об
аналитике и феноменологе.
Дальнейший анализ одной
из
программных работ Каринского
«Явление
и
действительность», публикуемой нами ниже, позволит обосновать
эти
оценки более содержательно.
Общая критическая направленность статьи, антитетический метод
осуществления этой критики, множественность
и
нерасчлененность авторских
инстанций
не
позволяют представить положительные взгляды Каринского
в
каком-то однозначном
и
аутентичном виде, предполагая не только
(и
не столь-
ко)
обращение
к
внешнему
и
внутреннему контекстам
его
текстов,
но
прежде
всего содержательную реконструкцию чисто философских интенций
в них за-
ложенных, выявление коммуникативных стратегий мыслителя, разворачи-
вающихся
в
смысловой связи
с
основным теоретическим изложением.
Известно,
что положение Каринского
в
социальном и культурном про-
странствах России второй половины
XIX
века осложнялось (по сравнению,
на-
пример
с
Чаадаевым, Хомяковым
и
Соловьевым) тем,
что
первоначальным
его
образованием было образование
«духовное»,
семинаристское. И хотя диссерта-
цию Каринский защищал
в
Московском университете, дальнейшая
его
творче-
ская
биография оказалась неразрывно связанной
с
церковными учреждениями
и
духовными изданиями. Между тем,
его
философский дискурс
в
целом должен
быть характеризован как секулярный, адогматический, принципиально экзоте-
рический,
лишенный
даже
религиозного пафоса, опять
же
столь характерного
для упомянутых мыслителей, которые если и были социально ангажированы,
то
только
в
гражданских институтах.
И
может быть именно
это
пребывание
Ка-
ринского
в
неадекватном
его
общефилософской ориентации месте
3
,
позволило
ему занять нейтральную позицию
в
споре метафизиков
и
физиков
1
См. «Избранные
труды
русских логиков
XIX
в.
».
М.,
1956;
2
См.
ст. в
Философской
энциклопедии.
М.,
1962.
Т. 2.,
основанную
на
предисловии
П.С.
Попова
к
публикации
«Логики»
Каринского
в
«Вопросах
философии»
(М.,
1947, №2. С.
386-387).
3
Любопытно, что первая часть его работы «Критический обзор последнего периода
германской философии» была, например, помещена
в
журнале «Христианское
чте-
ние»
(СПб.,
1873. 4.1. С.
70-132)
между
«Историей новозаветного канона»
и
«Поучением
к
сельскому народу
о
молитве господней»;
а
опубликованная
в
совет-
ское время часть его «Логики», находилась рядом
с
докладом Лысенко.
19

I.
ПРВДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКЛЯ
ТРАДИЦИЯ
(спиритуалистов и позитивистов), который к середине 70-х гг. постепенно наби-
рал обороты — позицию посредника, медиума, пытавшегося совместить дис-
курсы точных наук и метафизической философии, не переходя целиком ни на
чью сторону. В одном месте статьи Каринский специально предупреждает по-
пытки
придать его рассуждениям
статус
новой метафизической доктрины. Его
мысль пробегает
«между»
претенциозных квазинаучных подходов и обобщений
в
обилии продуцируемых как естествоиспытателями, так и философами. По
сути, Каринский нащупывает принципиально неприсваиваемую и неутилизуе-
мую в научном дискурсе область рефлексивной мысли как таковой. Не надо
забывать, что Каринский принадлежал к маловостребованной в общественных
дискурсивных пространствах и оттого малопопулярной в расхожих представле-
ниях
истории русской философии
4
школе логики
(П.
Порецкий, Н. Васильев, Л.
Рутковский),
и в работе «Явление и действительность» он попытался эксплици-
ровать взгляды чистых логиков
5
на вопросы, традиционно относимые к мета-
физике.
На этом пути он встретился с проблемой метафизических эквивокаций
и
психологистических перетолкований добытых при логическом анализе языка
традиционной
философии результатов. Но безусловно, это направление Карин-
ского — интеграции логики в метафизику — имело этапное значение в ста-
новлении
теоретической (в т.ч. феноменологической) философии в России ру-
бежа веков, сопоставимое со значением творчества еще одного видного фило-
софа
конца XIX — начала XX вв. Франца Брентано — для философии сознания
в
Германии. Компаративный анализ их произведений говорит о существенной
близости их основных положений, и многое
дает
для понимания логики разви-
тия
западноевропейской философии XX века. Но задача состоит
даже
не в этом,
как
и не в том, чтобы в силу этого обстоятельства реабилитировать значение
фигуры Карийского в истории мировой философии. В подобном интертексте
могут
быть обнаружены пределы мыслимости близких по историческому вре-
мени
и социальному расположению дискурсов ' и выявлены зоны открытости,
проблематического и парадоксального, при вступлении в которые открылось
бы еще более широкое интерсубъективное поле философского дискурса как
такового, новая культивация которого сделала бы осмысленными ссылки и на
других
его возделывателей, оправдало бы игнорацию его сорняков, паразитов и
простых пользователей (историографов и библиографов). Примером же бес-
плодного
подхода
к связи Карийского с предфеноменологической традицией в
Германии может служить как раз его аттестация «русским Брентано»
7
. Ибо с
таким же
успехом
можно говорить о Брентано, как «немецком Каринском». Не
потому же, право, такая аттестация может иметь смысл, что Брентано повезло с
учениками?! А если рассматривать фигуру Брентано независимо от
успехов
4
У
В.В.
Зеньковского,
Н.О.
Лосского,
например.
5
Имеется
в виду сообщество
логиков
XIX века, предложивших альтернативные,
традиционным аристотелевским концепциям модели логического анализа
(Тренделенбург,
Л
отце,
Гербарт, Больцано,
Джевонс,
Пирс,
Фреге и др.).
6
Известно,
что
Ф.
Брентано
(1838-1917)
даже
был одно
время
католическим священ-
ником
(с
1864).
7
В статье В.И. Молчанова «Феноменология в России» (Малый энциклопедический
словарь «Русская философия». М.,
1995.
С. 548).
20
