Чубаров И.М. (ред., сост.) Антология феноменологической философии в России
Подождите немного. Документ загружается.

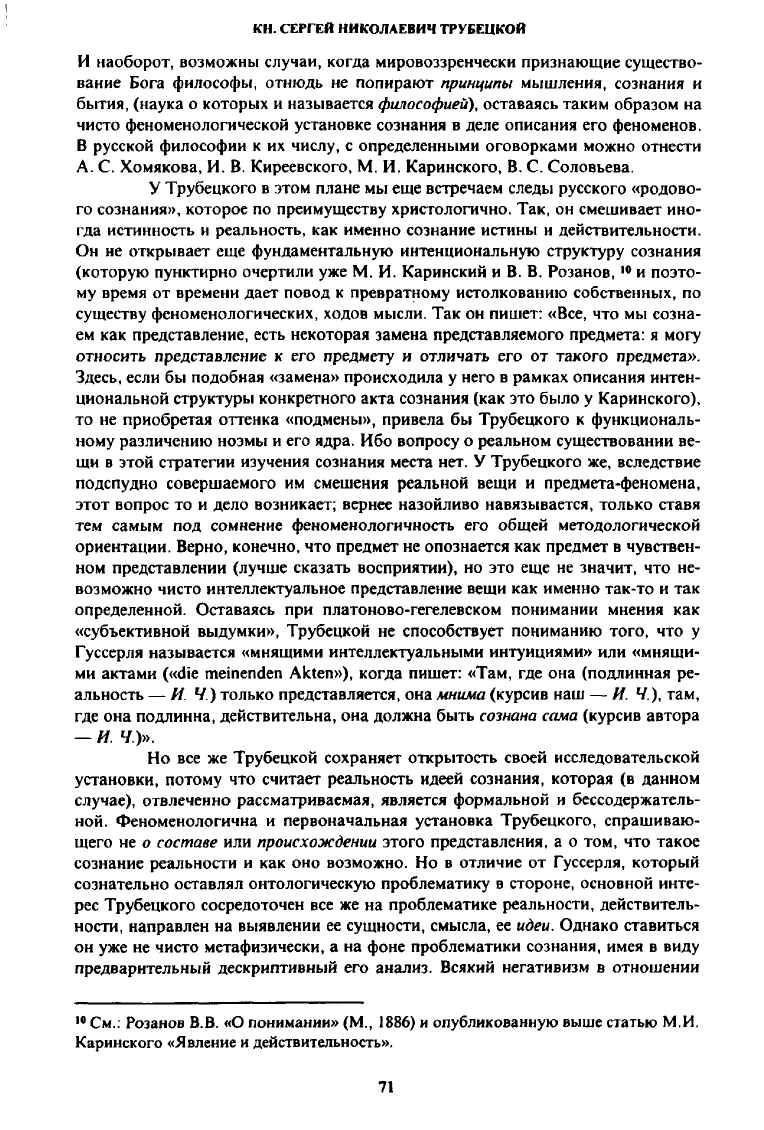
КН.
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ТРУБЕЦКОЙ
И
наоборот, возможны случаи, когда мировоззренчески признающие существо-
вание Бога философы, отнюдь не попирают
принципы
мышления, сознания и
бытия,
(наука о которых и называется
философией),
оставаясь таким образом на
чисто феноменологической установке сознания в
деле
описания его феноменов.
В русской философии к их числу, с определенными оговорками можно отнести
А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, М. И. Карийского, В. С. Соловьева.
У Трубецкого в этом плане мы еще встречаем следы русского «родово-
го сознания», которое по преимуществу христологично. Так, он смешивает ино-
гда истинность и реальность, как именно сознание истины и действительности.
Он
не открывает еще фундаментальную интенциональную
структуру
сознания
(которую пунктирно очертили уже М. И. Каринский и В. В. Розанов,
|0
и поэто-
му время от времени
дает
повод к превратному истолкованию собственных, по
существу
феноменологических,
ходов
мысли. Так он пишет:
«Все,
что мы созна-
ем как представление, есть некоторая замена представляемого предмета: я
могу
относить представление к его предмету и отличать его от такого предмета».
Здесь, если бы подобная
«замена»
происходила у него в рамках описания интен-
циональной
структуры конкретного акта сознания (как это было у Карийского),
то не приобретая оттенка «подмены», привела бы Трубецкого к функциональ-
ному различению ноэмы и его ядра. Ибо вопросу о реальном существовании ве-
щи
в этой стратегии изучения сознания места нет. У Трубецкого же, вследствие
подспудно совершаемого им смешения реальной вещи и предмета-феномена,
этот вопрос то и дело возникает; вернее назойливо навязывается, только ставя
тем самым под сомнение феноменологичность его общей методологической
ориентации.
Верно, конечно, что предмет не опознается как предмет в чувствен-
ном
представлении (лучше сказать восприятии), но это еще не значит, что не-
возможно чисто интеллектуальное представление вещи как именно так-то и так
определенной. Оставаясь при платоново-гегелевском понимании мнения как
«субъективной выдумки», Трубецкой не способствует пониманию того, что у
Гуссерля называется «мнящими интеллектуальными интуициями» или «мнящи-
ми
актами
(«die
meinenden
Akten»),
когда пишет: «Там, где она (подлинная ре-
альность — И. Ч.) только представляется, она
мнима
(курсив наш — И. Ч), там,
где она подлинна, действительна, она должна быть
сознана
сама
(курсив автора
— И.
</.)».
Но
все же Трубецкой сохраняет открытость своей исследовательской
установки, потому что считает реальность идеей сознания, которая (в данном
случае), отвлеченно рассматриваемая, является формальной и бессодержатель-
ной.
Феноменологична и первоначальная установка Трубецкого, спрашиваю-
щего не о
составе
или
происхождении
этого представления, а о том, что такое
сознание
реальности и как оно возможно. Но в отличие от Гуссерля, который
сознательно оставлял онтологическую проблематику в стороне, основной инте-
рес Трубецкого сосредоточен все же на проблематике реальности, действитель-
ности,
направлен на выявлении ее сущности, смысла, ее
идеи.
Однако ставиться
он
уже не чисто метафизически, а на фоне проблематики сознания, имея в
виду
предварительный дескриптивный его анализ. Всякий негативизм в отношении
10
См.:
Розанов В.В. «О понимании»
(М.,
1886) и опубликованную выше статью М.И.
Карийского
«Явление
и
действительность».
71

I.
ПРЕДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ
сознания
Трубецким решительно отвергается: «Отрицание логических функций
сознания
противоречит основной и непоколебимой вере человека в реальность
внешнего мцра, в универсальность истины» [490]. Вера здесь — не какая-то
мистическая способность человека, а его своеобразная родовая память. Следы
ее, по Трубецкому, мы открываем в реальном феноменологическом анализе
индивидуального сознания, а не предполагаем как некий метафизический прин-
цип
(какое-нибудь «универсальное родовое бессознательное начало» и т.п.).
«Сознание немыслимо и необъяснимо без сознания, оно предполагает себя са-
мого: постольку личное ограниченное сознание предполагает сознание общее,
коллективное» [494-495]. Т.е. Трубецкой здесь, продолжая критику индивидуа-
лизма в понимании сознания, начатую в русской мысли П.Я. Чаадаевым, A.C.
Хомяковым, И.В. Киреевским, М.И. Каринским и B.C. Соловьевым, и привед-
шую к положительной позиции Г.Г. Шпета (см. его «Сознание и его собствен-
ник»),
«нащупывает»
в самом этом индивидуальном сознании внутренние ин-
терсубъективные структуры, которые и позволяют нам что-либо понимать в
качестве реального и истинного.
Переходя к конкретным описаниям, Трубецкой
исследует
чувствен-
ность, находя, что «в каждом восприятии... мы воспринимаем не ощущения,
которые мы
чувствуем,
а
вещи,
и каждая из таких вещей является нам не сово-
купностью ощущений, но совокупностью свойств, объективных качеств». Одна-
ко
не надо понимать эти слова Трубецкого как новую декларацию наивного
реализма. Он предпринимает здесь психологический анализ чувственного со-
знания
с точки зрения открываемых в нем родовых универсальных элементов.
Рассматривая этот вопрос с точки зрения обыденного мышления («наивное
сознание» у Трубецкого), он сам находится при этом в установке рефлексивной,
и
избегает таким образом абстрактных противостояний субъекта объекту. Сам
факт
чувственного восприятия, безотчетно предполагает, по Трубецкому, об-
щий
универсальный характер нашей чувственности. Т.е. на перцептивном уров-
не
мы воспринимаем уже нечто определенное до
меня
и для
всех,
и не можем
ничего воспринять как «только нами впервые опознанное». Наш опыт сформи-
рован таким образом до нас, предполагая, по Трубецкому,
«всеобщую,
антро-
поморфную чувственность до
человека»,
своего рода вселенскую чувственность с
которой как-то связана наша индивидуальная чувственность. И здесь опять же
нет метафизики. Трубецкой просто пытается ответить на совершенно право-
мерный
вопрос: как интерпретируются сознанием чувственные данные. И отве-
чает
на него: «Мы предполагаем независимою от нас объективность и универ-
сальность чувственных качеств, которые, однако, мы узнаем не прежде чем по-
лучаем
их ощущение». Под «объективностью» и «универсальностью» здесь
нужно понимать, очевидно, их идеальность. Содержащееся здесь понимание
Трубецким характера чувственных априорных форм, критически заостренное в
отношении
кантианства, приближается к феноменологической трактовке а
priori. По Трубецкому, «в нашей
чувствующей
организации есть предрасполо-
женность к восприятию данных чувственных свойств (звуков, цветовых
лучей
и
пр.),
так и в неразвитой чувственности человека, в самых его
чувствах
таятся
общие,
видовые представления их. Но Трубецкой (как и Соловьев в
«Теоретической философии») не имеет здесь в
виду
какую-то реальную потен-
цию,
т.е. и здесь отказывается от метафизики. Однако Трубецкой
отходит
от
72
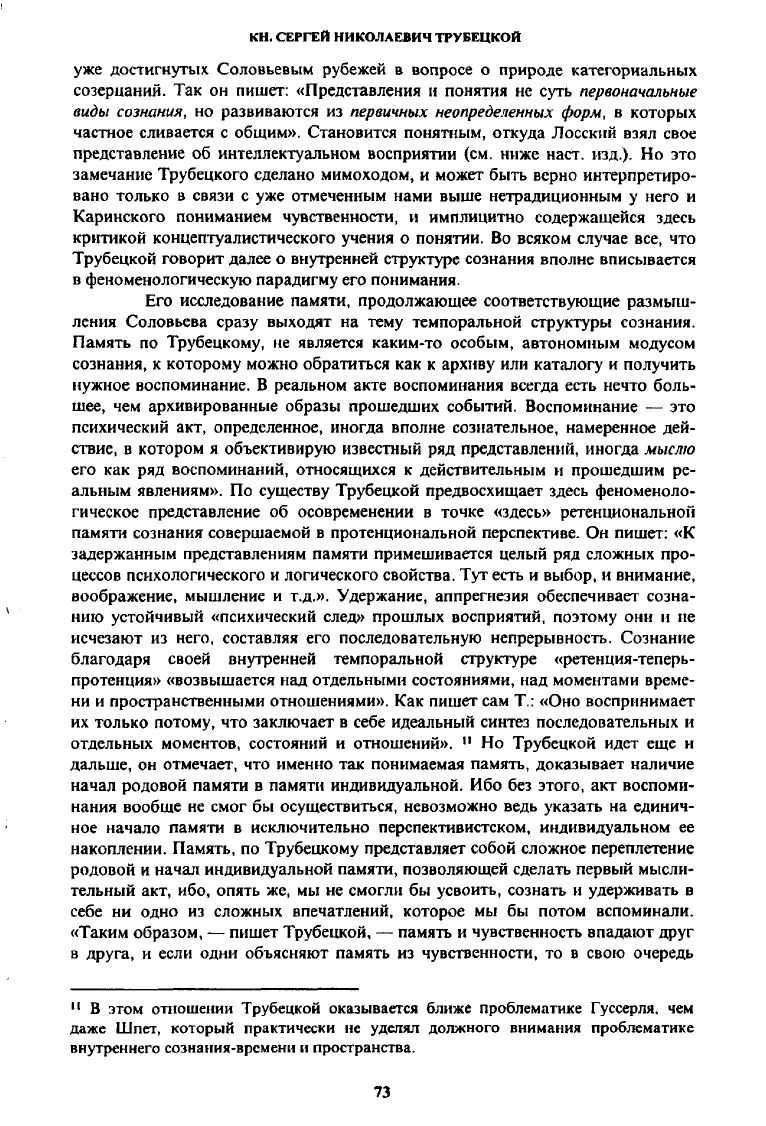
КН.
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ТРУБЕЦКОЙ
уже достигнутых Соловьевым рубежей в вопросе о природе категориальных
созерцаний.
Так он пишет: «Представления и понятия не
суть
первоначальные
виды
сознания,
но развиваются из
первичных
неопределенных
форм,
в которых
частное сливается с общим». Становится понятным,
откуда
Лосскнй взял свое
представление об интеллектуальном восприятии (см. ниже наст. изд.). Но это
замечание Трубецкого сделано мимоходом, и может быть верно интерпретиро-
вано только в связи с уже отмеченным нами выше нетрадиционным у него и
Карийского
пониманием чувственности, и имплицитно содержащейся здесь
критикой
концептуалистического учения о понятии. Во всяком
случае
все, что
Трубецкой говорит
далее
о внутренней
структуре
сознания вполне вписывается
в
феноменологическую парадигму его понимания.
Его исследование памяти, продолжающее соответствующие размыш-
ления
Соловьева сразу выходят на
тему
темпоральной структуры сознания.
Память
по Трубецкому, не является каким-то особым, автономным модусом
сознания,
к которому можно обратиться как к
архиву
или каталогу и получить
нужное воспоминание. В реальном акте воспоминания
всегда
есть нечто боль-
шее, чем архивированные образы прошедших событий. Воспоминание — это
психический акт, определенное, иногда вполне сознательное, намеренное дей-
ствие, в котором я объективирую известный ряд представлений, иногда
мыслю
его как ряд воспоминаний, относящихся к действительным и прошедшим ре-
альным явлениям». По
существу
Трубецкой предвосхищает здесь феноменоло-
гическое представление об осовременении в точке
«здесь»
ретенциональной
памяти
сознания совершаемой в протенциональной перспективе. Он пишет: «К
задержанным представлениям памяти примешивается целый ряд сложных про-
цессов психологического и логического свойства. Тут есть и выбор, и внимание,
воображение, мышление и
т.д.».
Удержание, аппрегнезия обеспечивает созна-
нию
устойчивый «психический
след»
прошлых восприятий, поэтому они и не
исчезают из него, составляя его последовательную непрерывность. Сознание
благодаря своей внутренней темпоральной
структуре
«ретенция-теперь-
протенция» «возвышается над отдельными состояниями, над моментами време-
ни
и пространственными отношениями». Как пишет сам Т.: «Оно воспринимает
их только потому, что заключает в себе идеальный синтез последовательных и
отдельных моментов, состояний и отношений». " Но Трубецкой идет еще и
дальше, он отмечает, что именно так понимаемая память, доказывает наличие
начал родовой памяти в памяти индивидуальной. Ибо без этого, акт воспоми-
нания
вообще не смог бы осуществиться, невозможно ведь указать на единич-
ное
начало памяти в исключительно перспективистском, индивидуальном ее
накоплении.
Память, по Трубецкому представляет собой сложное переплетение
родовой и начал индивидуальной памяти, позволяющей сделать первый мысли-
тельный акт, ибо, опять же, мы не смогли бы усвоить, сознать и удерживать в
себе ни одно из сложных впечатлений, которое мы бы потом вспоминали.
«Таким образом, — пишет Трубецкой, — память и чувственность впадают
друг
в
друга,
и если одни объясняют память из чувственности, то в свою очередь
11
В этом отношении Трубецкой оказывается ближе проблематике Гуссерля, чем
даже
Шпет, который практически не
уделял
должного внимания проблематике
внутреннего сознания-времени и пространства.
73

I.
ПРЕДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ
чувственность не объяснима без памяти». В резюме Трубецкой отстаивает по-
нимание
памяти как чисто психического свойства, не сводимого к
«физиологическим, механическим свойствам и движениям». Мы уже знаем, что
здесь
следует
читать: память, как и вся деятельность сознания не сводится к
натуральным свойствам и отношениям психики.
Не
менее «загадочными» свойствами, как пишет Трубецкой, обладает
еще один
модус
сознания —
воображение.
Оно связано и неотделимо от памяти,
последняя,
по Т.,
дает
ему материал, а само воображение выступает действую-
щей
основой актуализации образов памяти в «теперь-точке». Воображение свя-
зано
у Трубецкого с выражением в образах как индивидуации родовой общ-
ности представлений. В этом смысле воображение более индивидуально чем
представление
и связано с личной
волей
(с ее удовольствиями и страданиями).
Представление и группы представлений, не
могут
быть, по мысли Т., строго
индивидуальными. «Каждая такая группа, — пишет он, — сопровождается це-
лым рядом
других,
тусклых
представлений, наслояющихся вокруг нее
концен-
трически,
в порядке убывающей ясности, и образующих как бы общую атмо-
сферу ее.» Трубецкой выявляет ядро ноэмы, «питающейся на счет психической
атмосферы, нуждающегося в ней для своего конкретного
воображения».
Заме-
чательно, что вместо термина «ноэма», Трубецкой употребляет здесь слово
«поэма».
В конце подробного анализа смыслообразующей деятельности созна-
ния,
Трубецкой неожиданно выходит на
тему
образования коллективного бес-
сознательного (идолы, мифы и т.д.), архетипы которого формируются за счет
нарушения чисто феноменологического отношения к процессам смыслообразо-
вания
и появления метафизических конструктов, этих застывших «психических
паразитов, живущих на наш
счет».
Трубецкой здесь подчеркивает волевой мо-
мент в сознании, момент сознательной установки и удержания на ней, который
нарушается при рассредоточении или психическом расстройстве. Трубецкой,
следуя
здесь за Хомяковым, приходит к
выводу,
что мышление, есть волевой
процесс,
т.е. представления как воплотившиеся
чувства,
мысль, принявшая об-
раз,
«живут
в нашем сознании... не <как> пассивный материал мышления, но
живые <как> элементы с которыми не
всегда
легко
совладать».
Своевольные
образы фантазии имеют, по Трубецкому как бы свои собственные влечения и
составляют собой тёмную сторону сознания. Кроме того, Трубецкой указывает
на
пограничные состояния сознания, близкие к усыплению, фиксируя наличие
настоящей «подпочвы
сознания,
в которой родится множество образов, мыслей,
чувств, воспоминаний и предчувствий, которые иногда прорываются в светлую,
сознательную полосу».
Итак
в воображении, памяти и целом сознании переплетено унаследо-
ванное,
внушенное и личное, свое. «Ибо представления сообщаются, передают-
ся
от одного ума к
другому,
живут
в обществе умов, точно также как они
живут
в
отдельных индивидах; они развиваются, обобщаются в своей социальной
жизни». Трубецкой намечает в этой связи две темы больших исследований — о
коллективном воображении и языке, которые могли бы исследоваться с точки
зрения
социальной психологии. Известно, что именно в этом направлении раз-
вивался Г. Шпет (его работы: «Внутренняя форма слова», «Язык и смысл»,
«Предмет и задачи этнической психологии» и т.д.).
74

КН.
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ТРУБЕЦКОЙ
В заключение своей статьи, заявленной как чисто теоретическое иссле-
дование, Трубецкой, как истинно русский мыслитель, приходит к формулировке
концепции...
метафизического социализма: «Таким образом
мы
приходим
к
парадоксальному
результату:
между
тем как индивидуалистическая психология
и
субъективный индивидуализм одинаково
ведут
к
отрицанию индивидуальной
души,
метафизический
социализм,
признание соборности сознания обосновы-
вает нашу
веру
в
нее.
Утверждаемая отвлеченно, обособленная индивидуаль-
ность обращается
в
ничто;
она
сохраняется
и
осуществляется только
в об-
ществе, притом
в
совершенном обществе». Здесь
нам
видится
у
Трубецкого
не
простое морализующее дополнение,
а
интуиция настоящей переориентации
философского дискурса, близкая проекту позднего Соловьева, предполагавшего
переход
от
чистой теории
к
формулировке квазитеоретических моделей
пони-
мания-преобразования
действительности.
Только
в
этом контексте
и
может быть представлен переход Трубец-
кого
к
постановке практической (этической) задачи
в
рамках теоретического
исследования, которая состоит,
по его
словам,
в
осуществлении внутреннего
идеала сознания через сплочение индивидуальностей вокруг церковной коллек-
тивности.
И
здесь
он
также оказывается созвучен позднему
Гуссерлю
12
,
пы-
тавшемуся противопоставить индивидуализирующим стратегиям "европейских
наук", интерсубъективное пространство
Lebenswelt'a
, в
котором трансценден-
тальная субъективность могла бы найти свое
"Другое",
а
человечество
—
алиби
своим культурным идеалам и ценностям.
Т.
Дмитриев,
И.
Чубарое
С.Н.
ТРУБЕЦКОЙ
«О
природе
человеческого
сознания»
Внутренний
анализ
сознания
Рассматривая
общественную жизнь и общественное развитие с пси-
хологической точки зрения, мы усматриваем
в
этой жизни
и в
этом разви-
тии
живое преемство сознания
в
органической
связи отдельных индивиду-
альных
его
сфер. Не прибегая
к
свидетельству гипнотических эксперимен-
тов
и
явлений
так
называемого «умственного внушения», столь наглядно
доказывающих взаимную проницаемость индивидуальных сфер сознания,
мы
находим постоянную
и
нормальную существенную связь
между
ними,
которая
обусловливает весь строй душевной жизни отдельного человека.
Ибо,
если
из
нашего индивидуального сознания удалить
эту
живую связь,
которая
соединяет нас
с
другими
сознаниями,
как предшествовавшими,
так
и
с
существующими, если удалить из нашего индивидуального сознания со-
12
В
этой
же
статье, Трубецкой разделяет страхи старых Гуссерля
и
Хайдеггера,
пе-
ред неподкотрольным развитием частных естественных
и
технических наук.
75
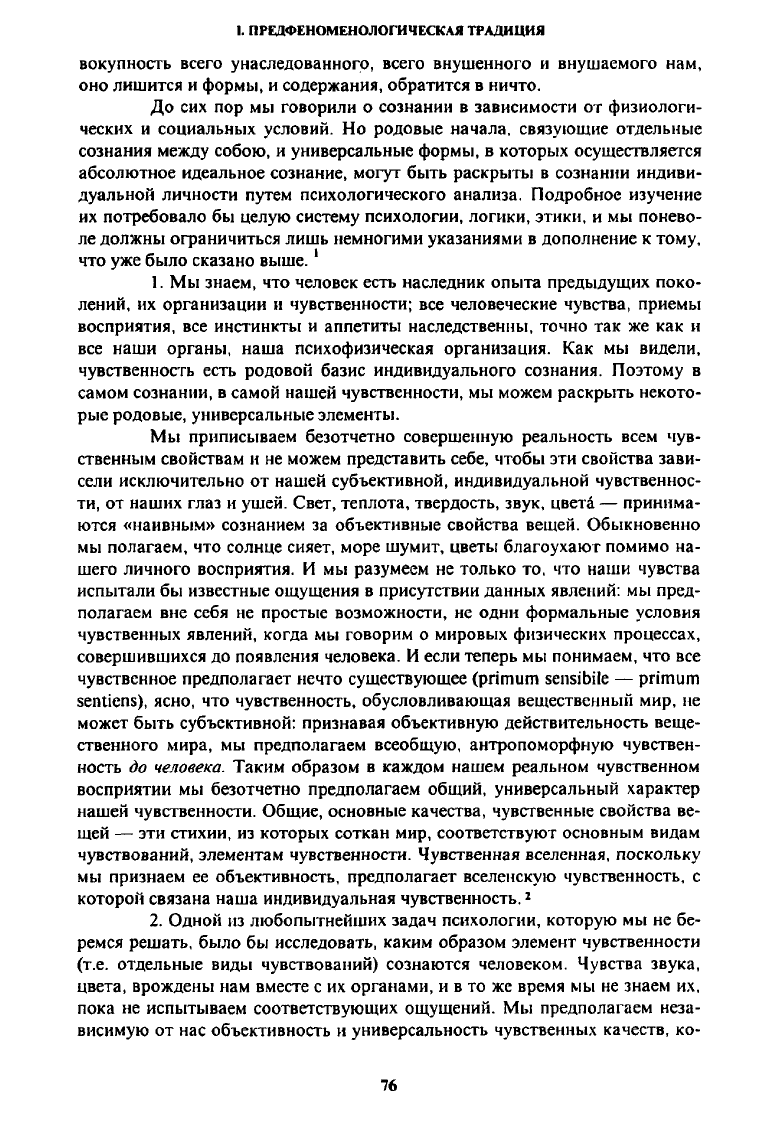
I.
ПРЕДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ
вокупность всего унаследованного, всего внушенного и внушаемого нам,
оно
лишится и формы, и содержания, обратится в ничто.
До сих пор мы говорили о сознании в зависимости от физиологи-
ческих и социальных условий. Но родовые начала, связующие отдельные
сознания
между
собою, и универсальные формы, в которых осуществляется
абсолютное идеальное сознание,
могут
быть раскрыты в сознании индиви-
дуальной личности путем психологического анализа. Подробное изучение
их потребовало бы
целую
систему психологии, логики,
этики,
и мы понево-
ле должны ограничиться лишь немногими указаниями в дополнение к
тому,
что уже было сказано выше. '
1. Мы знаем, что человек есть наследник опыта предыдущих
поко-
лений,
их организации и чувственности; все человеческие
чувства,
приемы
восприятия,
все инстинкты и аппетиты наследственны, точно так же как и
все наши органы, наша психофизическая организация. Как мы видели,
чувственность есть родовой базис индивидуального сознания. Поэтому в
самом сознании, в самой нашей чувственности, мы можем раскрыть некото-
рые родовые, универсальные элементы.
Мы
приписываем безотчетно совершенную реальность всем чув-
ственным
свойствам и не можем представить себе, чтобы эти свойства зави-
сели исключительно от нашей субъективной, индивидуальной чувственнос-
ти,
от наших глаз и ушей. Свет, теплота, твердость, звук, цвета — принима-
ются «наивным» сознанием за объективные свойства вещей. Обыкновенно
мы
полагаем, что солнце сияет, море шумит, цветы
благоухают
помимо на-
шего личного восприятия. И мы разумеем не только то, что наши
чувства
испытали
бы известные ощущения в присутствии данных явлений: мы пред-
полагаем вне себя не простые возможности, не одни формальные условия
чувственных явлений, когда мы говорим о мировых физических процессах,
совершившихся до появления человека. И если теперь мы понимаем, что все
чувственное предполагает нечто
существующее
(primum
sensibile
— primum
sentiens),
ясно,
что чувственность, обусловливающая вещественный мир, не
может быть субъективной: признавая объективную действительность веще-
ственного мира, мы предполагаем всеобщую, антропоморфную чувствен-
ность
до
человека.
Таким образом в каждом нашем реальном чувственном
восприятии
мы безотчетно предполагаем общий, универсальный характер
нашей
чувственности. Общие, основные качества, чувственные свойства ве-
щей
— эти стихии, из которых соткан мир,
соответствуют
основным видам
чувствований, элементам чувственности. Чувственная вселенная, поскольку
мы
признаем ее объективность, предполагает вселенскую чувственность, с
которой
связана наша индивидуальная чувственность.
2
2. Одной из любопытнейших задач психологии, которую мы не бе-
ремся
решать, было бы исследовать, каким образом элемент чувственности
(т.е.
отдельные виды чувствований) сознаются человеком. Чувства звука,
цвета, врождены нам вместе с их органами, и в то же время мы не знаем их,
пока
не испытываем соответствующих ощущений. Мы предполагаем неза-
висимую от нас объективность и универсальность чувственных качеств, ко-
76

КН.
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ТРУБЕЦКОЙ
торые, однако, мы узнаем не прежде, чем получаем их ощущение. Мы не
имеем о них никакого первоначального понятия. Я
думаю
даже, что мы со-
бственно никогда не имеем о них вполне
отвлеченного
понятия, точно так
же, как мы не имеем о них какого-либо строго индивидуализированного
представления. * Как мы уже указывали, и представления и понятия не
суть
первоначальные виды
сознания,
но развиваются из первичных неопределен-
ных форм, в которых частное сливается с общим.
3
Каковы бы ни были фи-
зиологические условия чувственности, она есть прежде всего
психическая
способность, точно так же как и
чувства,
соответствующие отдельным клас-
сам ощущений,
суть
такие психические способности. Поэтому можно ду-
мать, что как в нашей
чувствующей
организации есть предрасположение к
восприятию данных чувственных свойств (звуков, цветовых
лучей
и проч.),
так и в неразвитой чувственности человека, в самих его
чувствах
таятся об-
щие, видовые
представления
их. Это представления совершенно забытые,
спящие,
потенциальные. Но ряд ощущений и восприятий
пробуждают
их в
нас.
Таким образом забвение как бы
предшествует
памяти и есть первона-
чальная ее форма
4
. Воззрение Платона, который объяснял знание из воспо-
минания
и видел в узнавании начало познания, кажется нам глубоко вер-
ным.
Для этого еще вовсе не нужно предполагать вместе с Платоном пред-
существование человека в каком-то идеальном мире
духов.
Достаточно
признать,
что вся индивидуальная память, обнимающая совокупность ин-
дивидуального опыта, развивается на родовом наследственном базисе. Ина-
че
трудно
объяснить потенциально-общий, родовой характер наших эле-
ментарных чувственных представлений, основных эмпирических данных
сознания.
Мы уже коснулись в начале статьи этого родового базиса наших
представлений, нашей памяти, нашего сознания вообще; мы указали на то,
что им обусловлена не только связь, но и самая
сохраняемость
наших пред-
ставлений в сознании, равно как и их естественная способность к
обобще-
нию. Благодаря предшествующей памяти, нам иногда достаточно одного
восприятия,
чтобы узнать вещь из ее свойств и
запомнить
ее; нам достаточ-
но
иногда немногих опытов, чтобы явление в нас
обобщилось.
Ибо в памяти
все легко обобщается, и каждая определенная совокупность представлений
может быть повторена с незначительными изменениями несчетное число
раз.
3. Что такое память, и каково ее значение в сознании? На этот воп-
рос
существует
столько же ответов, сколько есть психологов, как
будто
де-
ло идет о разных предметах, и каждый помнит по-своему. В действитель-
ности все говорят о разных предметах, и нам не
хотелось
бы прибавлять
свою
лепту
к этому множеству мнений. Одни психологи видят в памяти об-
щую потенцию
сознания;
другие
отождествляют память с
сознанием;
третьи
видят в ней лишь особый вид
сознания.
Мы не говорим уже о множестве те-
* Если я пользуюсь каким-либо неопределенным образом в виде символа для пред-
ставления цвета, звука и проч., то я вполне сознаю условный, вспомогательный ха-
рактер подобных представлений.
77
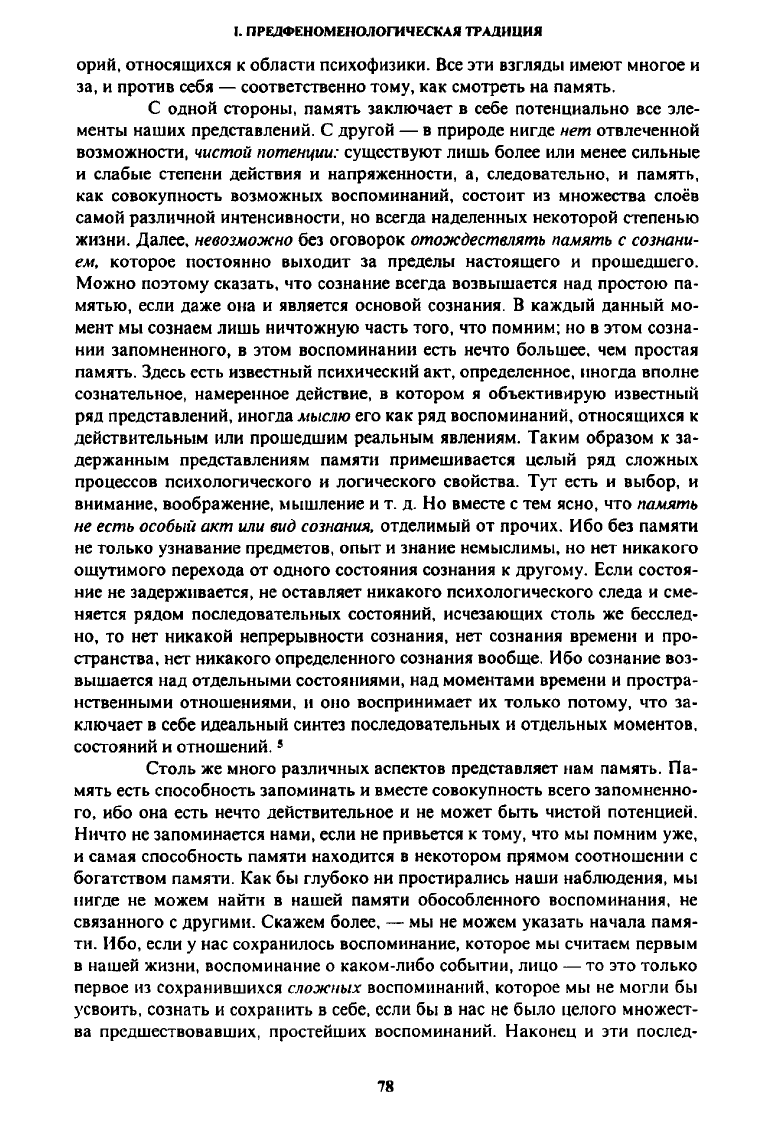
I.
ПРВДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКЛЯ
ТРАДИЦИЯ
орий,
относящихся к области психофизики. Все эти взгляды имеют многое и
за, и против себя — соответственно
тому,
как смотреть на память.
С
одной стороны, память заключает в себе потенциально все эле-
менты наших представлений. С
другой
— в природе нигде нет отвлеченной
возможности,
чистой
потенции:
существуют
лишь более или менее сильные
и
слабые степени действия и напряженности, а, следовательно, и память,
как
совокупность возможных воспоминаний, состоит из множества слоев
самой различной интенсивности, но
всегда
наделенных некоторой степенью
жизни.
Далее,
невозможно
без оговорок
отождествлять
память
с
сознани-
ем, которое постоянно
выходит
за пределы настоящего и прошедшего.
Можно поэтому сказать, что сознание
всегда
возвышается над простою па-
мятью, если
даже
она и является основой сознания. В каждый данный мо-
мент мы сознаем лишь ничтожную часть того, что помним; но в этом созна-
нии
запомненного, в этом воспоминании есть нечто большее, чем простая
память. Здесь есть известный психический акт, определенное, иногда вполне
сознательное, намеренное действие, в котором я объективирую известный
ряд представлений, иногда
мыслю
его как ряд
воспоминаний,
относящихся к
действительным или прошедшим реальным явлениям. Таким образом к за-
держанным представлениям памяти примешивается целый ряд сложных
процессов психологического и логического свойства. Тут есть и выбор, и
внимание,
воображение, мышление и т. д. Но вместе с тем ясно, что
память
не
есть
особый
акт или вид
сознания,
отделимый от прочих. Ибо без памяти
не
только узнавание предметов, опыт и знание немыслимы, но нет никакого
ощутимого
перехода
от одного состояния сознания к
другому.
Если состоя-
ние
не задерживается, не оставляет никакого психологического
следа
и сме-
няется
рядом последовательных состояний, исчезающих столь же бесслед-
но,
то нет никакой непрерывности сознания, нет сознания времени и про-
странства, нет никакого определенного сознания вообще. Ибо сознание воз-
вышается над отдельными
состояниями,
над моментами времени и простра-
нственными отношениями, и оно воспринимает их только потому, что за-
ключает в себе идеальный синтез последовательных и отдельных моментов,
состояний
и отношений.
5
Столь же много различных аспектов представляет нам память. Па-
мять есть способность запоминать и вместе совокупность всего запомненно-
го, ибо она есть нечто действительное и не может быть чистой потенцией.
Ничто не запоминается
нами,
если не привьется к
тому,
что мы помним уже,
и
самая способность памяти находится в некотором прямом соотношении с
богатством памяти. Как бы глубоко ни простирались наши наблюдения, мы
нигде не можем найти в нашей памяти обособленного воспоминания, не
связанного с другими. Скажем более, — мы не можем указать начала памя-
ти.
Ибо, если у нас сохранилось воспоминание, которое мы считаем первым
в
нашей жизни, воспоминание о каком-либо событии, лицо — то это только
первое из сохранившихся
сложных
воспоминаний, которое мы не могли бы
усвоить, сознать и сохранить в себе, если бы в нас не было целого множест-
ва предшествовавших, простейших воспоминаний. Наконец и эти послед-
78
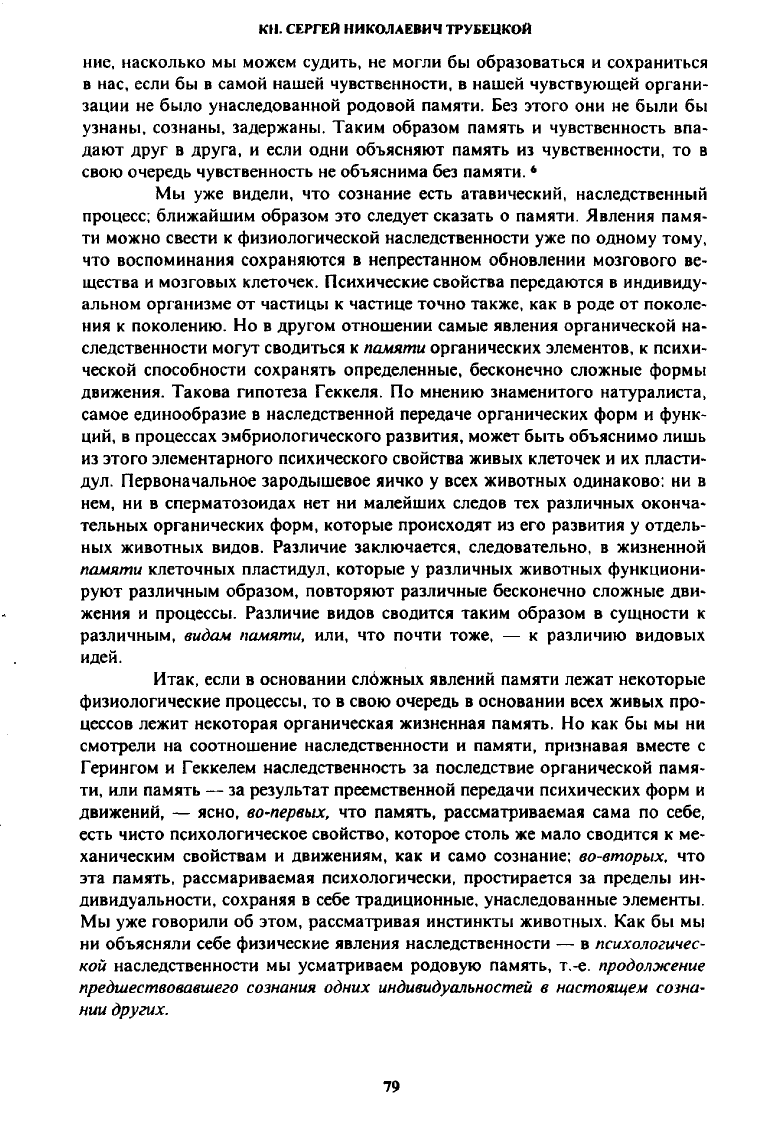
КН.
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ТРУБЕЦКОЙ
ние,
насколько мы можем
судить,
не могли бы образоваться и сохраниться
в
нас, если бы в самой нашей чувственности, в нашей
чувствующей
органи-
зации
не было унаследованной родовой памяти. Без этого они не были бы
узнаны, сознаны, задержаны. Таким образом память и чувственность впа-
дают
друг
в
друга,
и если одни объясняют память из чувственности, то в
свою очередь чувственность не объяснима без памяти. ·
Мы
уже видели, что сознание есть атавический, наследственный
процесс; ближайшим образом это
следует
сказать о памяти. Явления памя-
ти можно свести к физиологической наследственности уже по одному
тому,
что воспоминания сохраняются в непрестанном обновлении мозгового ве-
щества и мозговых клеточек. Психические свойства передаются в индивиду-
альном организме от частицы к частице точно также, как в роде от поколе-
ния
к поколению. Но в
другом
отношении самые явления органической на-
следственности
могут
сводиться к
памяти
органических элементов, к психи-
ческой способности сохранять определенные, бесконечно сложные формы
движения. Такова гипотеза Геккеля. По мнению знаменитого натуралиста,
самое единообразие в наследственной передаче органических форм и функ-
ций,
в процессах эмбриологического развития, может быть объяснимо лишь
из
этого элементарного психического свойства живых клеточек и их пласти-
дул. Первоначальное зародышевое яичко у
всех
животных одинаково: ни в
нем,
ни в сперматозоидах нет ни малейших следов тех различных оконча-
тельных органических форм, которые происходят из его развития у отдель-
ных животных видов. Различие заключается, следовательно, в жизненной
памяти
клеточных
π
ласти дул, которые у различных животных функциони-
руют
различным образом, повторяют различные бесконечно сложные дви-
жения
и процессы. Различие видов сводится таким образом в сущности к
различным,
видам
памяти,
или, что почти тоже, — к различию видовых
идей.
Итак,
если в основании сложных явлений памяти
лежат
некоторые
физиологические процессы, то в свою очередь в основании
всех
живых про-
цессов лежит некоторая органическая жизненная память. Но как бы мы ни
смотрели на соотношение наследственности и памяти, признавая вместе с
Герингом и Геккелем наследственность за последствие органической памя-
ти,
или память — за
результат
преемственной передачи психических форм и
движений, —
ясно,
во-первых,
что память, рассматриваемая сама по себе,
есть чисто психологическое свойство, которое столь же мало сводится к ме-
ханическим свойствам и движениям, как и само сознание;
во-вторых,
что
эта память, рассмариваемая психологически, простирается за пределы ин-
дивидуальности, сохраняя в себе традиционные, унаследованные элементы.
Мы
уже говорили об этом, рассматривая инстинкты животных. Как бы мы
ни
объясняли себе физические явления наследственности — в
психологичес-
кой наследственности мы усматриваем
родовую
память, т.-е.
продолжение
предшествовавшего
сознания
одних
индивидуальностей
в
настоящем
созна-
нии
других.
79
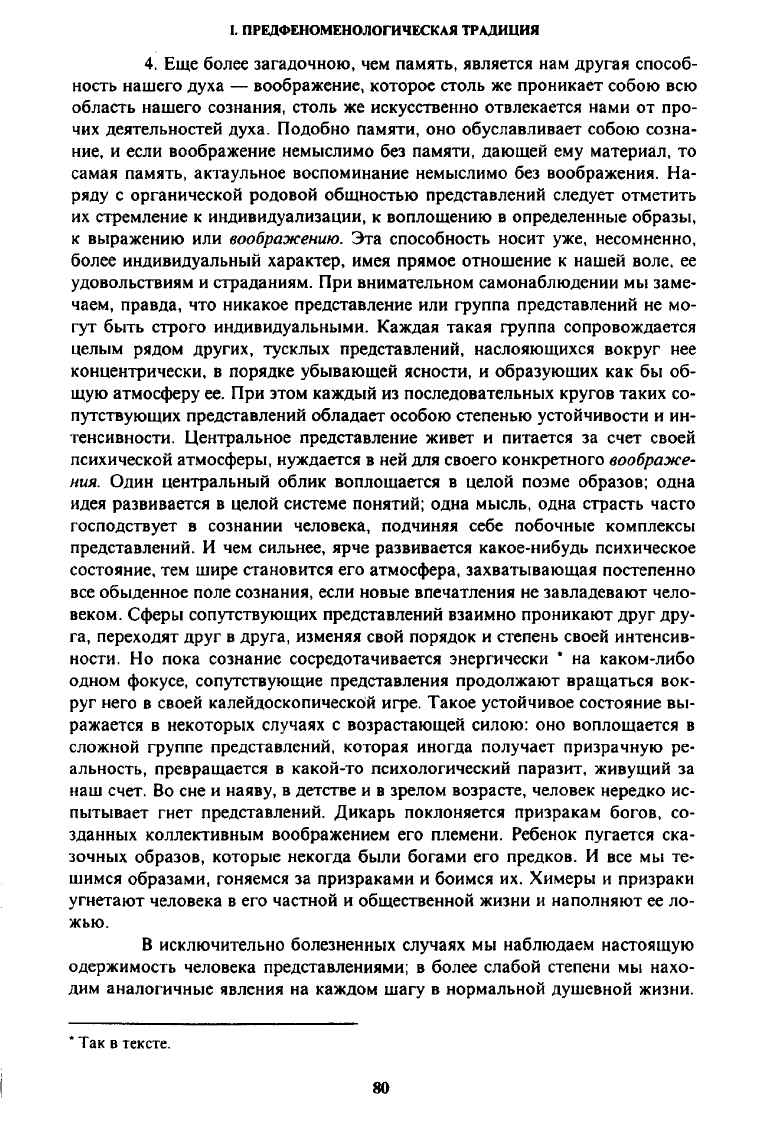
I.
ПРВДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКЛЯ
ТРАДИЦИЯ
4. Еще более загадочною, чем память, является нам
другая
способ-
ность нашего
духа
— воображение, которое столь же проникает собою всю
область нашего сознания, столь же искусственно отвлекается нами от про-
чих деятельностей
духа.
Подобно памяти, оно обуславливает собою созна-
ние,
и если воображение немыслимо без памяти, дающей ему материал, то
самая память, актаульное воспоминание немыслимо без воображения. На-
ряду с органической родовой общностью представлений
следует
отметить
их стремление к индивидуализации, к воплощению в определенные образы,
к
выражению или
воображению.
Эта способность носит уже, несомненно,
более индивидуальный характер, имея прямое отношение к нашей воле, ее
удовольствиям и страданиям. При внимательном самонаблюдении мы заме-
чаем, правда, что никакое представление или группа представлений не мо-
гут быть строго индивидуальными. Каждая такая группа сопровождается
целым рядом
других,
тусклых
представлений, наслояющихся вокруг нее
концентрически,
в порядке убывающей ясности, и образующих как бы об-
щую атмосферу ее. При этом каждый из последовательных кругов таких со-
путствующих
представлений
обладает
особою степенью устойчивости и ин-
тенсивности. Центральное представление живет и питается за
счет
своей
психической атмосферы, нуждается в ней для своего конкретного
воображе-
ния. Один центральный облик воплощаегся в целой поэме образов; одна
идея развивается в целой системе понятий; одна мысль, одна страсть часто
господствует
в сознании человека, подчиняя себе побочные комплексы
представлений. И чем сильнее, ярче развивается какое-нибудь психическое
состояние,
тем шире становится его атмосфера, захватывающая постепенно
все обыденное поле
сознания,
если новые впечатления не завладевают чело-
веком. Сферы
сопутствующих
представлений взаимно проникают
друг
дру-
га, переходят
друг
в
друга,
изменяя свой порядок и степень своей интенсив-
ности.
Но пока сознание сосредотачивается энергически * на каком-либо
одном фокусе, сопутствующие представления продолжают вращаться вок-
руг него в своей калейдоскопической игре. Такое устойчивое состояние вы-
ражается в некоторых
случаях
с возрастающей силою: оно воплощается в
сложной группе представлений, которая иногда
получает
призрачную ре-
альность, превращается в какой-то психологический паразит, живущий за
наш
счет. Во сне и наяву, в
детстве
и в зрелом возрасте, человек нередко ис-
пытывает гнет представлений. Дикарь поклоняется призракам богов, со-
зданных коллективным воображением его племени. Ребенок пугается ска-
зочных образов, которые некогда были богами его предков. И все мы те-
шимся
образами, гоняемся за призраками и боимся их. Химеры и призраки
угнетают
человека в его частной и общественной жизни и наполняют ее ло-
жью.
В исключительно болезненных
случаях
мы наблюдаем настоящую
одержимость человека представлениями; в более слабой степени мы нахо-
дим аналогичные явления на каждом
шагу
в нормальной душевной жизни.
* Так
в
тексте.
80
