Чубаров И.М. (ред., сост.) Антология феноменологической философии в России
Подождите немного. Документ загружается.

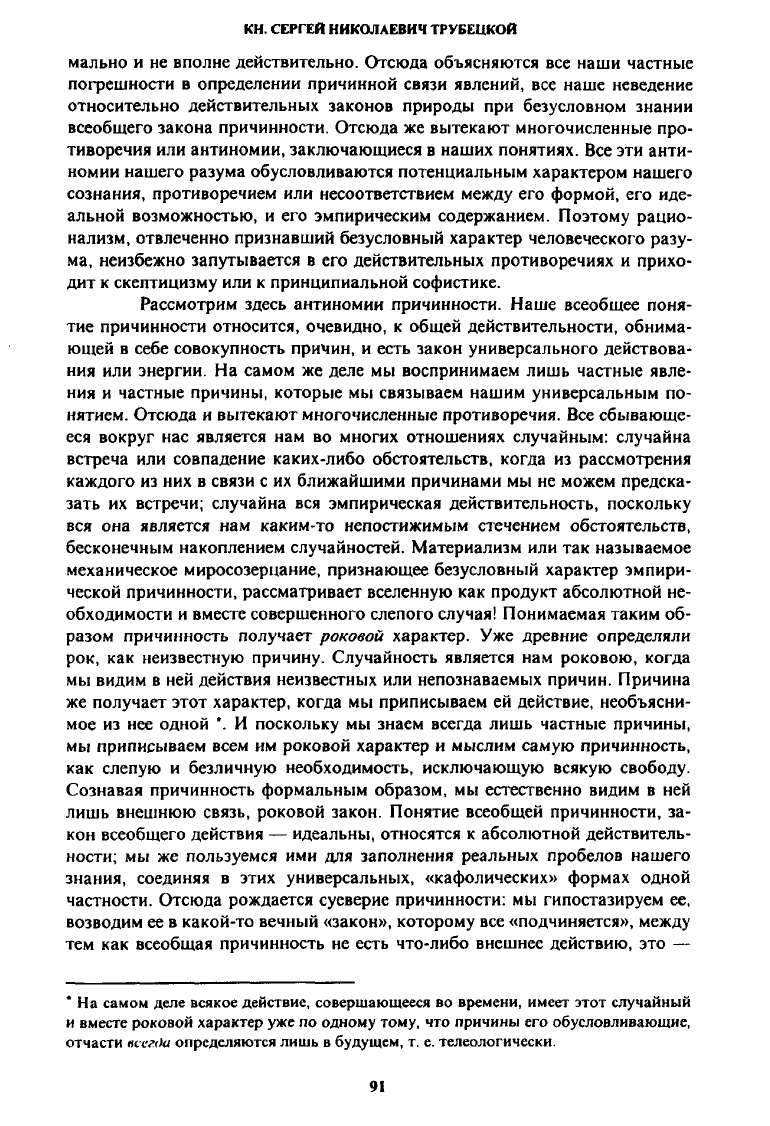
КН.
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ТРУБЕЦКОЙ
мально и не вполне действительно.
Отсюда
объясняются все наши частные
погрешности в определении причинной связи явлений, все наше неведение
относительно действительных законов природы при безусловном знании
всеобшего закона причинности.
Отсюда
же вытекают многочисленные про-
тиворечия или антиномии, заключающиеся в наших понятиях. Все эти анти-
номии
нашего разума обусловливаются потенциальным характером нашего
сознания,
противоречием или несоответствием
между
его формой, его иде-
альной возможностью, и его эмпирическим содержанием. Поэтому рацио-
нализм,
отвлеченно признавший безусловный характер человеческого
разу-
ма, неизбежно запутывается в его действительных противоречиях и прихо-
дит к скептицизму или к принципиальной софистике.
Рассмотрим здесь антиномии причинности. Наше всеобщее поня-
тие причинности относится, очевидно, к общей действительности, обнима-
ющей в себе совокупность причин, и есть закон универсального действова-
ния
или энергии. На самом же
деле
мы воспринимаем лишь частные явле-
ния
и частные причины, которые мы связываем нашим универсальным по-
нятием.
Отсюда
и вытекают многочисленные противоречия. Все сбывающе-
еся вокруг нас является нам во многих отношениях случайным: случайна
встреча или совпадение каких-либо обстоятельств, когда из рассмотрения
каждого из них в связи с их ближайшими причинами мы не можем предска-
зать их встречи; случайна вся эмпирическая действительность, поскольку
вся она является нам каким-то непостижимым стечением обстоятельств,
бесконечным накоплением случайностей. Материализм или так называемое
механическое миросозерцание, признающее безусловный характер эмпири-
ческой причинности, рассматривает вселенную как продукт абсолютной не-
обходимости и вместе совершенного слепого случая! Понимаемая таким об-
разом причинность
получает
роковой
характер. Уже древние определяли
рок,
как неизвестную причину. Случайность является нам роковою, когда
мы видим в ней действия неизвестных или непознаваемых причин. Причина
же
получает
этот характер, когда мы приписываем ей действие, необъясни-
мое из нее одной *. И поскольку мы знаем
всегда
лишь частные причины,
мы приписываем всем им роковой характер и мыслим
самую
причинность,
как
слепую
и безличную необходимость, исключающую всякую
свободу.
Сознавая
причинность формальным образом, мы естественно видим в ней
лишь внешнюю связь, роковой закон. Понятие всеобщей причинности, за-
кон
всеобщего действия — идеальны, относятся к абсолютной действитель-
ности;
мы же пользуемся ими для заполнения реальных пробелов нашего
знания,
соединяя в этих универсальных, «кафолических» формах одной
частности.
Отсюда
рождается суеверие причинности: мы гипостазируем ее,
возводим ее в какой-то вечный «закон», которому все «подчиняется»,
между
тем как всеобщая причинность не есть что-либо внешнее действию, это —
* На самом
деле
всякое
действие,
совершающееся во времени, имеет этот случайный
и
вместе
роковой
характер уже
по
одному тому, что
причины
его обусловливающие,
отчасти
всегои
определяются лишь
в
будущем,
т.
е.
телеологически.
91
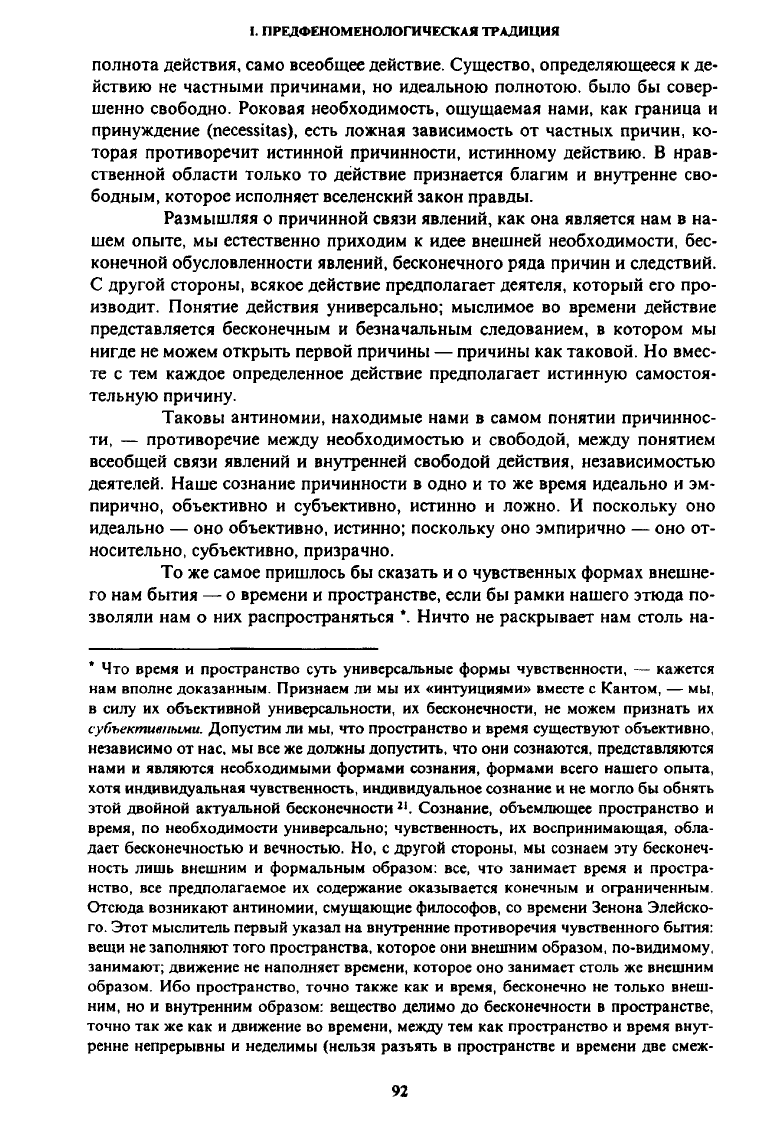
I.
ПРЕДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ
полнота действия, само всеобщее действие. Существо, определяющееся к де-
йствию не частными причинами, но идеальною полнотою, было бы совер-
шенно
свободно. Роковая необходимость, ощущаемая нами, как граница и
принуждение
(nécessitas),
есть ложная зависимость от частных причин, ко-
торая противоречит истинной причинности, истинному действию. В нрав-
ственной области только то действие признается благим и внутренне сво-
бодным, которое исполняет вселенский закон правды.
Размышляя
о причинной связи явлений, как она является нам в на-
шем опыте, мы естественно приходим к идее внешней необходимости, бес-
конечной
обусловленности
явлений,
бесконечного ряда причин и следствий.
С
другой
стороны, всякое действие предполагает деятеля, который его про-
изводит. Понятие действия универсально; мыслимое во времени действие
представляется бесконечным и безначальным следованием, в котором мы
нигде не можем открыть первой причины — причины как таковой. Но вмес-
те с тем каждое определенное действие предполагает истинную самостоя-
тельную
причину.
Таковы антиномии, находимые нами в самом понятии причиннос-
ти,
— противоречие
между
необходимостью и свободой,
между
понятием
всеобщей связи явлений и внутренней свободой действия, независимостью
деятелей. Наше сознание причинности в одно и то же время идеально и эм-
пирично,
объективно и субъективно, истинно и ложно. И поскольку оно
идеально — оно объективно, истинно; поскольку оно эмпирично — оно от-
носительно, субъективно, призрачно.
То же самое пришлось бы сказать и о чувственных формах внешне-
го нам бытия — о времени и пространстве, если бы рамки нашего этюда по-
зволяли нам о них распространяться *. Ничто не раскрывает нам столь на-
Что время
и
пространство
суть
универсальные формы чувственности,
—
кажется
нам
вполне доказанным. Признаем ли мы
их
«интуициями»
вместе
с Кантом,
—
мы,
в силу
их
объективной универсальности,
их
бесконечности,
не
можем признать
их
субъективными.
Допустим ли мы, что пространство и время
существуют
объективно,
независимо
от
нас,
мы все же должны
допустить,
что они сознаются, представляются
нами
и
являются необходимыми формами сознания, формами
всего
нашего опыта,
хотя
индивидуальная чувственность, индивидуальное
сознание
и
не могло бы обнять
этой двойной актуальной бесконечности
21
.
Сознание, объемлющее пространство
и
время,
по
необходимости универсально; чувственность,
их
воспринимающая, обла-
дает
бесконечностью
и
вечностью. Но,
с
другой
стороны, мы сознаем
эту
бесконеч-
ность лишь внешним
и
формальным образом:
все, что
занимает время
и
простра-
нство,
все
предполагаемое
их
содержание оказывается конечным
и
ограниченным.
Отсюда
возникают
антиномии,
смущающие
философов,
со времени Зенона Элейско·
го. Этот мыслитель первый указал на внутренние противоречия чувственного бытия:
вещи
не
заполняют
того
пространства, которое они внешним образом, по-видимому,
занимают; движение не наполняет времени, которое оно занимает столь же внешним
образом. Ибо пространство, точно также как
и
время, бесконечно не только внеш-
ним,
но
и
внутренним образом: вещество делимо
до
бесконечности
в
пространстве,
точно так же как и движение во времени,
между
тем как пространство и время
внут-
ренне непрерывны
и
неделимы (нельзя разъять
в
пространстве
и
времени
две
смеж-
92
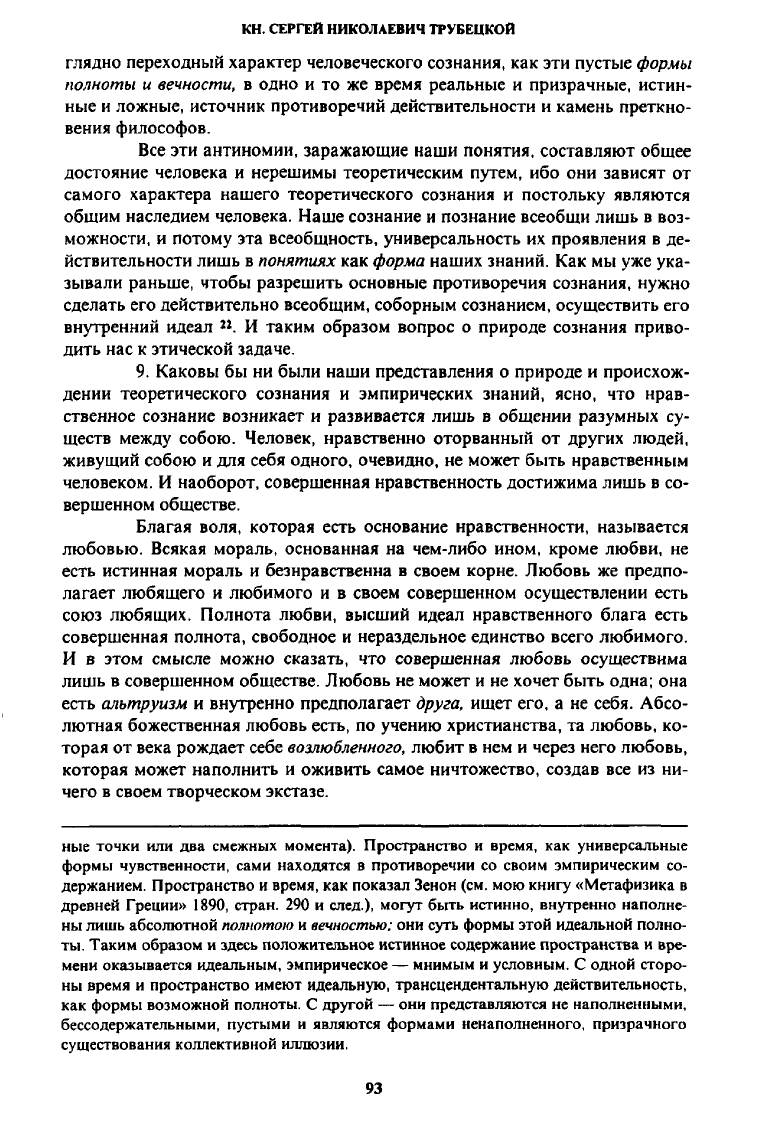
КН.
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ТРУБЕЦКОЙ
глядно переходный характер человеческого
сознания,
как эти пустые
формы
полноты
и
вечности,
в одно и то же время реальные и призрачные, истин-
ные и ложные, источник противоречий действительности и камень преткно-
вения
философов.
Все эти антиномии, заражающие наши понятия, составляют общее
достояние человека и нерешимы теоретическим путем, ибо они зависят от
самого характера нашего теоретического сознания и постольку являются
общим наследием человека. Наше сознание и познание всеобщи лишь в воз-
можности, и потому эта всеобщность, универсальность их проявления в де-
йствительности лишь в
понятиях
как
форма
наших
знаний.
Как мы уже ука-
зывали раньше, чтобы разрешить основные противоречия сознания, нужно
сделать его действительно всеобщим, соборным сознанием, осуществить его
внутренний идеал
п
. И таким образом вопрос о природе сознания приво-
дить нас к этической задаче.
9. Каковы бы ни были наши представления о природе и происхож-
дении теоретического сознания и эмпирических знаний, ясно, что нрав-
ственное сознание возникает и развивается лишь в общении разумных су-
ществ
между
собою. Человек, нравственно оторванный от
других
людей,
живущий собою и для себя одного, очевидно, не может быть нравственным
человеком. И наоборот, совершенная нравственность достижима лишь в со-
вершенном обществе.
Благая воля, которая есть основание нравственности, называется
любовью. Всякая мораль, основанная на чем-либо ином, кроме любви, не
есть истинная мораль и безнравственна в своем корне. Любовь же предпо-
лагает
любящего и любимого и в своем совершенном осуществлении есть
союз любящих. Полнота любви, высший идеал нравственного
блага
есть
совершенная полнота, свободное и нераздельное единство всего любимого.
И
в этом смысле можно сказать, что совершенная любовь осуществима
лишь в совершенном обществе. Любовь не может и не
хочет
быть одна; она
есть
альтруизм
и внутренно предполагает
друга,
ищет его, а не себя.
Абсо-
лютная божественная любовь есть, по учению христианства, та любовь, ко-
торая от века
рождает
себе
возлюбленного,
любит в нем и через него любовь,
которая может наполнить и оживить самое ничтожество, создав все из ни-
чего
в своем творческом экстазе.
ные точки
или два
смежных момента). Пространство
и
время,
как
универсальные
формы чувственности, сами находятся
в
противоречии
со
своим эмпирическим
со-
держанием. Пространство и время, как показал
Зенон
(см.
мою книгу «Метафизика
в
древней
Греции»
1890, стран.
290 и
след.),
могут
быть истинно, внутренно наполне-
ны
лишь абсолютной
полнотою
и
вечностью;
они
суть
формы этой идеальной полно-
ты. Таким образом и здесь положительное истинное содержание пространства и вре-
мени
оказывается идеальным, эмпирическое
—
мнимым и условным. С одной сторо-
ны
время
и
пространство имеют идеальную, трансцендентальную действительность,
как
формы возможной полноты. С
другой
—
они представляются не наполненными,
бессодержательными, пустыми
и
являются формами ненаполненного, призрачного
существования коллективной иллюзии.
93
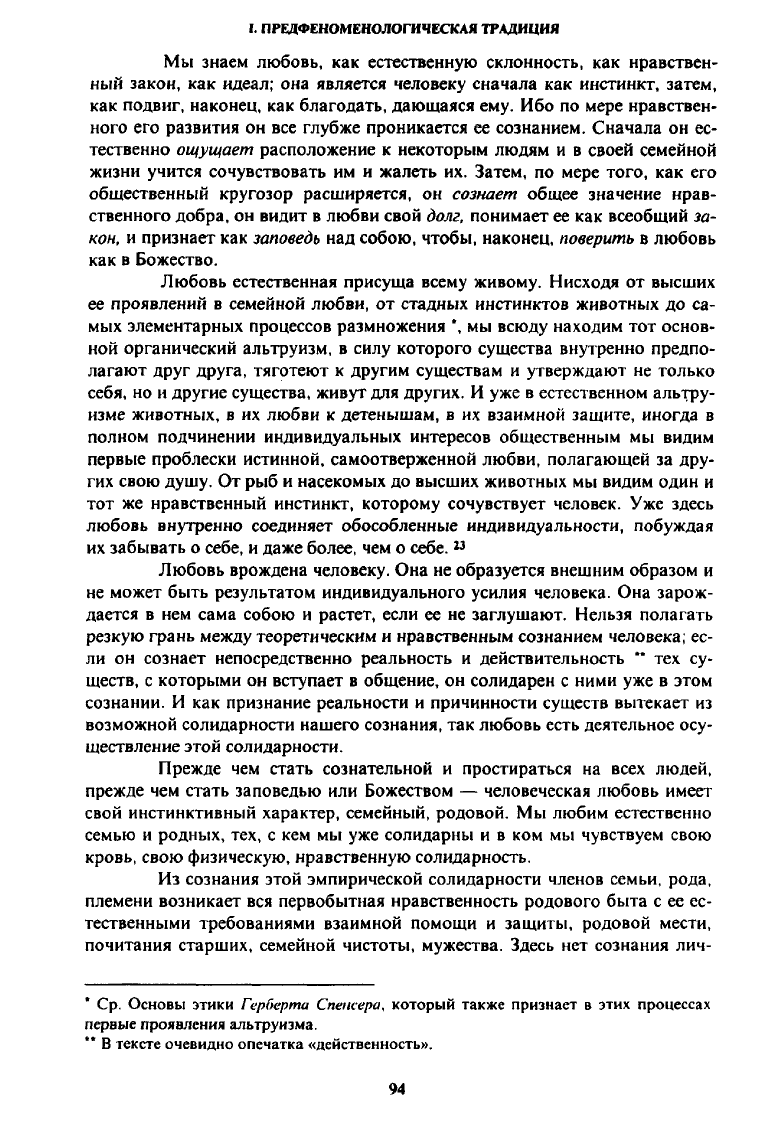
I.
ПРЕДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ
Мы
знаем любовь, как естественную склонность, как нравствен-
ный
закон, как идеал; она является человеку сначала как инстинкт, затем,
как
подвиг, наконец, как благодать, дающаяся ему. Ибо по мере нравствен-
ного его развития он все
глубже
проникается ее сознанием. Сначала он ес-
тественно
ощущает
расположение к некоторым людям и в своей семейной
жизни
учится сочувствовать им и жалеть их. Затем, по мере того, как его
общественный кругозор расширяется, он
сознает
общее значение нрав-
ственного добра, он видит в любви свой
долг,
понимает ее как всеобщий за-
кон, и признает как
заповедь
над собою, чтобы, наконец,
поверить
в любовь
как
в Божество.
Любовь естественная присуща всему живому. Нисходя от высших
ее проявлений в семейной любви, от стадных инстинктов животных до са-
мых элементарных процессов размножения *, мы
всюду
находим тот основ-
ной
органический альтруизм, в силу которого существа внутренно предпо-
лагают
друг
друга,
тяготеют к другим существам и
утверждают
не только
себя, но и
другие
существа, живут для
других.
И уже в естественном
альтру-
изме животных, в их любви к детенышам, в их взаимной защите, иногда в
полном подчинении индивидуальных интересов общественным мы видим
первые проблески истинной, самоотверженной любви, полагающей за дру-
гих свою
душу.
От рыб и насекомых до высших животных мы видим один и
тот же нравственный инстинкт, которому
сочувствует
человек. Уже здесь
любовь внутренно соединяет обособленные индивидуальности, побуждая
их забывать о себе, и даже более, чем о себе.
23
Любовь врождена человеку. Она не образуется внешним образом и
не
может быть результатом индивидуального усилия человека. Она зарож-
дается в нем сама собою и растет, если ее не заглушают. Нельзя полагать
резкую грань
между
теоретическим и нравственным сознанием человека; ес-
ли он сознает непосредственно реальность и действительность ** тех су-
ществ, с которыми он вступает в общение, он солидарен с ними уже в этом
сознании.
И как признание реальности и причинности существ вытекает из
возможной солидарности нашего
сознания,
так любовь есть деятельное осу-
ществление этой солидарности.
Прежде чем стать сознательной и простираться на всех людей,
прежде чем стать заповедью или Божеством — человеческая любовь имеет
свой инстинктивный характер, семейный, родовой. Мы любим естественно
семью и родных, тех, с кем мы уже солидарны и в ком мы
чувствуем
свою
кровь,
свою физическую, нравственную солидарность.
Из
сознания этой эмпирической солидарности членов семьи, рода,
племени возникает вся первобытная нравственность родового быта с ее ес-
тественными требованиями взаимной помощи и защиты, родовой мести,
почитания
старших, семейной чистоты, мужества. Здесь нет сознания лич-
* Ср. Основы
этики
Герберта
Спенсера,
который также признает в этих процессах
первые
проявления
альтруизма.
**
В
тексте очевидно опечатка «действенность».
94
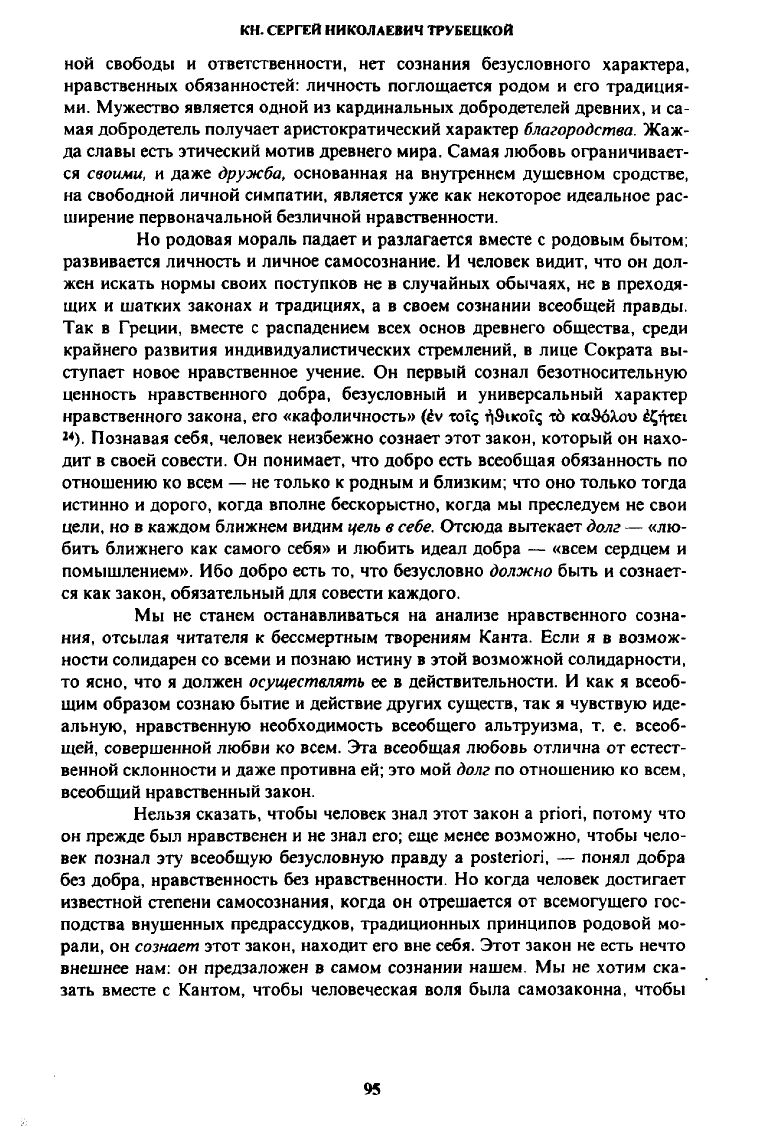
КН.
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ТРУБЕЦКОЙ
ной
свободы и ответственности, нет сознания безусловного характера,
нравственных обязанностей: личность поглощается родом и его традиция-
ми.
Мужество является одной из кардинальных добродетелей древних, и са-
мая добродетель
получает
аристократический характер
благородства.
Жаж-
да славы есть этический мотив древнего мира. Самая любовь ограничивает-
ся
своими,
и
даже
дружба,
основанная на внутреннем душевном сродстве,
на
свободной личной симпатии, является уже как некоторое идеальное рас-
ширение первоначальной безличной нравственности.
Но
родовая мораль падает и разлагается вместе с родовым бытом;
развивается личность и личное самосознание. И человек видит, что он дол-
жен искать нормы своих поступков не в случайных обычаях, не в преходя-
щих и шатких законах и традициях, а в своем сознании всеобщей правды.
Так
в Греции, вместе с распадением
всех
основ древнего общества, среди
крайнего развития индивидуалистических стремлений, в лице Сократа вы-
ступает
новое нравственное учение. Он первый сознал безотносительную
ценность нравственного добра, безусловный и универсальный характер
нравственного закона, его «кафоличность» (év
τοις
ήθικοίς
τό καθόλου
έζήτει
м
).
Познавая себя, человек неизбежно сознает этот закон, который он нахо-
дит в своей совести. Он понимает, что добро есть всеобщая обязанность по
отношению ко всем — не только к родным и близким; что оно только
тогда
истинно
и дорого, когда вполне бескорыстно, когда мы преследуем не свои
цели,
но в каждом ближнем видим
цель
в
себе.
Отсюда
вытекает
долг
— «лю-
бить ближнего как самого
себя»
и любить идеал добра —
«всем
сердцем и
помышлением». Ибо добро есть то, что безусловно
должно
быть и сознает-
ся
как
закон,
обязательный для совести каждого.
Мы
не станем останавливаться на анализе нравственного созна-
ния,
отсылая читателя к бессмертным творениям Канта. Если я в возмож-
ности солидарен со всеми и познаю истину в этой возможной солидарности,
то
ясно,
что я должен
осуществлять
ее в действительности. И как я всеоб-
щим
образом сознаю бытие и действие
других
существ, так я
чувствую
иде-
альную, нравственную необходимость всеобщего альтруизма, т. е. всеоб-
щей,
совершенной любви ко всем. Эта всеобщая любовь отлична от естест-
венной
склонности и
даже
противна ей; это мой
долг
по отношению ко всем,
всеобщий нравственный закон.
Нельзя
сказать, чтобы человек знал этот закон a priori, потому что
он
прежде был нравственен и не знал его; еще менее возможно, чтобы чело-
век
познал эту всеобщую
безусловную
правду a posteriori, — понял добра
без добра, нравственность без нравственности. Но когда человек достигает
известной степени самосознания, когда он отрешается от всемогущего гос-
подства внушенных предрассудков, традиционных принципов родовой мо-
рали, он
сознает
этот закон, находит его вне себя. Этот закон не есть нечто
внешнее нам: он предзаложен в самом сознании нашем. Мы не хотим ска-
зать вместе с Кантом, чтобы человеческая воля была самозаконна, чтобы
95
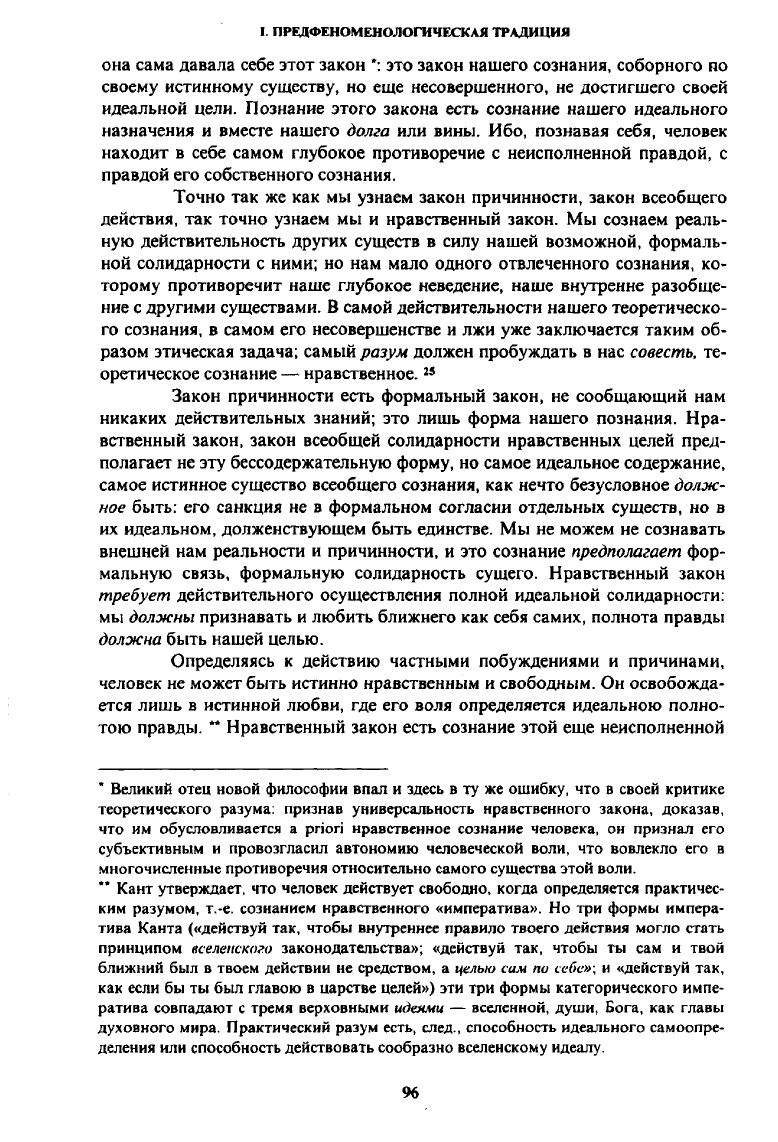
I.
ПРЕДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ
она
сама давала себе этот закон *: это закон нашего
сознания,
соборного по
своему истинному
существу,
но еще несовершенного, не достигшего своей
идеальной цели. Познание этого закона есть сознание нашего идеального
назначения
и вместе нашего
долга
или вины. Ибо, познавая себя, человек
находит в себе самом глубокое противоречие с неисполненной правдой, с
правдой его собственного сознания.
Точно так же как мы узнаем закон причинности, закон всеобщего
действия, так точно узнаем мы и нравственный закон. Мы сознаем реаль-
ную действительность
других
существ в силу нашей возможной, формаль-
ной
солидарности с ними; но нам мало одного отвлеченного сознания, ко-
торому противоречит наше глубокое неведение, наше внутренне разобще-
ние
с другими существами. В самой действительности нашего теоретическо-
го сознания, в самом его несовершенстве и лжи уже заключается таким об-
разом этическая задача; самый
разум
должен пробуждать в нас
совесть,
те-
оретическое сознание — нравственное.
25
Закон
причинности есть формальный закон, не сообщающий нам
никаких
действительных знаний; это лишь форма нашего познания. Нра-
вственный закон, закон всеобщей солидарности нравственных целей пред-
полагает не эту бессодержательную форму, но самое идеальное содержание,
самое истинное существо всеобщего
сознания,
как нечто безусловное
долж-
ное быть: его санкция не в формальном согласии отдельных существ, но в
их идеальном, долженствующем быть единстве. Мы не можем не сознавать
внешней
нам реальности и причинности, и это сознание
предполагает
фор-
мальную связь, формальную солидарность сущего. Нравственный закон
требует
действительного осуществления полной идеальной солидарности:
мы
должны
признавать и любить ближнего как себя самих, полнота правды
должна
быть нашей целью.
Определяясь к действию частными побуждениями и причинами,
человек не может быть истинно нравственным и свободным. Он освобожда-
ется лишь в истинной любви, где его воля определяется идеальною полно-
тою правды. ** Нравственный закон есть сознание этой еще неисполненной
*
Великий отец новой философии впал и здесь
в ту же
ошибку,
что в
своей критике
теоретического разума: признав универсальность нравственного закона, доказав,
что
им
обусловливается
a
priori нравственное сознание человека,
он
признал
его
субъективным
и
провозгласил автономию человеческой воли,
что
вовлекло
его в
многочисленные
противоречия относительно самого существа этой воли.
**
Кант
утверждает,
что
человек
действует
свободно, когда определяется практичес-
ким
разумом, т.-е. сознанием нравственного «императива». Но
три
формы импера-
тива Канта
(«действуй
так, чтобы внутреннее правило твоего действия могло стать
принципом
вселенского
законодательства»;
«действуй
так,
чтобы
ты сам и
твой
ближний
был
в
твоем действии не средством,
а
целью
сим
по
себе»;
и
«действуй
так,
как
если бы
ты
был главою
в
царстве целей») эти три формы категорического импе-
ратива совпадают
с
тремя верховными
идеями
—
вселенной, души, Бога,
как
главы
духовного
мира. Практический разум есть, след., способность идеального самоопре-
деления или способность действовать сообразно вселенскому
идеалу.

КН.
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ТРУБЕЦКОЙ
правды, сознание долга перед самим собой, перед всем существующим,
пе-
ред самою Высшею Правдой. Этот закон,
в
одно
и то же
время внутренне
присущий человеку
и
внешний
ему,
живет
в
человеке
и
судит
его.
И чем
глубже
входит человек
в
свою совесть, тем больше проникается он благого-
вением перед идеальным содержанием этого закона
и
сознает все свое несо-
ответствие,
все
свое противоречие
с
ним
— во
всяком деле, внешнем
или
внутреннем,
во
всяком отношении. Он не может уйти
от
закона, удовлетво-
рить ему каким бы
то
ни было подвигом. И чем
глубже
сознает человек зло
своей природы, тем сильнее в нем потребность к оправданию, искуплению и
примирению
с
Высшей Правдой. Вместе
с тем он
сознает,
что
конечного
примирения
и
оправдания он не может достигнуть
сам
собою, ибо он
дол-
жен искать его лишь
в
совершенной
любви.
Только совершенная любовь мо-
жет оправдать человека, полнота всеобъемлющей любви.
Но эта
любовь,
полная
и совершенная, заключающая
в
себе больше, чем все не есть природ-
ный
инстинкт человека или личный подвиг его воли,
а
благодать,
независи-
мая
от
него и вместе дающаяся ему.
Мы
не
можем
и не
хотим доказывать
эту
благодать умозрением:
она
не принимает внешнего свидетельства. Но таков,
во
всяком случае,
ис-
торический
ход
нравственного развития: любовь,
как
инстинкт, есть
эмпи-
рический факт; любовь, как благодать, есть высший религиозный идеал
че-
ловека, предмет нашей веры.
м
Когда человек сознал свой
грех,
когда
он
осудил себя перед законом своей совести, перед высшим идеалом вселен-
ской
правды, он жаждет оправдания. И
так
как он не может оправдаться
и
освятиться своими личными подвигами
и
делами,
ему
остается поверить
в
любовь,
поверить
совершенной,
всепрощающей
любви,
которая искупляет и
примиряет нас с собою. Самая эта вера есть уже дело любви и вместе созна-
ется верующими, как явление благодати. Вера есть не легкое,
а
трудное
де-
ло.
Если истинно веруешь
в
совершенную любовь,
то
нельзя не любить
на
деле, иначе веры нет. Совершенная любовь есть единство всех
в
одном,
сознание
всех
в
себе
и
себя
во
всех.
Но такая совершенная, божественная
Любовь не может быть осуществима
в
каком-либо естественном человечес-
ком
союзе: царство
ее
не
от
мира, она предполагает
совершенное
общество,
богочеловеческий союз или
Церковь.
Поверив
в
Любовь
и в ее
искупление,
мы должны любить вместе
с
нею. Сознав ее конечную цель, мы должны
ра-
ботать над этой целью, достигаемою
в
нас, над строением совершенного бо-
гочеловеческого общества.
И
если всякое доброе дело приближает
нас к
этой
цели,
то
познание универсальной цели человечества, предзаложенной
в
самом
его
сознании, ставит нам общественную задачу и приводит нас
к ве-
ликому вопросу о совершенном обществе.
27
4
—
2829
97
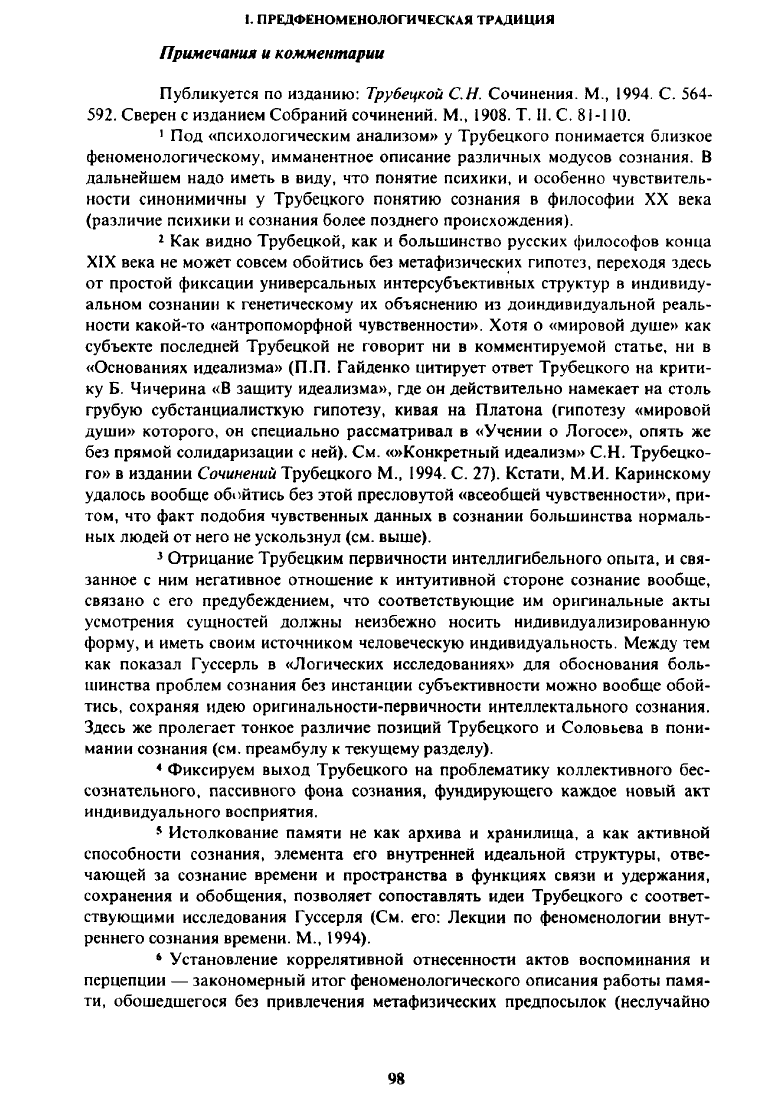
I.
ПРЕДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ
Примечания
и
комментарии
Публикуется по изданию:
Трубецкой
С.Н. Сочинения. М., 1994. С. 564-
592. Сверен с изданием Собраний сочинений. М., 1908. Т.
II.
С.
81-110.
1
Под «психологическим анализом» у Трубецкого понимается близкое
феноменологическому, имманентное описание различных модусов сознания. В
дальнейшем надо иметь в
виду,
что понятие психики, и особенно чувствитель-
ности синонимичны у Трубецкого понятию сознания в философии XX века
(различие психики и сознания более позднего происхождения).
2
Как видно Трубецкой, как и большинство русских философов конца
XIX века не может совсем обойтись без метафизических гипотез, переходя здесь
от простой фиксации универсальных интерсубъективных
структур
в индивиду-
альном сознании к генетическому их объяснению из доиндивидуальной реаль-
ности какой-то «антропоморфной чувственности». Хотя о «мировой
душе»
как
субъекте
последней Трубецкой не говорит ни в комментируемой статье, ни в
«Основаниях идеализма» (П.П. Гайденко цитирует ответ Трубецкого на крити-
ку Б. Чичерина «В защиту идеализма», где он действительно намекает на столь
грубую
субстанциалисткую гипотезу, кивая на Платона (гипотезу «мировой
души»
которого, он специально рассматривал в «Учении о
Логосе»,
опять же
без прямой солидаризации с ней). См. «»Конкретный идеализм» С.Н. Трубецко-
го» в издании
Сочинений
Трубецкого М., 1994. С. 27). Кстати, М.И. Карийскому
удалось
вообще обойтись без этой пресловутой «всеобщей чувственности», при-
том, что факт подобия чувственных данных в сознании большинства нормаль-
ных людей от него не ускользнул (см. выше).
1
Отрицание Трубецким первичности интеллигибельного опыта, и свя-
занное
с ним негативное отношение к интуитивной стороне сознание вообще,
связано
с его предубеждением, что соответствующие им оригинальные акты
усмотрения сущностей должны неизбежно носить индивидуализированную
форму, и иметь своим источником человеческую индивидуальность. Между тем
как
показал Гуссерль в «Логических исследованиях» для обоснования боль-
шинства проблем сознания без инстанции субъективности можно вообще обой-
тись, сохраняя идею оригинальности-первичности интеллектального сознания.
Здесь же пролегает тонкое различие позиций Трубецкого и Соловьева в пони-
мании
сознания (см. преамбулу к текущему разделу).
4
Фиксируем
выход
Трубецкого на проблематику коллективного бес-
сознательного, пассивного фона сознания, фундирующего каждое новый акт
индивидуального восприятия.
5
Истолкование памяти не как архива и хранилища, а как активной
способности сознания, элемента его внутренней идеальной структуры, отве-
чающей за сознание времени и пространства в функциях связи и удержания,
сохранения и обобщения, позволяет сопоставлять идеи Трубецкого с соответ-
ствующими исследования Гуссерля (См. его: Лекции по феноменологии внут-
реннего сознания времени. М.,
1994).
6
Установление коррелятивной отнесенности актов воспоминания и
перцепции
— закономерный итог феноменологического описания работы памя-
ти,
обошедшегося без привлечения метафизических предпосылок (неслучайно
98
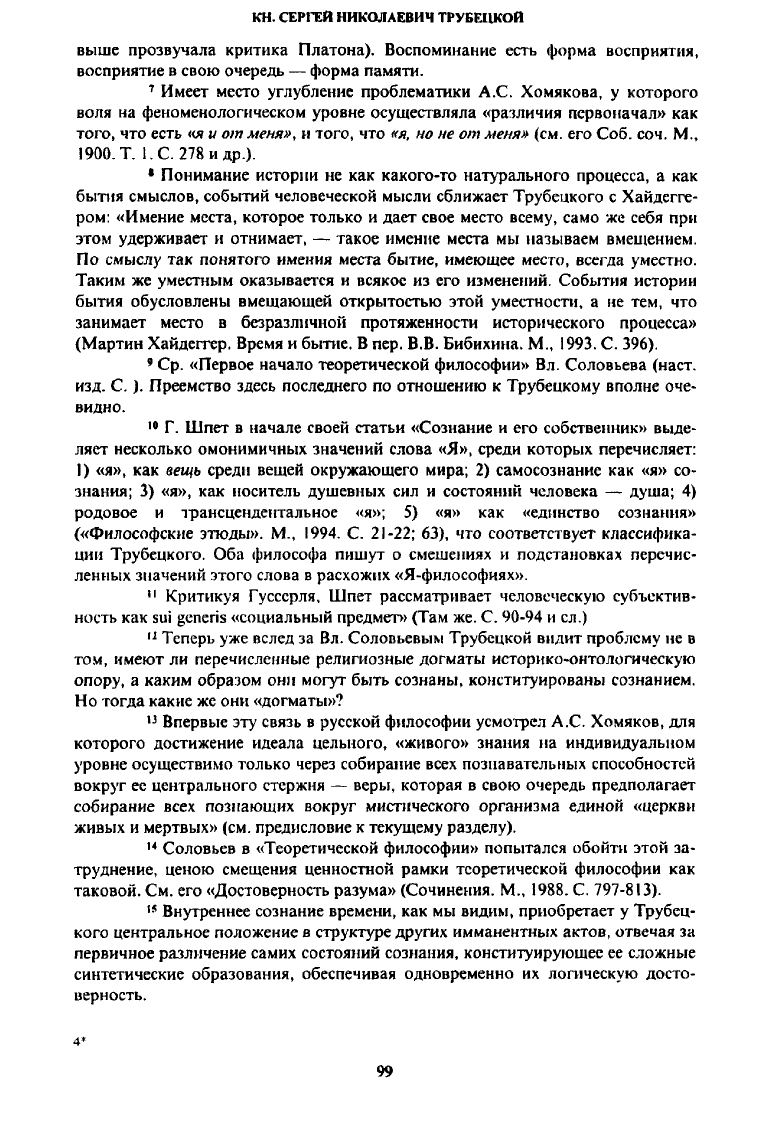
КН.
СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ТРУБЕЦКОЙ
выше прозвучала критика Платона). Воспоминание есть форма восприятия,
восприятие
в свою очередь — форма памяти.
7
Имеет место углубление проблематики A.C. Хомякова, у которого
воля
на феноменологическом уровне осуществляла «различия первоначал» как
того, что есть «я и от
меня»,
и того, что «я, но не от
меня»
(см. его Соб. соч. М.,
1900. Т. 1.С. 278
и
др.).
•
Понимание истории не как какого-то натурального процесса, а как
бытия
смыслов, событий человеческой мысли сближает Трубецкого с Хайдегге-
ром:
«Имение места, которое только и
дает
свое место всему, само же себя при
этом
удерживает и отнимает, — такое имение места мы называем вмещением.
По
смыслу так понятого имения места бытие, имеющее место, всегда уместно.
Таким
же уместным оказывается и всякое из его изменений. События истории
бытия
обусловлены вмещающей открытостью этой уместности, а не тем, что
занимает
место в безразличной протяженности исторического процесса»
(Мартин
Хайдеггер. Время и бытие. В пер. В.В. Бибихина. М., 1993. С. 396).
'
Ср. «Первое начало теоретической философии» Вл. Соловьева (наст,
изд.
С. ). Преемство здесь последнего по отношению к Трубецкому вполне оче-
видно.
10
Г. Шпет в начале своей статьи «Сознание и его собственник» выде-
ляет несколько омонимичных значений слова «Я», среди которых перечисляет:
1) «я», как
вещь
среди вещей окружающего мира; 2) самосознание как «я» со-
знания;
3) «я», как носитель душевных сил и состояний человека — душа; 4)
родовое и
1рансцен
дентальное «я»; 5) «я» как «единство сознания»
(«Философские
этюды». М., 1994. С.
21-22;
63), что соответствует классифика-
ции
Трубецкого. Оба философа пишут о смешениях и подстановках перечис-
ленных значений этого слова в расхожих «Я-философиях».
11
Критикуя Гуссерля, Шпет рассматривает человеческую субъектив-
ность
как sui
generis
«социальный предмет» (Там же. С.
90-94
и ел.)
12
Теперь уже вслед за Вл. Соловьевым Трубецкой видит проблему не в
том,
имеют ли перечисленные религиозные догматы историко-онтологическую
опору, а каким образом они
могут
быть сознаны, конституированы сознанием.
Но
тогда какие же они
«догматы»?
13
Впервые эту связь в русской философии усмотрел A.C. Хомяков, для
которого достижение идеала цельного,
«живого»
знания на индивидуальном
уровне осуществимо только через собирание всех познавательных способностей
вокруг ее центрального стержня — веры, которая в свою очередь предполагает
собирание
всех познающих вокруг мистического организма единой «церкви
живых и
мертвых»
(см. предисловие к текущему разделу).
14
Соловьев в «Теоретической философии» попытался обойти этой за-
труднение, ценою смещения ценностной рамки теоретической философии как
таковой.
См. его «Достоверность
разума»
(Сочинения.
М., 1988. С.
797-813).
15
Внутреннее сознание времени, как мы видим, приобретает у Трубец-
кого
центральное положение в структуре
других
имманентных актов, отвечая за
первичное
различение самих состояний
сознания,
конституирующее ее сложные
синтетические
образования, обеспечивая одновременно их логическую досто-
верность.
99
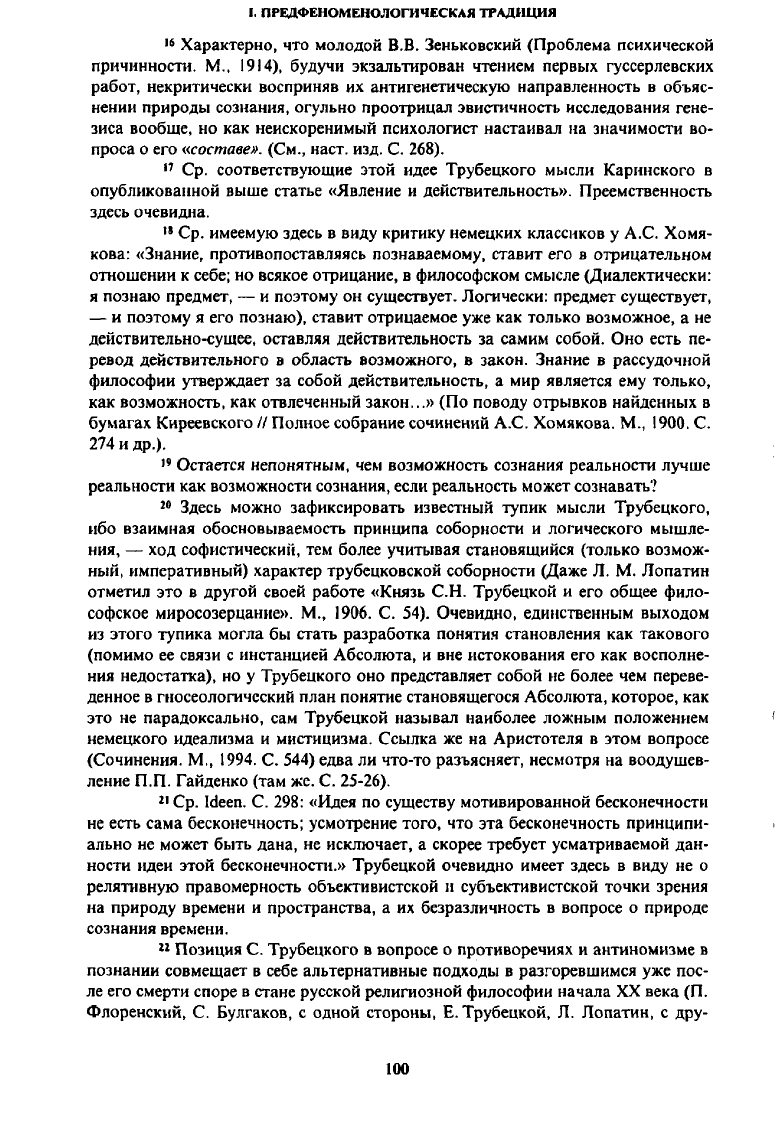
I.
ПРЕДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ
16
Характерно,
что
молодой В.В. Зеньковский (Проблема психической
причинности.
М.,
1914),
будучи
экзальтирован чтением первых гуссерлевских
работ, некритически восприняв
их
антигенетическую направленность
в
объяс-
нении
природы сознания, огульно проотрицал эвистичность исследования гене-
зиса вообще,
но как
неискоренимый психологист настаивал
на
значимости
во-
проса
о
его
«составе».
(См., наст. изд.
С.
268).
17
Ср.
соответствующие этой идее Трубецкого мысли Карийского
в
опубликованной выше
статье
«Явление
и
действительность». Преемственность
здесь очевидна.
18
Ср. имеемую здесь
в
виду
критику немецких классиков
у
A.C. Хомя-
кова: «Знание, противопоставляясь познаваемому, ставит
его в
отрицательном
отношении
к
себе;
но
всякое отрицание,
в
философском смысле (Диалектически:
я
познаю предмет,
— и
поэтому
он
существует.
Логически: предмет
существует,
— и
поэтому
я его
познаю), ставит отрицаемое
уже
как только возможное,
а не
действительно-сущее, оставляя действительность
за
самим собой. Оно есть
пе-
ревод действительного
в
область возможного,
в
закон. Знание
в
рассудочной
философии
утверждает
за
собой действительность,
а
мир является
ему
только,
как
возможность, как отвлеченный закон...» (По поводу отрывков найденных
в
бумагах
Киреевского // Полное собрание сочинений A.C. Хомякова. М., 1900.
С.
274 и др.).
19
Остается непонятным,
чем
возможность сознания реальности
лучше
реальности как возможности сознания, если реальность может сознавать?
20
Здесь можно зафиксировать известный тупик мысли Трубецкого,
ибо взаимная обосновываемость принципа соборности
и
логического мышле-
ния,
— ход
софистический,
тем
более учитывая становящийся (только возмож-
ный,
императивный) характер трубецковской соборности (Даже
Л. М.
Лопатин
отметил
это в
другой
своей работе «Князь С.Н. Трубецкой
и его
общее фило-
софское
миросозерцание».
М., 1906. С. 54).
Очевидно, единственным выходом
из
этого тупика могла
бы
стать разработка понятия становления
как
такового
(помимо
ее
связи
с
инстанцией
Абсолюта,
и
вне истокования
его
как восполне-
ния
недостатка),
но у
Трубецкого оно представляет собой
не
более
чем
переве-
денное
в
гносеологический план понятие становящегося
Абсолюта,
которое, как
это
не
парадоксально,
сам
Трубецкой называл наиболее ложным положением
немецкого идеализма
и
мистицизма. Ссылка
же на
Аристотеля
в
этом вопросе
(Сочинения.
М., 1994.
С.
544)
едва
ли
что-то разъясняет, несмотря
на
воодушев-
ление П.П. Гайденко (там же. С.
25-26).
21
Ср. Ideen.
С.
298: «Идея
по
существу
мотивированной бесконечности
не
есть сама бесконечность; усмотрение того,
что эта
бесконечность
принципи-
ально
не
может быть дана,
не
исключает,
а
скорее
требует
усматриваемой дан-
ности
идеи этой бесконечности.» Трубецкой очевидно имеет здесь
в
виду
не о
релятивную правомерность объективистской
и
субъективистской точки зрения
на
природу времени
и
пространства,
а их
безразличность
в
вопросе
о
природе
сознания
времени.
22
Позиция С. Трубецкого в вопросе о противоречиях и антиномизме в
познании
совмещает в себе альтернативные подходы в разгоревшимся уже пос-
ле его смерти споре в стане русской религиозной философии начала XX века (П.
Флоренский,
С. Булгаков, с одной стороны, Е. Трубецкой, Л. Лопатин, с дру-
100
