Чубаров И.М. (ред., сост.) Антология феноменологической философии в России
Подождите немного. Документ загружается.

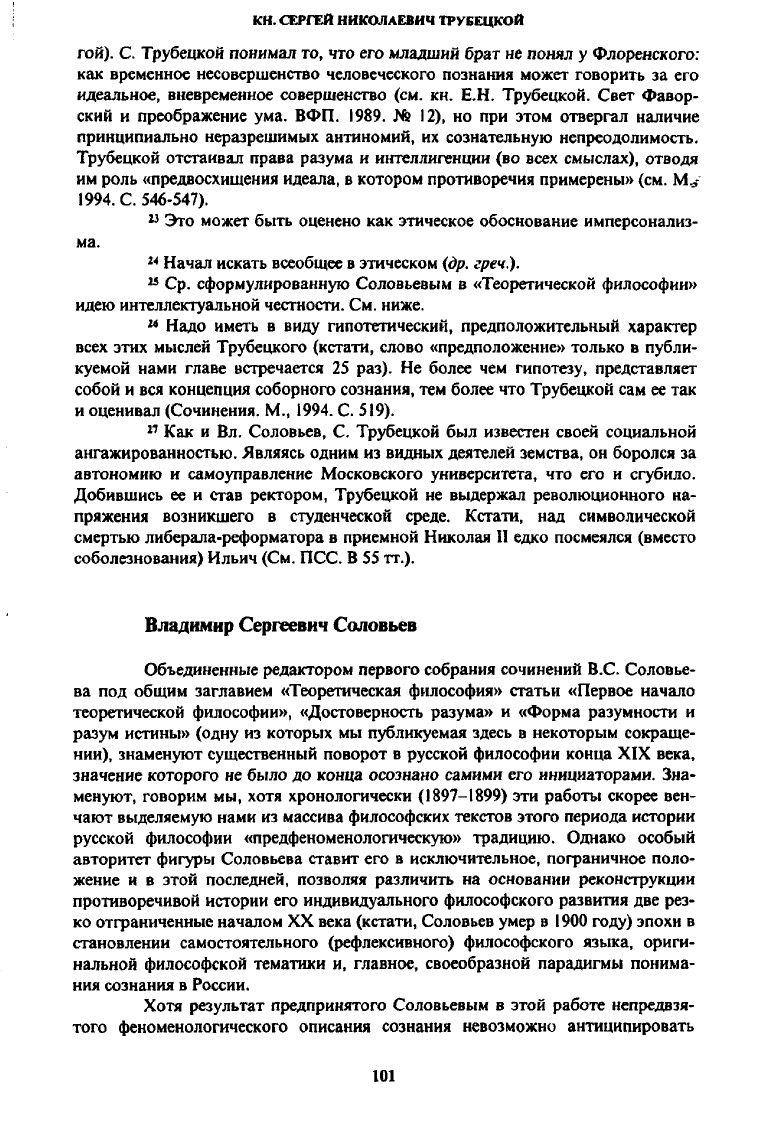
КН.
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУБЕЦКОЙ
гой).
С. Трубецкой понимал то, что его младший брат не понял
у
Флоренского:
как
временное несовершенство человеческого познания может говорить
за
его
идеальное, вневременное совершенство (см. кн. E.H. Трубецкой. Свет Фавор-
ский
и
преображение ума. ВФП. 1989.
№
12),
но
при этом отвергал наличие
принципиально
неразрешимых антиномий,
их
сознательную непреодолимость.
Трубецкой отстаивал права разума
и
интеллигенции (во
всех
смыслах), отводя
им
роль «предвосхищения идеала, в котором противоречия примерены» (см. М„
1994. С.
546-547).
23
Это может быть оценено как этическое обоснование имперсонализ-
ма.
14
Начал искать всеобщее в этическом (др.
греч.).
25
Ср. сформулированную Соловьевым
в
«Теоретической философии»
идею интеллектуальной честности. См. ниже.
26
Надо иметь
в
виду
гипотетический, предположительный характер
всех
этих мыслей Трубецкого (кстати, слово «предположение» только
в
публи-
куемой нами
главе
встречается
25
раз).
Не
более
чем
гипотезу, представляет
собой и вся концепция соборного
сознания,
тем более что Трубецкой сам ее так
и
оценивал
(Сочинения.
М., 1994. С. 519).
27
Как
и
Вл. Соловьев,
С.
Трубецкой был известен своей социальной
ангажированностью. Являясь одним из видных деятелей земства, он боролся
за
автономию
и
самоуправление Московского университета,
что его
и
сгубило.
Добившись
ее и
став ректором, Трубецкой
не
выдержал революционного
на-
пряжения
возникшего
в
студенческой среде. Кстати,
над
символической
смертью либерала-реформатора
в
приемной Николая II едко посмеялся (вместо
соболезнования) Ильич
(См.
ПСС.
В 55 тт.).
Владимир Сергеевич Соловьев
Объединенные редактором первого собрания сочинений B.C. Соловье-
ва
под
общим заглавием «Теоретическая философия» статьи «Первое начало
теоретической философии», «Достоверность
разума»
и
«Форма разумности
и
разум истины» (одну из которых мы публикуемая здесь
в
некоторым сокраще-
нии),
знаменуют существенный поворот
в
русской философии конца
XIX
века,
значение
которого не было
до
конца осознано самими его инициаторами. Зна-
менуют, говорим мы,
хотя
хронологически
(1897-1899)
эти работы скорее вен-
чают
выделяемую нами из массива философских текстов этого периода истории
русской философии «предфеноменологическую» традицию. Однако особый
авторитет фигуры Соловьева ставит его
в
исключительное, пограничное поло-
жение
и в
этой последней, позволяя различить
на
основании реконструкции
противоречивой истории его индивидуального философского развития две рез-
ко
отграниченные началом
XX
века (кстати, Соловьев
умер
в
1900
году)
эпохи
в
становлении самостоятельного (рефлексивного) философского языка, ориги-
нальной
философской тематики
и,
главное, своеобразной парадигмы понима-
ния
сознания
в
России.
Хотя
результат
предпринятого Соловьевым
в
этой работе непредвзя-
того феноменологического описания сознания невозможно антиципировать
101
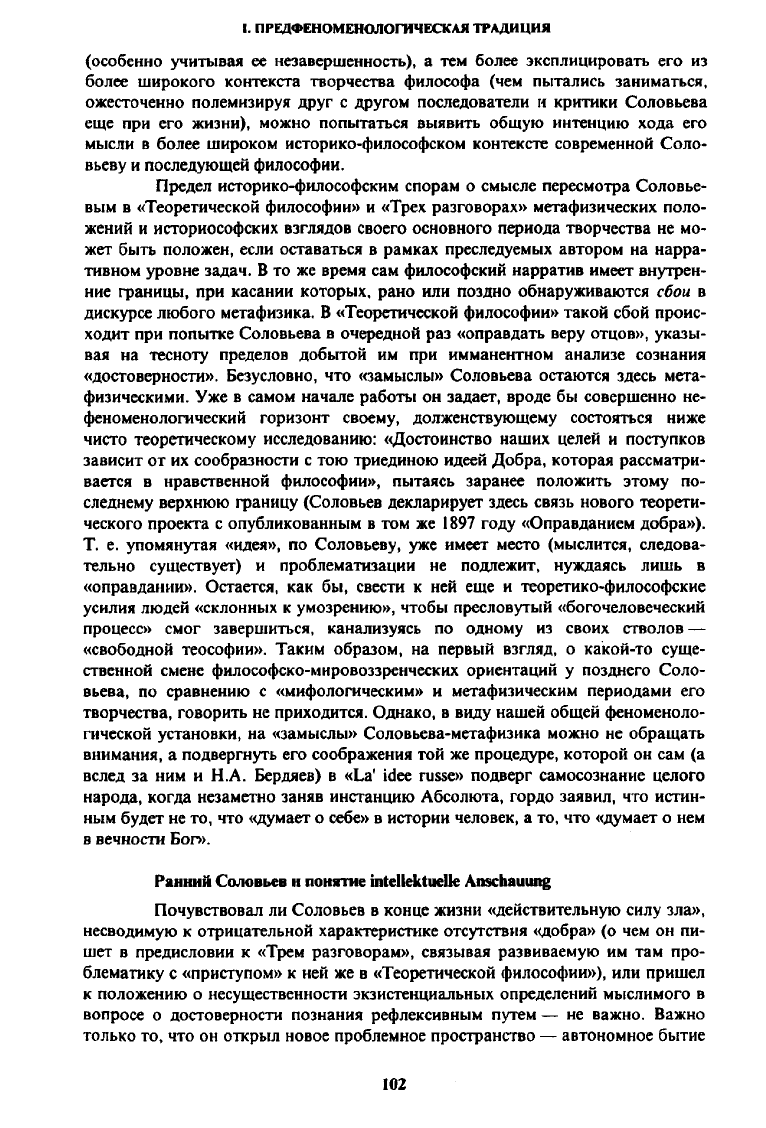
I.
ПРВДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКЛЯ
ТРАДИЦИЯ
(особенно
учитывая ее незавершенность), а тем более эксплицировать его из
более широкого контекста творчества философа (чем пытались заниматься,
ожесточенно полемизируя
друг
с другом последователи и критики Соловьева
еще при его жизни), можно попытаться выявить общую интенцию
хода
его
мысли в более широком историко-философском контексте современной Соло-
вьеву и последующей философии.
Предел историко-философским спорам о смысле пересмотра Соловье-
вым в «Теоретической философии» и
«Трех
разговорах» метафизических поло-
жений
и историософских взглядов своего основного периода творчества не мо-
жет быть положен, если оставаться в рамках преследуемых автором на нарра-
тивном уровне задач. В то же время сам философский нарратив имеет внутрен-
ние
границы, при касании которых, рано или поздно обнаруживаются
сбои
в
дискурсе любого метафизика. В «Теоретической философии» такой сбой проис-
ходит при попытке Соловьева в очередной раз «оправдать веру отцов», указы-
вая на тесноту пределов добытой им при имманентном анализе сознания
«достоверности». Безусловно, что «замыслы» Соловьева остаются здесь мета-
физическими.
Уже в самом начале работы он задает, вроде бы совершенно не-
феноменологический горизонт своему, долженствующему состояться ниже
чисто теоретическому исследованию: «Достоинство наших целей и поступков
зависит от их сообразности с тою триединою идеей Добра, которая рассматри-
вается в нравственной философии», пытаясь заранее положить этому по-
следнему верхнюю границу (Соловьев декларирует здесь связь нового теорети-
ческого проекта с опубликованным в том же 1897
году
«Оправданием добра»).
Т.
е. упомянутая
«идея»,
по Соловьеву, уже имеет место (мыслится, следова-
тельно существует) и проблематизации не подлежит, нуждаясь лишь в
«оправдании». Остается, как бы, свести к ней еще и теоретико-философские
усилия людей «склонных к умозрению», чтобы пресловутый «богочеловеческий
процесс» смог завершиться, канализуясь по одному из своих стволов —
«свободной теософии». Таким образом, на первый взгляд, о какой-то суще-
ственной смене философско-мнровоззренческих ориентации у позднего Соло-
вьева, по сравнению с «мифологическим» и метафизическим периодами его
творчества, говорить не приходится. Однако, в виду нашей общей феноменоло-
гической установки, на «замыслы» Соловьева-метафизика можно не обращать
внимания,
а подвергнуть его соображения той же процедуре, которой он сам (а
вслед за ним и H.A. Бердяев) в «La
1
idee
russe»
подверг самосознание целого
народа, когда незаметно заняв инстанцию Абсолюта, гордо заявил, что истин-
ным
будет
не то, что
«думает
о
себе»
в истории человек, а то, что
«думает
о нем
в
вечности Бог».
Ранний
Соловьев
н
понятие
intellektuelle
Anschauung
Почувствовал ли Соловьев в конце жизни «действительную силу зла»,
несводимую к отрицательной характеристике отсутствия
«добра»
(о чем он пи-
шет в предисловии к «Трем разговорам», связывая развиваемую им там про-
блематику с «приступом» к ней же в «Теоретической философии»), или пришел
к
положению о несущественности экзистенциальных определений мыслимого в
вопросе о достоверности познания рефлексивным путем — не важно. Важно
только то, что он открыл новое проблемное пространство — автономное бытие
102
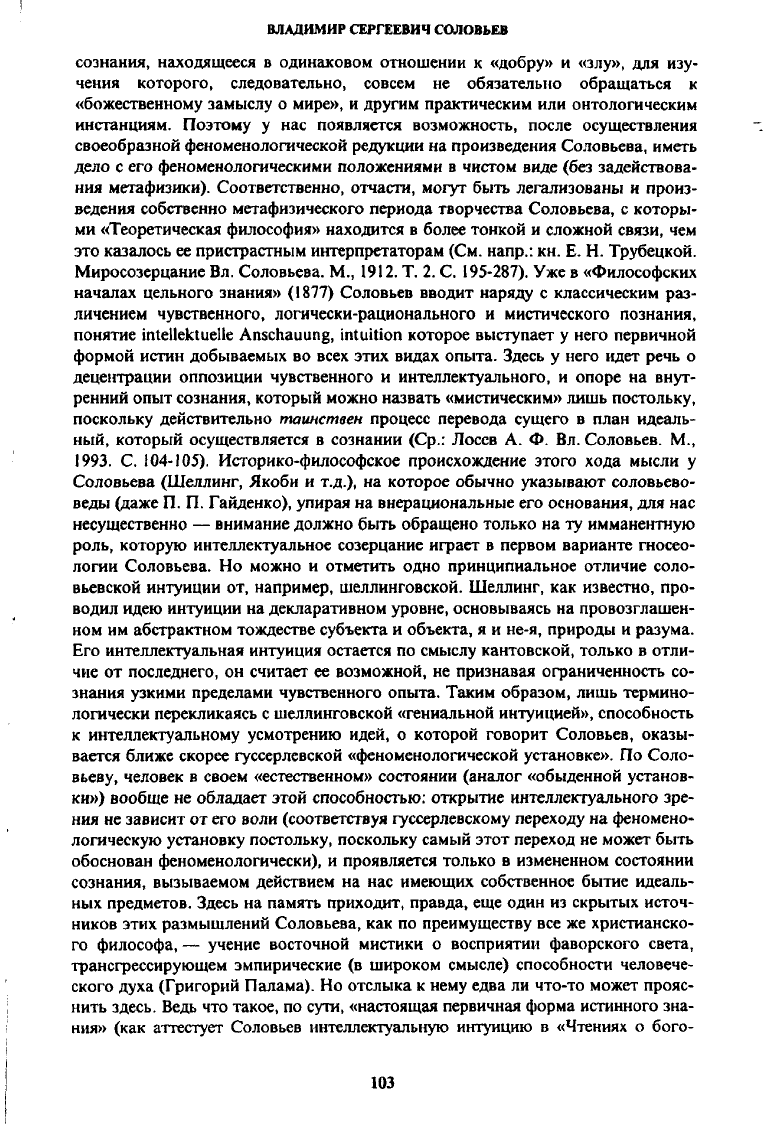
ВЛАДИМИР
СЕРГЕЕВИЧ
СОЛОВЬЕВ
сознания,
находящееся в одинаковом отношении к
«добру»
и
«злу»,
для изу-
чения
которого, следовательно, совсем не обязательно обращаться к
«божественному замыслу о мире», и
другим
практическим или онтологическим
инстанциям.
Поэтому у нас появляется возможность, после осуществления
своеобразной феноменологической редукции на произведения Соловьева, иметь
дело с его феноменологическими положениями в чистом виде (без задействова-
ния
метафизики). Соответственно, отчасти,
могут
быть легализованы и произ-
ведения собственно метафизического периода творчества Соловьева, с которы-
ми
«Теоретическая философия» находится в более тонкой и сложной связи, чем
это казалось ее пристрастным интерпретаторам (См. напр.: кн. Е. Н. Трубецкой.
Миросозерцание Вл. Соловьева. М., 1912. Т. 2. С.
195-287).
Уже в «Философских
началах цельного знания»
(1877)
Соловьев вводит наряду с классическим раз-
личением чувственного, логически-рационального и мистического познания,
понятие
intellektuelle Anschauung, intuition которое выступает у него первичной
формой
истин добываемых во
всех
этих видах опыта. Здесь у него идет речь о
децентрации оппозиции чувственного и интеллектуального, и опоре на внут-
ренний
опыт
сознания,
который можно назвать «мистическим» лишь постольку,
поскольку действительно
таинствен
процесс перевода сущего в план идеаль-
ный,
который осуществляется в сознании (Ср.: Лосев А. Ф. Вл. Соловьев. М.,
1993. С.
104-105).
Историко-философское происхождение этого
хода
мысли у
Соловьева (Шеллинг, Якоби и т.д.), на которое обычно указывают соловьево-
веды (даже П. П. Гайденко), упирая на внерациональные его основания, для нас
несущественно — внимание должно быть обращено только на ту имманентную
роль, которую интеллектуальное созерцание играет в первом варианте гносео-
логии Соловьева. Но можно и отметить одно принципиальное отличие соло-
вьевской интуиции от, например, шеллинговской. Шеллинг, как известно, про-
водил идею интуиции на декларативном уровне, основываясь на провозглашен-
ном
им абстрактном
тождестве
субъекта и объекта, я и не-я, природы и разума.
Его интеллектуальная интуиция остается по смыслу кантовской, только в отли-
чие от последнего, он считает ее возможной, не признавая ограниченность со-
знания
узкими пределами чувственного опыта. Таким образом, лишь термино-
логически перекликаясь с шеллинговской «гениальной интуицией», способность
к
интеллектуальному усмотрению идей, о которой говорит Соловьев, оказы-
вается ближе скорее гуссерлевской «феноменологической установке». По Соло-
вьеву,
человек в своем «естественном» состоянии (аналог «обыденной установ-
ки») вообще не обладает этой способностью: открытие интеллектуального зре-
ния
не зависит от его воли (соответствуя гуссерлевскому
переходу
на феномено-
логическую установку постольку, поскольку самый этот переход не может быть
обоснован феноменологически), и проявляется только в измененном состоянии
сознания,
вызываемом действием на нас имеющих собственное бытие идеаль-
ных предметов. Здесь на память приходит, правда, еще один из скрытых источ-
ников
этих размышлений Соловьева, как по преимуществу все же христианско-
го философа, — учение восточной мистики о восприятии Фаворского света,
трансгрессирующем эмпирические (в широком смысле) способности человече-
ского
духа
(Григорий Палама). Но отслыка к нему
едва
ли что-то может прояс-
нить
здесь.
Ведь
что такое, по сути, «настоящая первичная форма истинного зна-
ния» (как
аттестует
Соловьев интеллектуальную интуицию в «Чтениях о бого-
103

I.
ПРЕДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ
человечестве»)?
Чтобы понять это, надо разобраться,
чему
она противопостав-
ляется. Прежде всего — познанию в понятиях, как логической форме налагае-
мой
на материал доставляемый опытом чувственным. Соловьев подвергает в
этом вопросе критике миллевскую теорию абстракции, указывая (почти сло-
вами Гуссерля) на необходимость наличия в нашем сознании общей идеи пред-
мета, еще до логической процедуры отвлечения и обобщения частных призна-
ков,
доставляемых опытом и выражаемых затем в понятии. Во-вторых —
мистическому познанию (вере) как «непосредственному восприятию абсолют-
ной
действительности», не имеющих собственных средств для выражения добы-
тых в нем содержаний (следствием чего, в частности, выступает появление цело-
го множества религиозных движений и учений в истории). Предметами такой
интеллектуальной интуиции (идеации) являются, разумеется,
идеи,
которые
Соловьев понимает как «совершенно определенные, особенные формы метафи-
зических существ, присущие им самим по
себе»
(Там же, с. 63). Также как и у
Гуссерля,
«идея»
Соловьева, как предметный смысл того или иного сущего
(будь
это Бог или солнце, — все равно), не находится ни в самой вещи (являясь
только присущей ей формой), ни в сознании (только
будучи
им усматриваема),
ни
где-либо еще, т.е. не может быть натуралистически истолкована как некая
реальная (пространственно-временная) вещь. Она именно идеальна, и только в
этом смысле представляет собой «независимое от явлений бытие». Соот-
ветственно этому новому
статусу
идеи-смысла уточняется и
статус
индивиду-
ального сознания. К его существенной характеристике принадлежит — быть на
что-то направленным, на что-то иное чем само сознание. Как пишет Соловьев:
«Человек должен что-нибудь
хотеть,
что-нибудь мыслить, что-нибудь чувство-
вать, и это что, которое составляет определяющее начало, цель и кредит его
духовных
сил и его духовной жизни, и есть именно то, что спрашивается, то,
что интересно, то, что
дает
смысл»
(Там же, с. 31). Т. е. Соловьев намекает здесь
на
несводимость идеи к психическим характеристикам мыслящей ее мысли, со-
знания
к психике. Таким образом, более продуктивным оказывается продумы-
вание близости интуитивизма Соловьева учению о категориальном созерцании
Эд. Гуссерля, чем размышления об особой православной оптике (См. статью М.
Маяцкого
в № 6
«Логоса»
— «Некоторые подходы к проблеме визуальности в
русской философии»).
Но
как только Соловьев покидает пределы имманетной сферы созна-
ния
и переходит от феноменологического описания к метафизическим выводам
и
полаганиям, в его учении об идеях появляются двусмысленности и противоре-
чия.
Так при созерцательно неподкрепленном переходе Соловьева от
утвержде-
ния
независимости и несводимости идей (воспринимаемых благодаря интеллек-
туальной интуиции) к чувственным данным и логическим понятиям к предпо-
ложению о существовании особого рода идеальных существ (идеями которых
они
и являются), он опирается только на аналогию с реальной вещью,
аффици-
рующей нашу чувственность, и вызывающих тем самым явление вещи в нашем
опыте. В
результате
остается непонятным как образуются идеи реальных су-
ществ, в каком отношении стоят эти последние к идеям как формам существ
идеальных, а также тождественны ли идеальные формы «метафизических су-
ществ»
идеям, или идеальным существам?
104
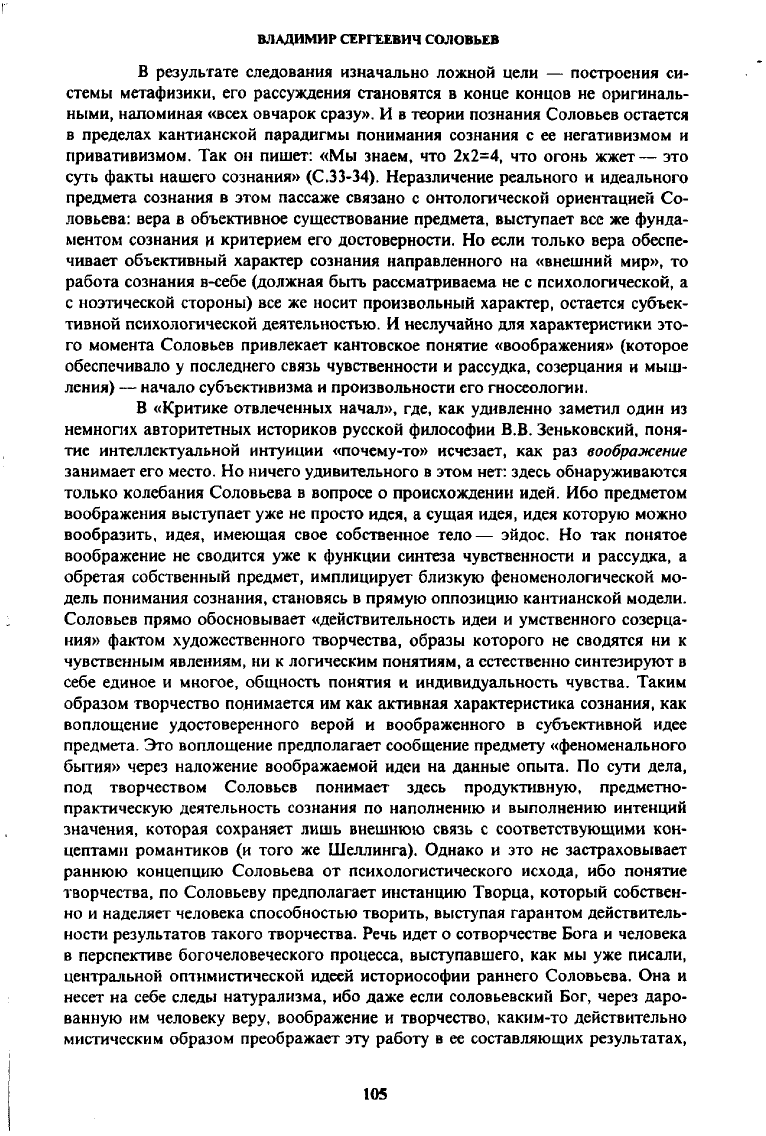
ВЛАДИМИР
СЕРГЕЕВИЧ
СОЛОВЬЕВ
В
результате
следования изначально ложной цели — построения си-
стемы метафизики, его рассуждения становятся в конце концов не оригиналь-
ными,
напоминая
«всех
овчарок
сразу».
И в теории познания Соловьев остается
в
пределах кантианской парадигмы понимания сознания с ее негативизмом и
привативизмом. Так он пишет: «Мы знаем, что 2x2=4, что огонь
жжет—
это
суть
факты нашего сознания» (С.33-34). Неразличение реального и идеального
предмета сознания в этом пассаже связано с онтологической ориентацией Со-
ловьева: вера в объективное существование предмета, выступает все же фунда-
ментом сознания и критерием его достоверности. Но если только вера обеспе-
чивает объективный характер сознания направленного на «внешний мир», то
работа сознания
в-себе
(должная быть рассматриваема не с психологической, а
с ноэтической стороны) все же носит произвольный характер, остается субъек-
тивной
психологической деятельностью. И неслучайно для характеристики это-
го момента Соловьев привлекает кантовское понятие «воображения» (которое
обеспечивало у последнего связь чувственности и рассудка, созерцания и мыш-
ления)
— начало субъективизма и произвольности его гносеологии.
В «Критике отвлеченных начал», где, как удивленно заметил один из
немногих авторитетных историков русской философии В.В. Зеньковский,
поня-
тие интеллектуальной интуиции
«почему-то»
исчезает, как раз
воображение
занимает его место. Но ничего удивительного в этом нет: здесь обнаруживаются
только колебания Соловьева в вопросе о происхождении идей. Ибо предметом
воображения выступает уже не просто идея, а сущая идея, идея которую можно
вообразить, идея, имеющая свое собственное тело — эйдос. Но так понятое
воображение не сводится уже к функции синтеза чувственности и рассудка, а
обретая собственный предмет, имплицирует близкую феноменологической мо-
дель понимания
сознания,
становясь в прямую оппозицию кантианской модели.
Соловьев прямо обосновывает «действительность идеи и умственного созерца-
ния» фактом художественного творчества, образы которого не сводятся ни к
чувственным явлениям, ни к логическим понятиям, а естественно синтезируют в
себе единое и многое, общность понятия и индивидуальность
чувства.
Таким
образом творчество понимается им как активная характеристика сознания, как
воплощение удостоверенного верой и воображенного в субъективной идее
предмета. Это воплощение предполагает сообщение предмету «феноменального
бытия» через наложение воображаемой идеи на данные опыта. По
сути
дела,
под творчеством Соловьев понимает здесь продуктивную, предметно-
практическую деятельность сознания по наполнению и выполнению интенций
значения,
которая сохраняет лишь внешнюю связь с соответствующими кон-
цептами романтиков (и того же Шеллинга). Однако и это не застраховывает
раннюю концепцию Соловьева от психологистического исхода, ибо понятие
творчества, по Соловьеву предполагает инстанцию Творца, который собствен-
но
и наделяет человека способностью творить, выступая гарантом действитель-
ности результатов такого творчества. Речь идет о сотворчестве Бога и человека
в
перспективе богочеловеческого процесса, выступавшего, как мы уже писали,
центральной оптимистической идеей историософии раннего Соловьева. Она и
несет на себе следы натурализма, ибо
даже
если соловьевский Бог, через даро-
ванную им человеку
веру,
воображение и творчество, каким-то действительно
мистическим образом преображает эту работу в ее составляющих
результатах,
105
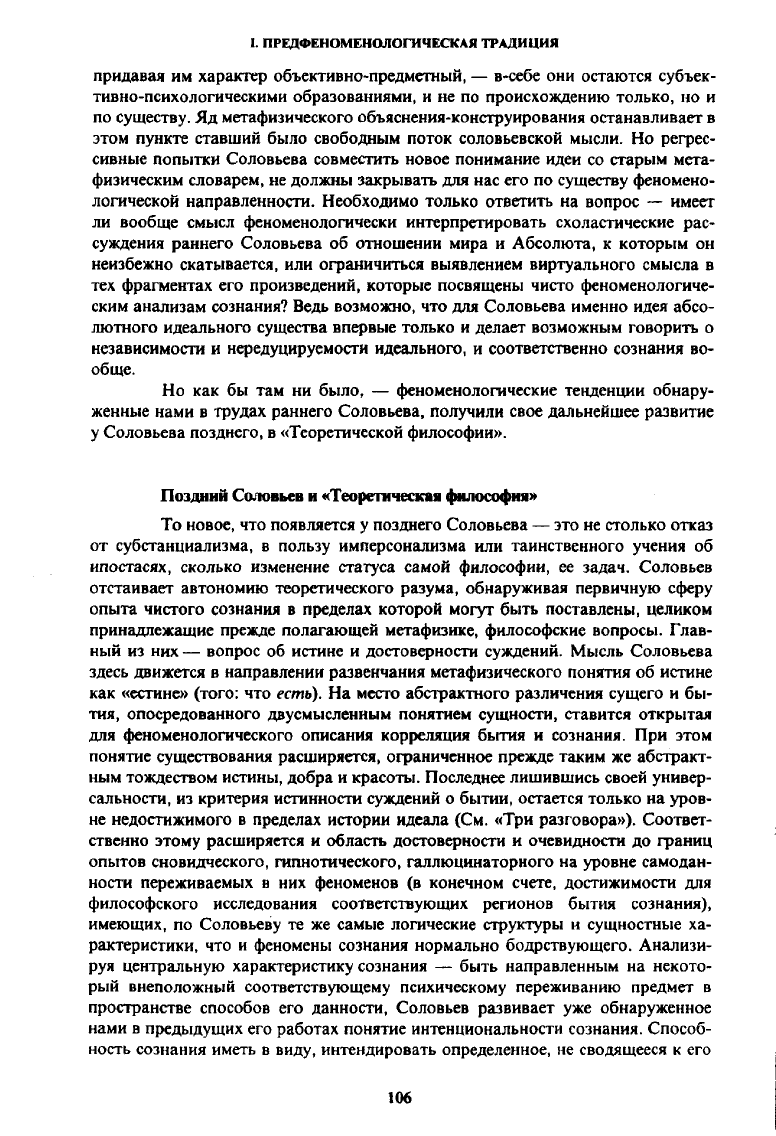
I.
ПРЕДФЕНОМБНОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ
придавая им характер объективно-предметный, —
в-себе
они остаются субъек-
тивно-психологическими образованиями, и не по происхождению только, но и
по
существу.
Яд метафизического объяснения-конструирования останавливает в
этом пункте ставший было свободным поток соловьевской мысли. Но регрес-
сивные попытки Соловьева совместить новое понимание идеи со старым мета-
физическим
словарем, не должны закрывать для нас его по
существу
феномено-
логической направленности. Необходимо только ответить на вопрос — имеет
ли вообще смысл феноменологически интерпретировать схоластические рас-
суждения раннего Соловьева об отношении мира и
Абсолюта,
к которым он
неизбежно скатывается, или ограничиться выявлением виртуального смысла в
тех фрагментах его произведений, которые посвящены чисто феноменологиче-
ским
анализам сознания?
Ведь
возможно, что для Соловьева именно идея абсо-
лютного идеального существа впервые только и
делает
возможным говорить о
независимости и нередуцируемости идеального, и соответственно сознания во-
обще.
Но
как бы там ни было, — феноменологические тенденции обнару-
женные нами в
трудах
раннего Соловьева, получили свое дальнейшее развитие
у Соловьева позднего, в «Теоретической философии».
Поздний
Соловьев
и
«Теоретическая
философия»
То новое, что появляется у позднего Соловьева — это не столько отказ
от субстанциализма, в пользу имперсонализма или таинственного учения об
ипостасях, сколько изменение
статуса
самой философии, ее задач. Соловьев
отстаивает автономию теоретического разума, обнаруживая первичную сферу
опыта чистого сознания в пределах которой
могут
быть поставлены, целиком
принадлежащие прежде полагающей метафизике, философские вопросы. Глав-
ный
из них — вопрос об истине и достоверности суждений. Мысль Соловьева
здесь движется в направлении развенчания метафизического понятия об истине
как
«естине»
(того: что
есть).
На место абстрактного различения сущего и бы-
тия,
опосредованного двусмысленным понятием сущности, ставится открытая
для феноменологического описания корреляция бытия и сознания. При этом
понятие
существования расширяется, ограниченное прежде таким же абстракт-
ным
тождеством истины, добра и красоты. Последнее лишившись своей универ-
сальности, из критерия истинности суждений о бытии, остается только на уров-
не
недостижимого в пределах истории идеала (См. «Три разговора»). Соответ-
ственно этому расширяется и область достоверности и очевидности до границ
опытов сновидческого, гипнотического, галлюцинаторного на уровне самодан-
ности переживаемых в них феноменов (в конечном счете, достижимости для
философского исследования соответствующих регионов бытия сознания),
имеющих, по Соловьеву те же самые логические структуры и сущностные ха-
рактеристики, что и феномены сознания нормально бодрствующего. Анализи-
руя центральную характеристику сознания — быть направленным на некото-
рый
внеположный соответствующему психическому переживанию предмет в
пространстве способов его данности, Соловьев развивает уже обнаруженное
нами
в предыдущих его работах понятие интенциональности сознания. Способ-
ность сознания иметь в
виду,
интендировать определенное, не сводящееся к его
106
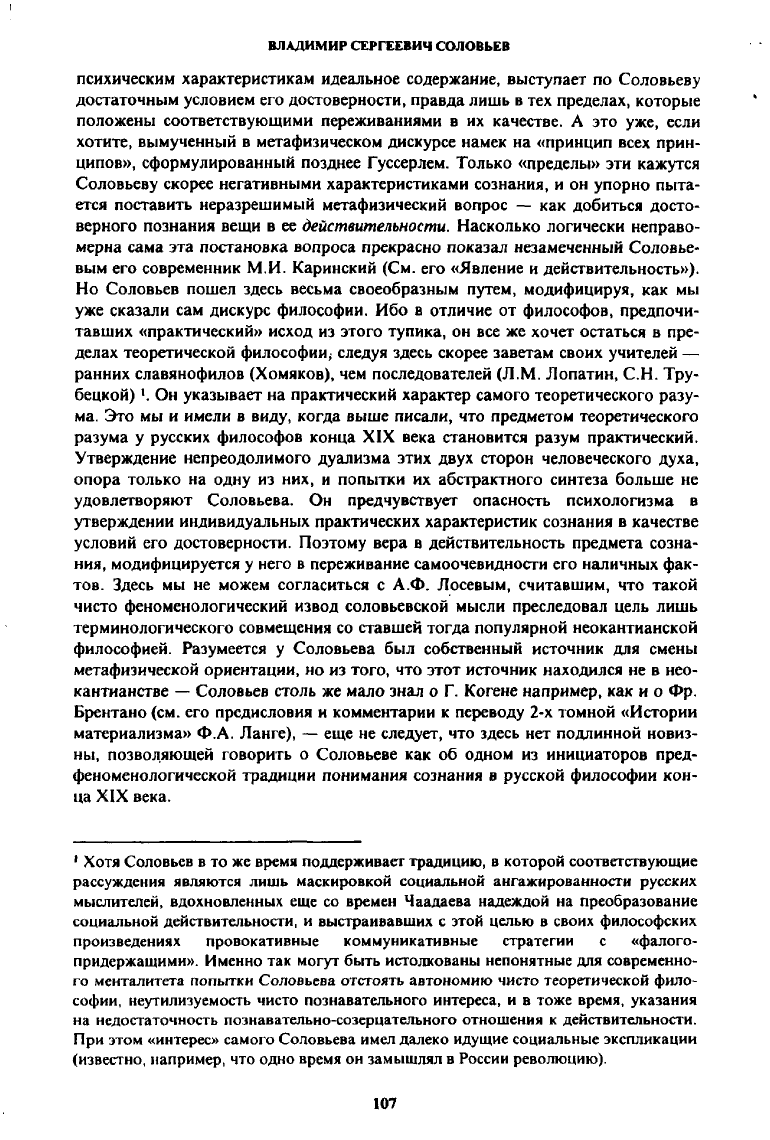
ВЛАДИМИР
СЕРГЕЕВИЧ
СОЛОВЬЕВ
психическим характеристикам идеальное содержание, выступает по Соловьеву
достаточным условием его достоверности, правда лишь в тех пределах, которые
положены соответствующими переживаниями в их качестве. А это уже, если
хотите, вымученный в метафизическом дискурсе намек на «принцип
всех
прин-
ципов», сформулированный позднее Гуссерлем. Только
«пределы»
эти кажутся
Соловьеву скорее негативными характеристиками сознания, и он упорно пыта-
ется поставить неразрешимый метафизический вопрос — как добиться досто-
верного познания вещи в ее
действительности.
Насколько логически неправо-
мерна сама эта постановка вопроса прекрасно показал незамеченный Соловье-
вым его современник М.И. Каринский (См. его «Явление и действительность»).
Но
Соловьев пошел здесь весьма своеобразным путем, модифицируя, как мы
уже сказали сам дискурс философии. Ибо в отличие от философов, предпочи-
тавших «практический» исход из этого тупика, он все же
хочет
остаться в пре-
делах
теоретической
философии
;
следуя
здесь скорее заветам своих учителей —
ранних славянофилов (Хомяков), чем последователей (Л.М. Лопатин, С.Н. Тру-
бецкой) '. Он указывает на практический характер самого теоретического
разу-
ма. Это мы и имели в
виду,
когда выше писали, что предметом теоретического
разума у русских философов конца XIX века становится разум практический.
Утверждение непреодолимого дуализма этих
двух
сторон человеческого
духа,
опора только на одну из них, и попытки их абстрактного синтеза больше не
удовлетворяют Соловьева. Он
предчувствует
опасность психологизма в
утверждении индивидуальных практических характеристик сознания в качестве
условий его достоверности. Поэтому вера в действительность предмета созна-
ния,
модифицируется у него в переживание самоочевидности его наличных фак-
тов. Здесь мы не можем согласиться с А.Ф. Лосевым, считавшим, что такой
чисто феноменологический извод соловьевской мысли преследовал цель лишь
терминологического совмещения со ставшей
тогда
популярной неокантианской
философией.
Разумеется у Соловьева был собственный источник для смены
метафизической ориентации, но из того, что этот источник находился не в нео-
кантианстве — Соловьев столь же мало знал о Г. Когене например, как и о Фр.
Брентано
(см. его предисловия и комментарии к переводу 2-х томной «Истории
материализма» Ф.А. Ланге), — еще не
следует,
что здесь нет подлинной новиз-
ны,
позволяющей говорить о Соловьеве как об одном из инициаторов пред-
феноменологической традиции понимания сознания в русской философии кон-
ца
XIX века.
1
Хотя Соловьев в то же время поддерживает традицию, в которой соответствующие
рассуждения являются лишь маскировкой социальной ангажированности русских
мыслителей, вдохновленных еще со времен Чаадаева надеждой на преобразование
социальной действительности, и выстраивавших с этой целью в своих философских
произведениях провокативные коммуникативные стратегии с «фалого-
придсржащими». Именно так
могут
быть истолкованы непонятные для современно-
го менталитета попытки Соловьева отстоять автономию чисто теоретической фило-
софии,
неутилизуемость чисто познавательного интереса, и в тоже время, указания
на
недостаточность познавательно-созерцательного отношения к действительности.
При
этом
«интерес»
самого Соловьева имел далеко идущие социальные экспликации
(известно,
например, что одно время он замышлял в России революцию).
107
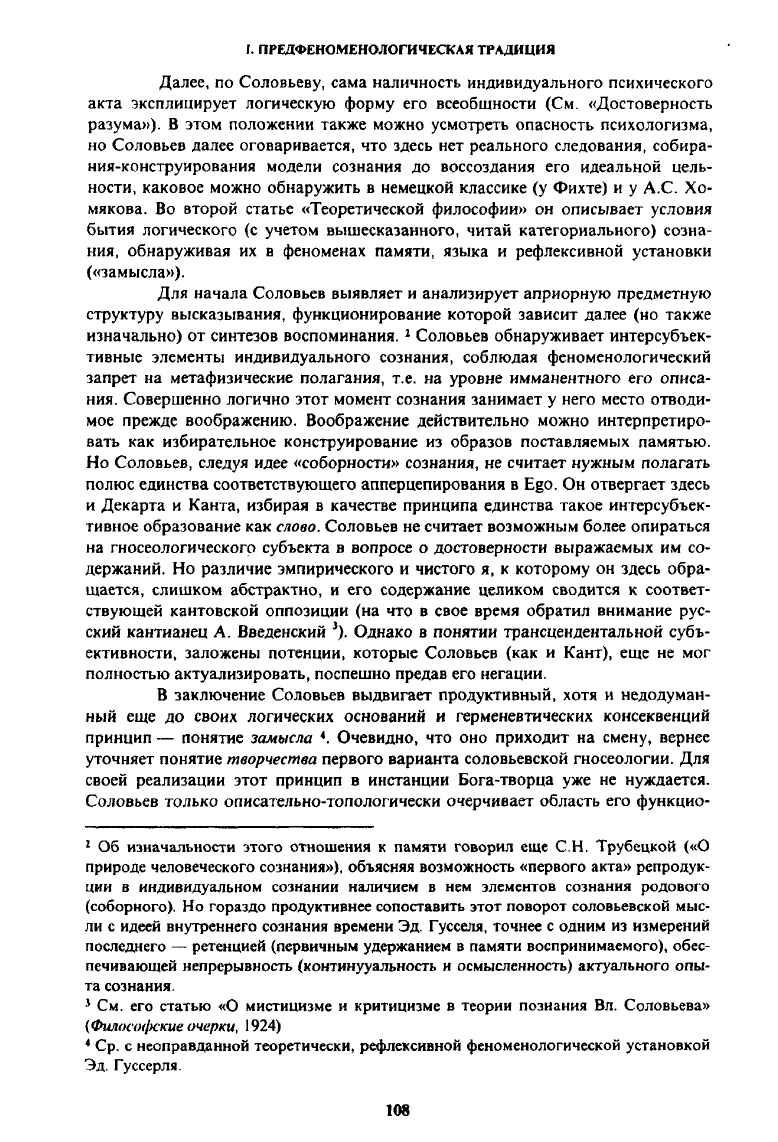
I.
ПРЕДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКЛЯ
ТРАДИЦИЯ
Далее, по Соловьеву, сама наличность индивидуального психического
акта эксплицирует логическую форму его всеобщности (См. «Достоверность
разума»). В этом положении также можно усмотреть опасность психологизма,
но
Соловьев
далее
оговаривается, что здесь нет реального следования, собира-
ния-конструирования
модели сознания до воссоздания его идеальной цель-
ности,
каковое можно обнаружить в немецкой классике (у Фихте) и у A.C. Хо-
мякова.
Во второй
статье
«Теоретической философии» он описывает условия
бытия логического (с
учетом
вышесказанного, читай категориального) созна-
ния,
обнаруживая их в феноменах памяти, языка и рефлексивной установки
(«замысла»).
Для начала Соловьев выявляет и анализирует априорную предметную
структуру
высказывания, функционирование которой зависит
далее
(но также
изначально) от синтезов воспоминания.
2
Соловьев обнаруживает интерсубъек-
тивные элементы индивидуального сознания, соблюдая феноменологический
запрет на метафизические полагания, т.е. на уровне имманентного его описа-
ния.
Совершенно логично этот момент сознания занимает у него место отводи-
мое прежде воображению. Воображение действительно можно интерпретиро-
вать как избирательное конструирование из образов поставляемых памятью.
Но
Соловьев,
следуя
идее «соборности» сознания, не считает нужным полагать
полюс единства соответствующего апперцепирования в Ego. Он отвергает здесь
и
Декарта и Канта, избирая в качестве принципа единства такое интерсубъек-
тивное образование как
слово.
Соловьев не считает возможным более опираться
на
гносеологического субъекта в вопросе о достоверности выражаемых им со-
держаний. Но различие эмпирического и чистого я, к которому он здесь обра-
щается, слишком абстрактно, и его содержание целиком сводится к соответ-
ствующей кантовской оппозиции (на что в свое время обратил внимание рус-
ский
кантианец А. Введенский
3
). Однако в понятии трансцендентальной
субъ-
ективности, заложены потенции, которые Соловьев (как и
Кант),
еще не мог
полностью актуализировать, поспешно предав его негации.
В заключение Соловьев выдвигает продуктивный, хотя и недодуман-
ный
еще до своих логических оснований и герменевтических консеквенций
принцип
— понятие
замысла
4
. Очевидно, что оно приходит на смену, вернее
уточняет понятие
творчества
первого варианта соловьевской гносеологии. Для
своей реализации этот принцип в инстанции Бога-творца уже не нуждается.
Соловьев только описательно-топологически очерчивает область его функцио-
2
Об изначальности этого отношения к памяти говорил еще С.Н. Трубецкой («О
природе человеческого сознания»), объясняя возможность «первого
акта»
репродук-
ции
в индивидуальном сознании наличием в нем элементов сознания родового
(соборного).
Но гораздо продуктивнее сопоставить этот поворот соловьевской мыс-
ли с идеей внутреннего сознания времени Эд. Гусселя, точнее с одним из измерений
последнего — ретенцией (первичным удержанием в памяти воспринимаемого), обес-
печивающей непрерывность (континууальность и осмысленность) актуального опы-
та сознания.
3
См. его статью «О мистицизме и критицизме в теории познания Вл. Соловьева»
(Филоах/ккие
очерки,
1924)
4
Ср. с неоправданной теоретически, рефлексивной феноменологической установкой
Эд. Гуссерля.
108
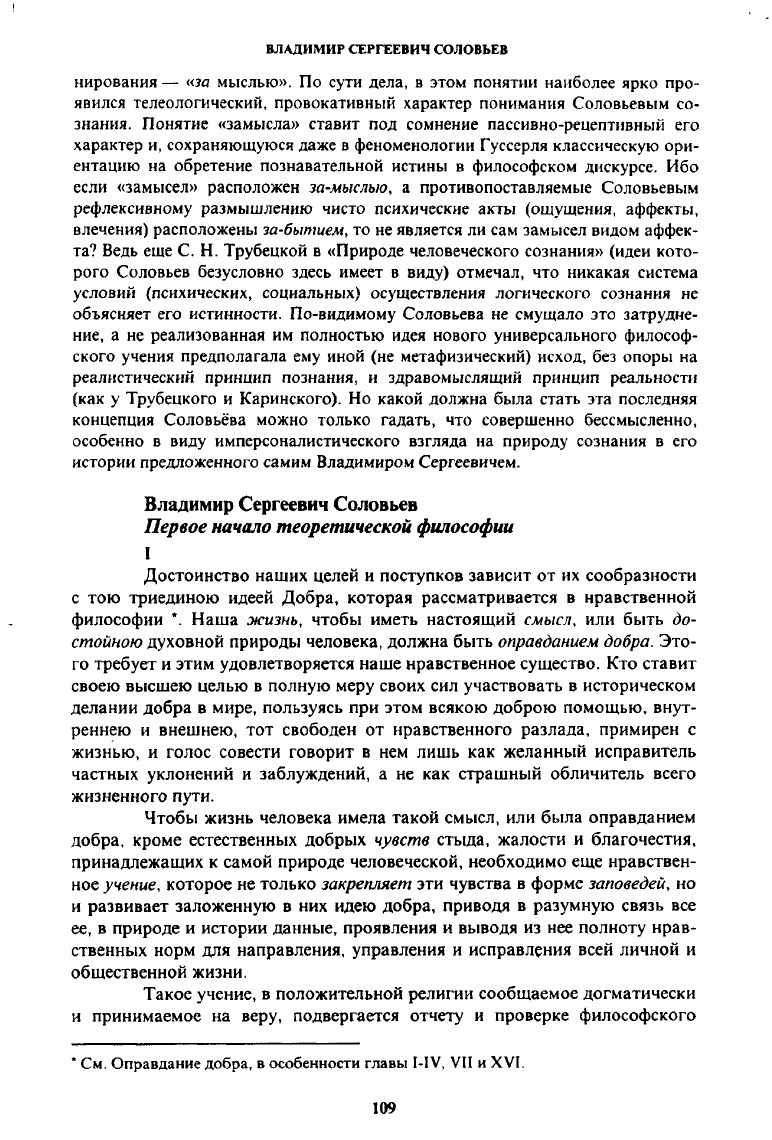
ВЛАДИМИР
СЕРГЕЕВИЧ
СОЛОВЬЕВ
нирования
—
«за
мыслью».
По
сути
дела,
в
этом понятии наиболее ярко
про-
явился
телеологический, провокативный характер понимания Соловьевым
со-
знания.
Понятие
«замысла»
ставит
под
сомнение пассивно-рецептивный
его
характер и, сохраняющуюся
даже
в
феноменологии Гуссерля классическую ори-
ентацию
на
обретение познавательной истины
в
философском дискурсе.
Ибо
если
«замысел»
расположен
за-мыслыо,
а
противопоставляемые Соловьевым
рефлексивному размышлению чисто психические акты (ощущения, аффекты,
влечения) расположены
за-бытием,
то
не является
ли
сам замысел видом аффек-
та?
Ведь
еще С. Н. Трубецкой
в
«Природе человеческого сознания» (идеи кото-
рого Соловьев безусловно здесь имеет
в
виду)
отмечал,
что
никакая система
условий (психических, социальных) осуществления логического сознания
не
объясняет
его
истинности. По-видимому Соловьева
не
смущало
это
затрудне-
ние,
а
не
реализованная
им
полностью идея нового универсального философ-
ского учения предполагала
ему
иной
(не
метафизический) исход,
без
опоры
на
реалистический принцип познания,
и
здравомыслящий принцип реальности
(как
у
Трубецкого
и
Карийского).
Но
какой должна была стать
эта
последняя
концепция
Соловьёва можно только гадать,
что
совершенно бессмысленно,
особенно
в
виду
имперсоналистического взгляда
на
природу сознания
в его
истории предложенного самим Владимиром Сергеевичем.
Владимир Сергеевич Соловьев
Первое
начало
теоретической
философии
I
Достоинство наших целей
и
поступков зависит
от их
сообразности
с
тою
триединою идеей Добра, которая рассматривается
в
нравственной
философии
*.
Наша
жизнь,
чтобы иметь настоящий
смысл,
или
быть
до-
стойною
духовной природы человека, должна быть
оправданием
добра.
Это-
го
требует
и этим удовлетворяется наше нравственное существо. Кто ставит
своею высшею целью
в
полную меру своих сил
участвовать
в
историческом
делании добра
в
мире, пользуясь при этом всякою доброю помощью,
внут-
реннею
и
внешнею,
тот
свободен
от
нравственного разлада, примирен
с
жизнью,
и
голос совести говорит
в нем
лишь
как
желанный исправитель
частных уклонений
и
заблуждений,
а не как
страшный обличитель всего
жизненного пути.
Чтобы жизнь человека имела такой смысл, или была оправданием
добра, кроме естественных добрых
чувств
стыда, жалости
и
благочестия,
принадлежащих
к
самой природе человеческой, необходимо еще нравствен-
ное
учение,
которое не только
закрепляет
эти
чувства
в
форме
заповедей,
но
и
развивает заложенную
в них
идею добра, приводя
в
разумную связь
все
ее,
в
природе и истории данные, проявления
и
выводя
из
нее полноту нрав-
ственных норм
для
направления, управления
и
исправления всей личной
и
общественной жизни.
Такое учение,
в
положительной религии сообщаемое догматически
и
принимаемое
на
веру,
подвергается
отчету
и
проверке философского
*
См.
Оправдание
добра,
в
особенности
главы
I-IV, VII и XVI.
109
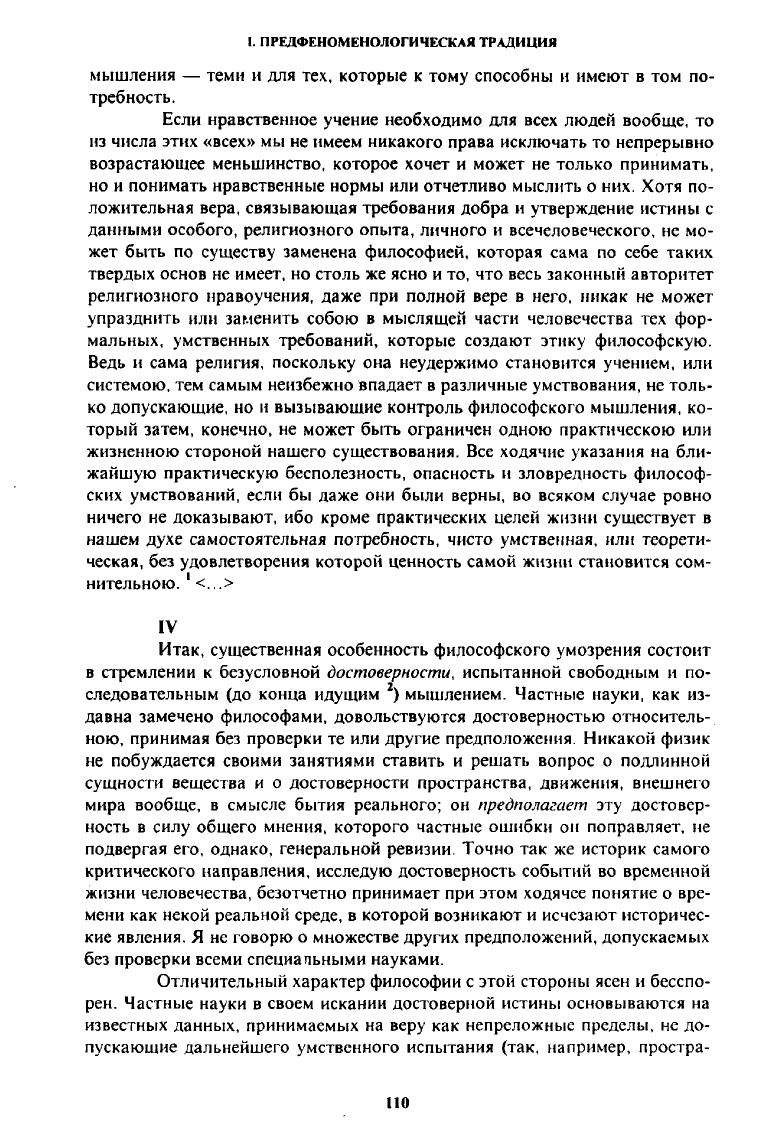
I.
ПРЕДФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКЛЯ
ТРАДИЦИЯ
мышления
— теми и для тех, которые к тому способны и имеют в том по-
требность.
Если нравственное учение необходимо для
всех
людей вообще, то
из
числа этих
«всех»
мы не имеем никакого права исключать то непрерывно
возрастающее меньшинство, которое
хочет
и может не только принимать,
но
и понимать нравственные нормы или отчетливо мыслить о них. Хотя по-
ложительная вера, связывающая требования добра и утверждение истины с
данными
особого, религиозного опыта, личного и всечеловеческого, не мо-
жет быть по
существу
заменена философией, которая сама по себе таких
твердых
основ не имеет, но столь же ясно и то, что весь законный авторитет
религиозного нравоучения,
даже
при полной вере в него,
никак
не может
упразднить или заменить собою в мыслящей части человечества тех фор-
мальных, умственных требований, которые создают этику философскую.
Ведь
и сама религия, поскольку она неудержимо становится учением, или
системою, тем самым неизбежно впадает в различные умствования, не толь-
ко
допускающие, но и вызывающие контроль философского мышления, ко-
торый затем, конечно, не может быть ограничен одною практическою или
жизненною
стороной нашего существования. Все ходячие указания на бли-
жайшую практическую бесполезность, опасность и зловредность философ-
ских умствований, если бы
даже
они были верны, во всяком
случае
ровно
ничего не доказывают, ибо кроме практических целей жизни
существует
в
нашем
духе
самостоятельная потребность, чисто умственная, или теорети-
ческая,
без удовлетворения которой ценность самой жизни становится сом-
нительною. '<...>
IV
Итак,
существенная особенность философского умозрения состоит
в
стремлении к безусловной
достоверности,
испытанной свободным и по-
следовательным (до конца идущим
2
) мышлением. Частные науки, как из-
давна замечено философами, довольствуются достоверностью относитель-
ною,
принимая без проверки те или
другие
предположения. Никакой
физик
не
побуждается своими занятиями ставить и решать вопрос о подлинной
сущности вещества и о достоверности пространства, движения, внешнего
мира вообще, в смысле бытия реального; он
предполагает
эту достовер-
ность в силу общего мнения, которого частные ошибки он поправляет, не
подвергая его, однако, генеральной ревизии. Точно так же историк самого
критического направления, исследую достоверность событий во временной
жизни
человечества, безотчетно принимает при этом
ходячее
понятие о вре-
мени
как некой реальной среде, в которой возникают и исчезают историчес-
кие
явления. Я не говорю о множестве
других
предположений, допускаемых
без проверки всеми специальными науками.
Отличительный характер философии с этой стороны ясен и бесспо-
рен.
Частные науки в своем искании достоверной истины основываются на
известных данных, принимаемых на
веру
как непреложные пределы, не до-
пускающие дальнейшего умственного испытания (так, например, простра-
110
