Чубаров И.М. (ред., сост.) Антология феноменологической философии в России
Подождите немного. Документ загружается.

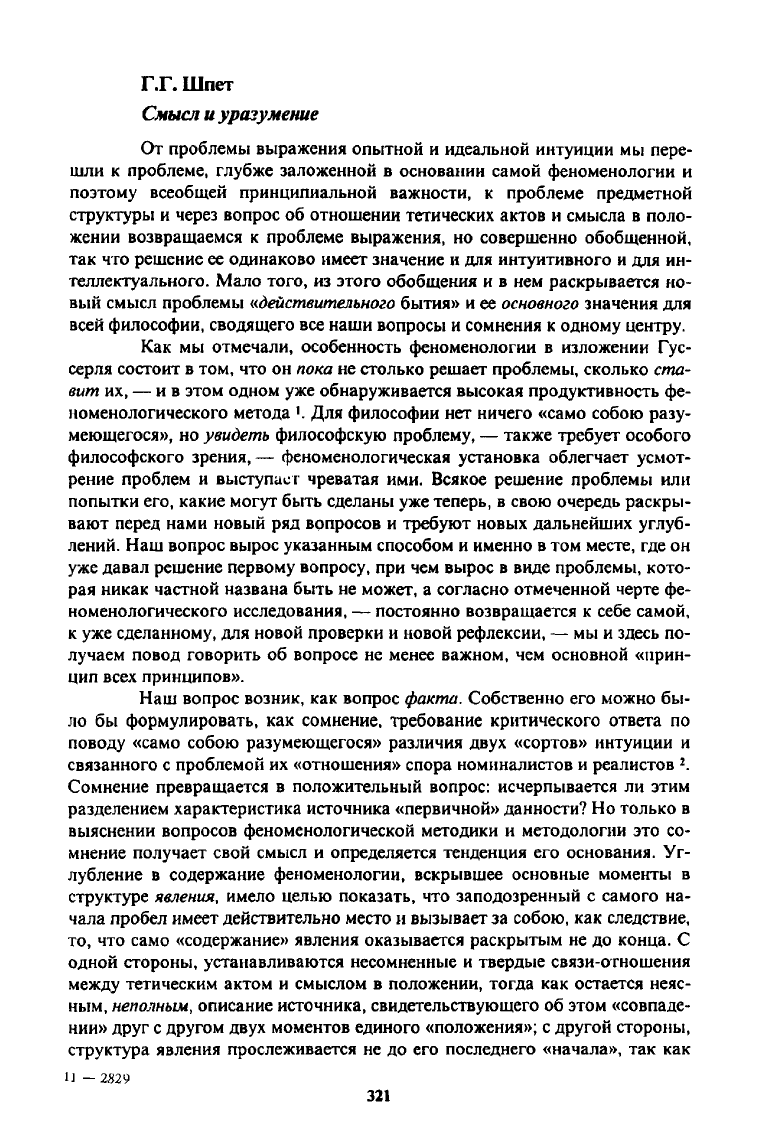
Γ.Γ.
Шпег
Смысл
и
уразумение
От проблемы выражения опытной и идеальной интуиции мы пере-
шли к проблеме,
глубже
заложенной в основании самой феноменологии и
поэтому всеобщей принципиальной важности, к проблеме предметной
структуры
и через вопрос об отношении тетических актов и смысла в поло-
жении возвращаемся к проблеме выражения, но совершенно обобщенной,
так что решение ее одинаково имеет значение и для интуитивного и для ин-
теллектуального. Мало того, из этого обобщения и в нем раскрывается но-
вый смысл проблемы
«действительного
бытия» и ее
основного
значения для
всей
философии,
сводящего все наши вопросы и сомнения к одному центру.
Как
мы отмечали, особенность феноменологии в изложении Гус-
серля состоит в том, что он
пока
не столько решает проблемы, сколько ста-
вит их, — ив этом одном уже обнаруживается высокая продуктивность фе-
номенологического метода '. Для философии нет ничего
«само
собою
разу-
меющегося», но
увидеть
философскую проблему, — также
требует
особого
философского
зрения,
— феноменологическая установка
облегчает
усмот-
рение проблем и выступает чреватая ими. Всякое решение проблемы или
попытки
его, какие
могут
быть сделаны уже теперь, в свою очередь раскры-
вают
перед нами новый ряд вопросов и
требуют
новых дальнейших
углуб-
лений.
Наш вопрос вырос указанным способом и именно в том месте, где он
уже
давал
решение первому вопросу, при чем вырос в виде проблемы, кото-
рая
никак
частной названа быть не может, а согласно отмеченной
черте
фе-
номенологического исследования, — постоянно возвращается к себе самой,
к
уже сделанному, для новой проверки и новой рефлексии, — мы и здесь по-
лучаем
повод говорить об вопросе не менее важном, чем основной «прин-
цип
всех
принципов».
Наш
вопрос возник, как вопрос
факта.
Собственно его можно бы-
ло бы формулировать, как сомнение, требование критического ответа по
поводу
«само
собою разумеющегося» различия
двух
«сортов»
интуиции и
связанного с проблемой их «отношения» спора номиналистов и реалистов
2
.
Сомнение
превращается в положительный вопрос: исчерпывается ли этим
разделением характеристика источника «первичной» данности? Но только в
выяснении
вопросов феноменологической методики и методологии это со-
мнение
получает
свой смысл и определяется тенденция его основания. Уг-
лубление в содержание феноменологии, вскрывшее основные моменты в
структуре
явления,
имело целью показать, что заподозренный с самого на-
чала пробел имеет действительно место и вызывает за собою, как следствие,
то,
что само
«содержание»
явления оказывается раскрытым не до конца. С
одной стороны, устанавливаются несомненные и твердые связи-отношения
между
тетическим актом и смыслом в положении,
тогда
как остается
неяс-
ным,
неполным,
описание источника,
свидетельствующего
об этом «совпаде-
нии»
друг
с
другом
двух
моментов единого «положения»; с
другой
стороны,
структура
явления прослеживается не до его последнего
«начала»,
так как
11 —
2829
321
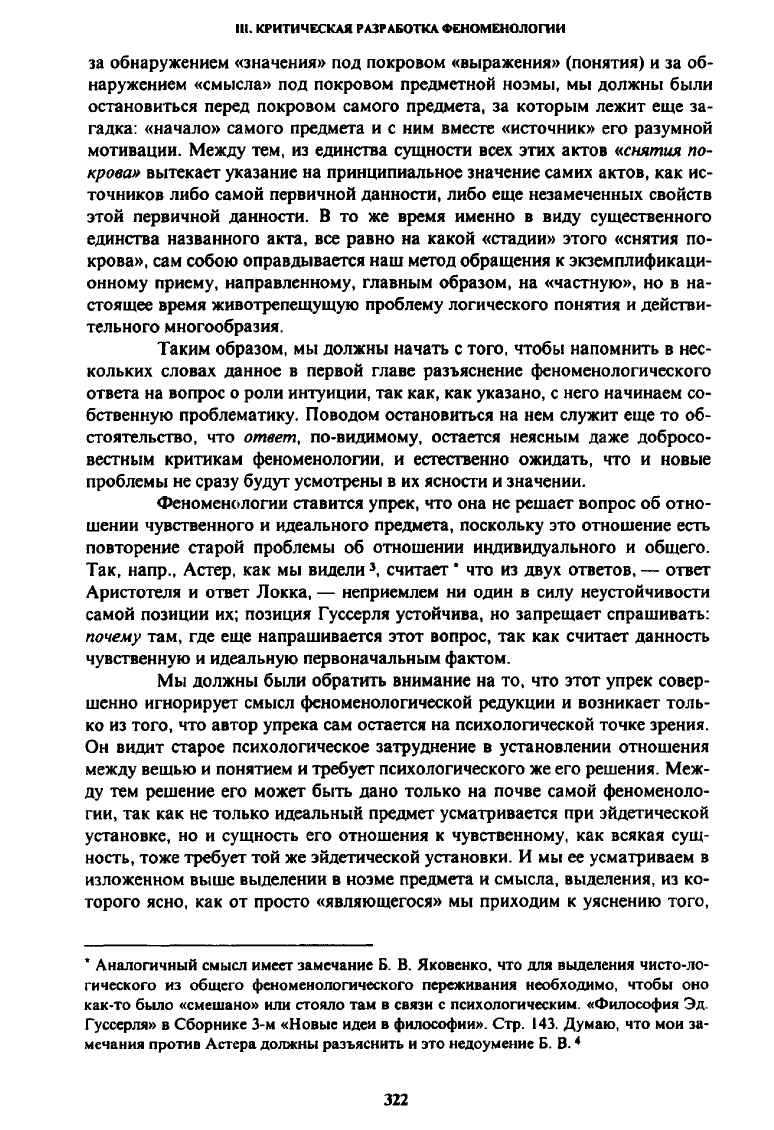
III.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
за обнаружением «значения» под покровом «выражения»
(понятия)
и за об-
наружением
«смысла»
под покровом предметной ноэмы, мы должны были
остановиться перед покровом самого предмета, за которым лежит еще за-
гадка:
«начало»
самого предмета и с ним вместе «источник» его разумной
мотивации.
Между тем, из единства сущности всех этих актов
«снятия
по-
крова»
вытекает указание на
принципиальное
значение самих актов, как ис-
точников
либо самой первичной данности, либо еще незамеченных свойств
этой
первичной данности. В то же время именно в виду существенного
единства названного акта, все равно на какой
«стадии»
этого «снятия по-
крова», сам собою оправдывается наш метод обращения к
экземплификаци-
онному
приему, направленному, главным образом, на
«частную»,
но в на-
стоящее время животрепещущую проблему логического понятия и действи-
тельного многообразия.
Таким
образом, мы должны начать с того, чтобы напомнить в нес-
кольких словах данное в первой главе разъяснение феноменологического
ответа на вопрос о роли
интуиции,
так
как,
как указано, с него начинаем со-
бственную проблематику. Поводом остановиться на нем служит еще то об-
стоятельство, что
ответ,
по-видимому, остается неясным даже добросо-
вестным критикам феноменологии, и естественно ожидать, что и новые
проблемы
не
сразу
будут
усмотрены в их ясности и значении.
Феноменологии
ставится упрек, что она не решает вопрос об отно-
шении
чувственного и идеального предмета, поскольку это отношение есть
повторение старой проблемы об отношении индивидуального и общего.
Так,
напр.,
Астер, как мы видели
3
, считает
*
что из
двух
ответов, — ответ
Аристотеля и ответ Локка, — неприемлем ни один в силу неустойчивости
самой
позиции их; позиция Гуссерля устойчива, но запрещает спрашивать:
почему
там, где еще напрашивается этот вопрос, так как считает данность
чувственную и идеальную первоначальным фактом.
Мы
должны были обратить внимание на то, что этот упрек совер-
шенно
игнорирует смысл феноменологической редукции и возникает толь-
ко
из того, что автор упрека сам остается на психологической точке зрения.
Он
видит старое психологическое затруднение в установлении отношения
между
вещью и понятием
и
требует
психологического же его
решения.
Меж-
ду тем решение его может быть дано только на почве самой феноменоло-
гии,
так как не только идеальный предмет усматривается при эйдетической
установке, но и сущность его отношения к чувственному, как всякая сущ-
ность,
тоже
требует
той же эйдетической установки. И мы ее усматриваем в
изложенном
выше выделении в ноэме предмета и смысла, выделения, из ко-
торого
ясно,
как от просто «являющегося» мы приходим к уяснению того,
*
Аналогичный
смысл
имеет
замечание
Б. В.
Яковенко,
что для
выделения
чисто-ло-
гического
из
общего
феноменологического
переживания
необходимо,
чтобы
оно
как-то
было
«смешано»
или
стояло
там в
связи
с
психологическим.
«Философия
Эд.
Гуссерля»
в
Сборнике
3-м
«Новые
идеи
в
философии».
Стр. 143.
Думаю,
что мои за-
мечания
против
Астера
должны
разъяснить
и это
недоумение
Б. В.
4
322
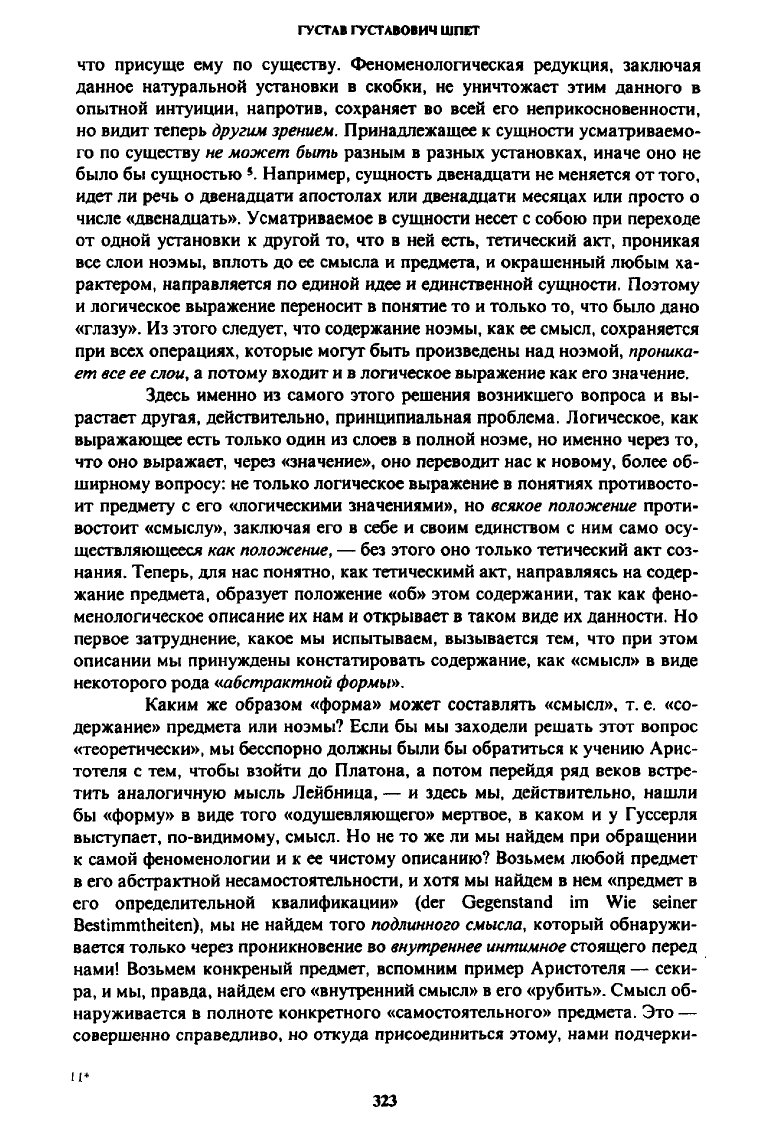
ГУСТАВ
ГУСТАВОВИЧ
ШПЕТ
что присуще ему по
существу.
Феноменологическая редукция, заключая
данное натуральной установки в скобки, не уничтожает этим данного в
опытной
интуиции, напротив, сохраняет во всей его неприкосновенности,
но
видит теперь
другим
зрением.
Принадлежащее к сущности усматриваемо-
го по
существу
не
может
быть
разным в разных установках, иначе оно не
было бы сущностью
5
.
Например,
сущность двенадцати не меняется от того,
идет ли речь о двенадцати апостолах или двенадцати месяцах или просто о
числе
«двенадцать».
Усматриваемое в сущности несет с собою при
переходе
от одной установки к
другой
то, что в ней есть, тетический акт, проникая
все слои ноэмы, вплоть до ее смысла и предмета, и окрашенный любым ха-
рактером, направляется по единой идее и единственной сущности. Поэтому
и
логическое выражение переносит в понятие то
и
только то, что было дано
«глазу».
Из
этого
следует,
что содержание
ноэмы,
как ее смысл, сохраняется
при
всех
операциях, которые
могут
быть произведены над
ноэмой,
проника-
ет все ее
слои,
а потому
входит
и
в логическое выражение как его значение.
Здесь именно из самого этого решения возникшего вопроса и вы-
растает
другая,
действительно, принципиальная проблема. Логическое, как
выражающее есть только один из слоев в полной
ноэме,
но именно через то,
что оно выражает, через «значение», оно переводит нас к новому, более об-
ширному
вопросу: не только логическое выражение в понятиях противосто-
ит предмету с его «логическими значениями», но
всякое
положение
проти-
востоит
«смыслу»,
заключая его в себе и своим единством с ним само осу-
ществляющееся как
положение,
— без этого оно только тетический акт соз-
нания.
Теперь, для нас
понятно,
как тетическимй акт, направляясь на содер-
жание предмета,
образует
положение
«об»
этом содержании, так как
фено-
менологическое
описание
их нам и открывает в таком виде их
данности.
Но
первое затруднение, какое мы испытываем, вызывается тем, что при этом
описании
мы принуждены констатировать содержание, как
«смысл»
в виде
некоторого
рода
«абстрактной
формы».
Каким
же образом
«форма»
может составлять
«смысл»,
т. е. «со-
держание»
предмета или ноэмы? Если бы мы заходели решать этот вопрос
«теоретически», мы бесспорно должны были бы обратиться к учению Арис-
тотеля с тем, чтобы взойти до Платона, а потом перейдя ряд веков встре-
тить аналогичную мысль Лейбница, — и здесь мы, действительно, нашли
бы
«форму»
в виде того
«одушевляющего»
мертвое, в каком и у Гуссерля
выступает, по-видимому, смысл. Но не то же ли мы найдем при обращении
к
самой феноменологии и к ее чистому описанию? Возьмем любой предмет
в
его абстрактной несамостоятельности, и
хотя
мы найдем в нем
«предмет
в
его определительной квалификации» (der Gegenstand im Wie seiner
Bestimmtheiten), мы не найдем того
подлинного
смысла,
который обнаружи-
вается только через
проникновение
во
внутреннее
интимное
стоящего перед
нами!
Возьмем конкреный предмет, вспомним пример Аристотеля — секи-
ра, и мы, правда, найдем его «внутренний
смысл»
в его
«рубить».
Смысл об-
наруживается в полноте конкретного «самостоятельного» предмета. Это —
совершенно
справедливо, но
откуда
присоединиться этому, нами подчерки-
323
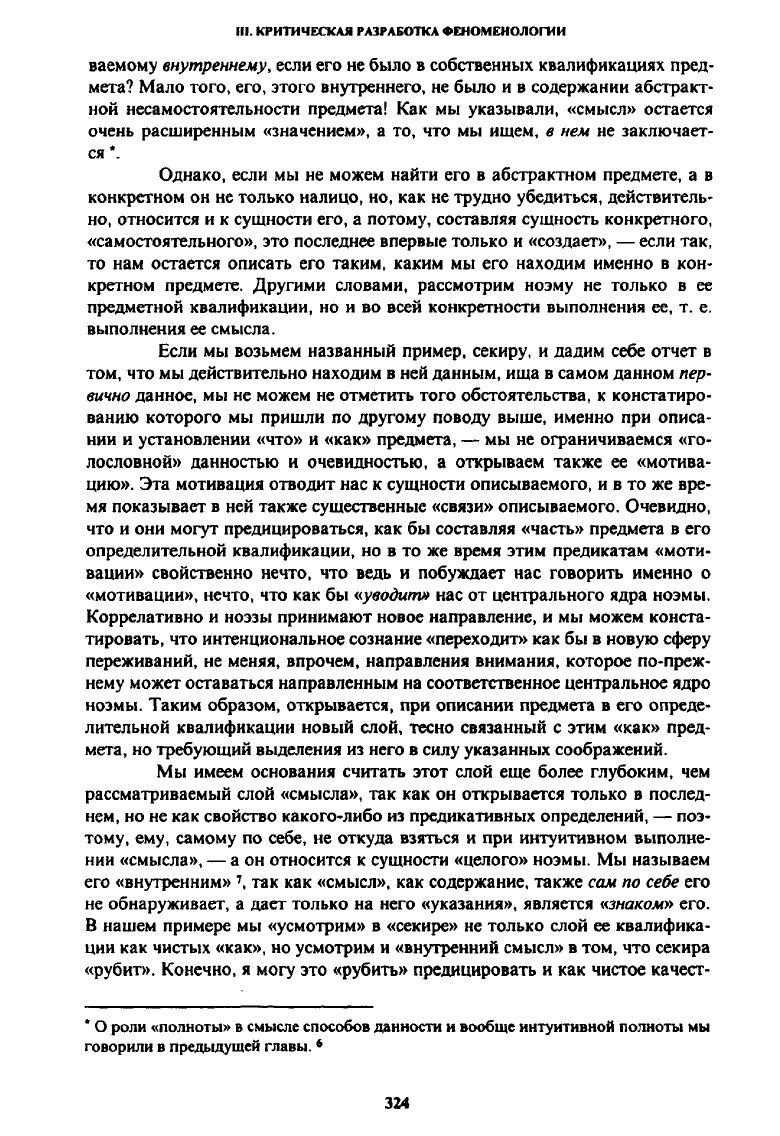
III.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
ваемому
внутреннему,
если его не было в собственных квалификациях пред-
мета?
Мало
того, его, этого внутреннего, не было и в содержании абстракт-
ной несамостоятельности предмета! Как мы указывали, «смысл»
остается
очень расширенным «значением», а то, что мы ищем, в нем не заключает-
ся*.
Однако,
если мы не можем найти его в абстрактном предмете, а в
конкретном он не только налицо, но, как не трудно убедиться, действитель-
но,
относится и к сущности его, а потому, составляя сущность конкретного,
«самостоятельного», это последнее
впервые
только и
«создает»,
— если так,
то
нам
остается
описать его таким, каким мы его находим именно в кон-
кретном предмете. Другими словами, рассмотрим ноэму не только в ее
предметной квалификации, но и во всей конкретности выполнения ее, т. е.
выполнения ее смысла.
Если
мы возьмем названный пример, секиру, и дадим
себе
отчет в
том,
что мы действительно находим в ней данным, ища в самом данном пер-
вично
данное, мы не можем не отметить того обстоятельства, к констатиро-
ванию которого мы
пришли
по другому поводу выше, именно при описа-
нии и установлении «что» и «как» предмета, — мы не ограничиваемся «го-
лословной» данностью и очевидностью, а открываем также ее «мотива-
цию». Эта мотивация отводит нас к сущности описываемого, и в то же вре-
мя показывает в ней также существенные «связи» описываемого. Очевидно,
что и они могут предицироваться, как бы составляя «часть» предмета в его
определительной квалификации, но в то же время этим предикатам «моти-
вации» свойственно нечто, что ведь и побуждает нас говорить именно о
«мотивации», нечто, что как бы «уводит» нас от центрального ядра ноэмы.
Коррелативно и ноэзы принимают новое направление, и мы можем конста-
тировать, что интенциональное сознание «переходит» как бы в новую сферу
переживаний, не меняя, впрочем, направления внимания, которое по-преж-
нему может оставаться направленным на соответственное центральное ядро
ноэмы. Таким образом, открывается, при описании предмета в его опреде-
лительной квалификации новый слой, тесно связанный с этим «как» пред-
мета,
но требующий выделения из него в силу указанных соображений.
Мы
имеем основания считать
этот
слой еще более глубоким, чем
рассматриваемый слой «смысла», так как он открывается только в послед-
нем, но не как свойство какого-либо из предикативных определений, — поэ-
тому, ему, самому по
себе,
не откуда взяться и при интуитивном выполне-
нии «смысла», — а он относится к сущности «целого» ноэмы. Мы называем
его
«внутренним»
7
, так как «смысл», как
содержание,
также
сам
по себе его
не обнаруживает, а дает только на него «указания», является «знаком» его.
В
нашем примере мы «усмотрим» в «секире» не только слой ее квалифика-
ции как чистых «как», но усмотрим и «внутренний смысл» в том, что секира
«рубит». Конечно, я могу это «рубить» предицировать и как чистое качест-
*
О
роли «полноты»
в
смысле
способов
данности
и
вообще
интуитивной полноты мы
говорили в предыдущей главы. '
324
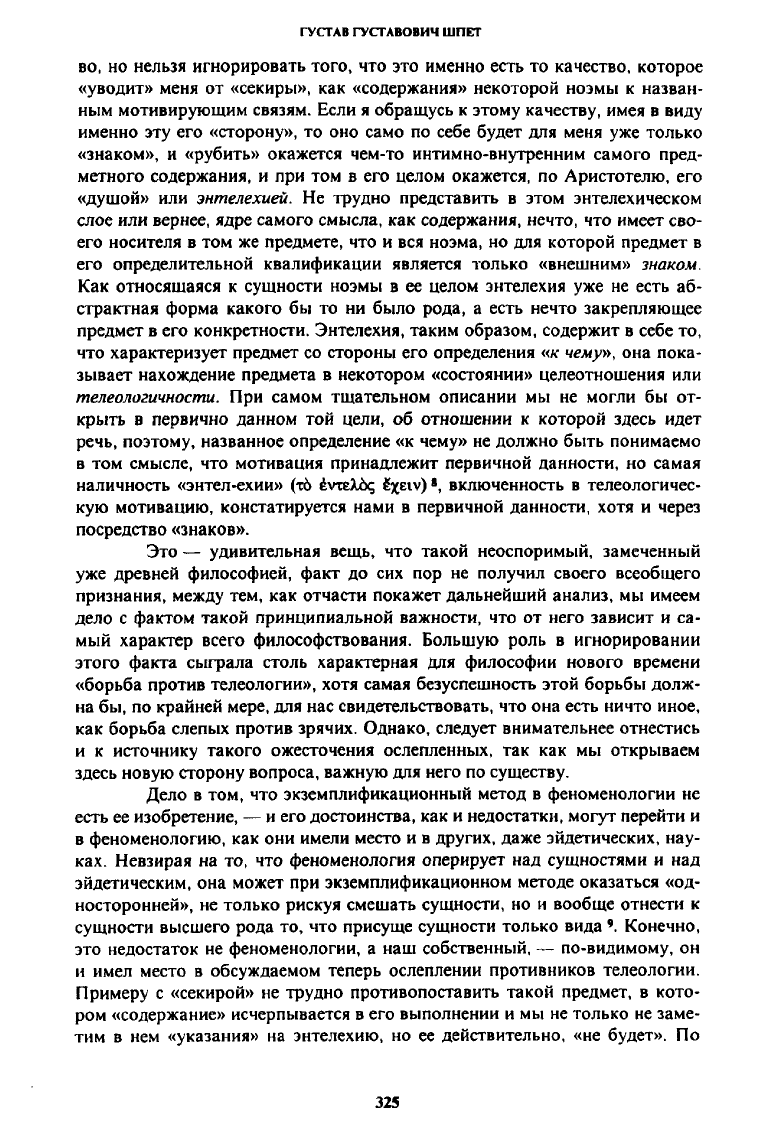
ГУСТАВ
ГУСТАВОВИЧ
ШПЕТ
во,
но нельзя игнорировать того, что это именно есть то качество, которое
«уводит»
меня от «секиры», как «содержания» некоторой ноэмы к назван-
ным
мотивирующим связям. Если я обращусь к этому качеству, имея в виду
именно
эту его
«сторону»,
то оно само по себе
будет
для меня уже только
«знаком», и
«рубить»
окажется чем-то интимно-внутренним самого пред-
метного содержания, и при том в его целом окажется, по Аристотелю, его
«душой»
или
энтелехией.
Не трудно представить в этом энтелехическом
слое или вернее, ядре самого смысла, как содержания, нечто, что имеет сво-
его носителя в том же предмете, что и вся ноэма, но для которой предмет в
его определительной квалификации является только «внешним»
знаком.
Как
относящаяся к сущности ноэмы в ее целом энтелехия уже не есть аб-
страктная форма какого бы то ни было рода, а есть нечто закрепляющее
предмет в его конкретности. Энтелехия, таким образом, содержит в себе то,
что характеризует предмет со стороны его определения «к
чему»,
она пока-
зывает нахождение предмета в некотором «состоянии» целеотношения или
телеологичности.
При самом тщательном описании мы не могли бы от-
крыть в первично данном той цели, об отношении к которой здесь идет
речь, поэтому, названное определение «к
чему»
не должно быть понимаемо
в
том смысле, что мотивация принадлежит первичной данности, но самая
наличность «энтел-ехии» (το
έντελός
έχειν)
·, включенность в телеологичес-
кую мотивацию, констатируется нами в первичной данности, хотя и через
посредство «знаков».
Это—
удивительная вещь, что такой неоспоримый, замеченный
уже древней философией, факт до сих пор не получил своего всеобщего
признания,
между
тем, как отчасти покажет дальнейший анализ, мы имеем
дело с фактом такой принципиальной важности, что от него зависит и са-
мый характер всего философствования. Большую роль в игнорировании
этого факта сыграла столь характерная для философии нового времени
«борьба
против телеологии», хотя самая безуспешность этой борьбы долж-
на
бы, по крайней мере, для нас свидетельствовать, что она есть ничто иное,
как
борьба слепых против зрячих. Однако,
следует
внимательнее отнестись
и
к источнику такого ожесточения ослепленных, так как мы открываем
здесь новую сторону вопроса, важную для него по
существу.
Дело в том, что экземплификационный метод в феноменологии не
есть ее изобретение, — и его достоинства, как и недостатки,
могут
перейти и
в
феноменологию, как они имели место и в
других,
даже эйдетических, нау-
ках. Невзирая на то, что феноменология оперирует над сущностями и над
эйдетическим, она может при экземплификационном методе оказаться «од-
носторонней», не только рискуя смешать сущности, но и вообще отнести к
сущности высшего рода то, что присуще сущности только вида '. Конечно,
это недостаток не феноменологии, а наш собственный, — по-видимому, он
и
имел место в обсуждаемом теперь ослеплении противников телеологии.
Примеру с «секирой» не трудно противопоставить такой предмет, в кото-
ром «содержание» исчерпывается в его выполнении и мы не только не заме-
тим в нем «указания» на энтелехию, но ее действительно, «не
будет».
По
325
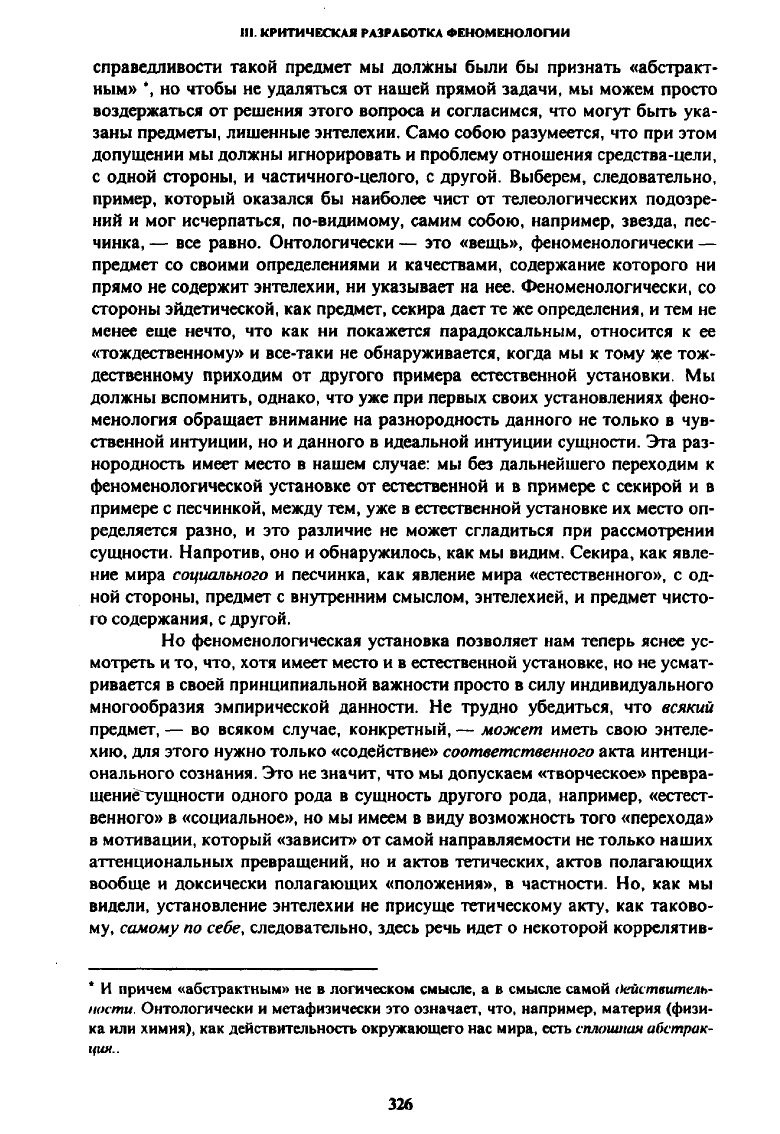
III.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
справедливости такой предмет мы должны были бы признать «абстракт-
ным»
*,
но чтобы не удаляться от нашей прямой задачи, мы можем просто
воздержаться от решения этого вопроса и согласимся, что могут быть ука-
заны предметы,
лишенные
энтелехии. Само
собою
разумеется, что при этом
допущении мы должны
игнорировать
и проблему отношения средства-цели,
с
одной стороны, и частичного-целого, с другой. Выберем, следовательно,
пример, который оказался бы наиболее чист от телеологических подозре-
ний и мог исчерпаться, по-видимому, самим
собою,
например, звезда, пес-
чинка,
— все равно. Онтологически — это «вещь», феноменологически —
предмет со своими определениями и качествами, содержание которого ни
прямо
не содержит энтелехии, ни указывает на нее. Феноменологически, со
стороны эйдетической, как предмет, секира дает те же определения, и тем не
менее еще нечто, что как ни покажется парадоксальным, относится к ее
«тождественному» и все-таки не обнаруживается, когда мы к тому же тож-
дественному приходим от другого примера естественной установки. Мы
должны вспомнить, однако, что уже при первых своих установлениях
фено-
менология обращает
внимание
на разнородность данного не только в чув-
ственной интуиции, но и данного в идеальной интуиции сущности. Эта раз-
нородность имеет место в нашем случае: мы без дальнейшего переходим к
феноменологической установке от естественной и в примере с секирой и в
примере с песчинкой, между тем, уже в естественной установке их место оп-
ределяется
разно, и это различие не может сгладиться при рассмотрении
сущности. Напротив, оно и обнаружилось, как мы видим. Секира, как явле-
ние
мира
социального и песчинка, как явление
мира
«естественного», с од-
ной стороны, предмет с
внутренним
смыслом, энтелехией, и предмет чисто-
го содержания, с другой.
Но
феноменологическая установка позволяет нам теперь яснее ус-
мотреть и то, что, хотя имеет место и в естественной установке, но не усмат-
ривается в своей
принципиальной
важности просто в силу индивидуального
многообразия эмпирической данности. Не трудно убедиться, что всякий
предмет, — во всяком случае, конкретный, — может иметь свою энтеле-
хию,
для этого нужно только «содействие»
соответственного
акта интенци-
онального сознания. Это не значит, что мы допускаем «творческое» превра-
щение сущности одного рода в сущность другого рода, например,
«естест-
венного» в «социальное», но мы имеем в виду возможность того «перехода»
в мотивации, который «зависит» от самой направляемости не только наших
аттенциональных превращений, но и актов тетических, актов полагающих
вообще и доксически полагающих «положения», в частности. Но, как мы
видели, установление энтелехии не присуще тетическому акту, как таково-
му,
самому
по себе, следовательно, здесь
речь
идет о некоторой коррелятив-
*
И
причем «абстрактным» не в логическом смысле, а в смысле самой
<кшствитель-
пости.
Онтологически и метафизически
это
означает,
что, например, материя
(физи-
ка или химия), как действительность окружающего нас мира,
есть
сплошная
абстрак-
ция..
326
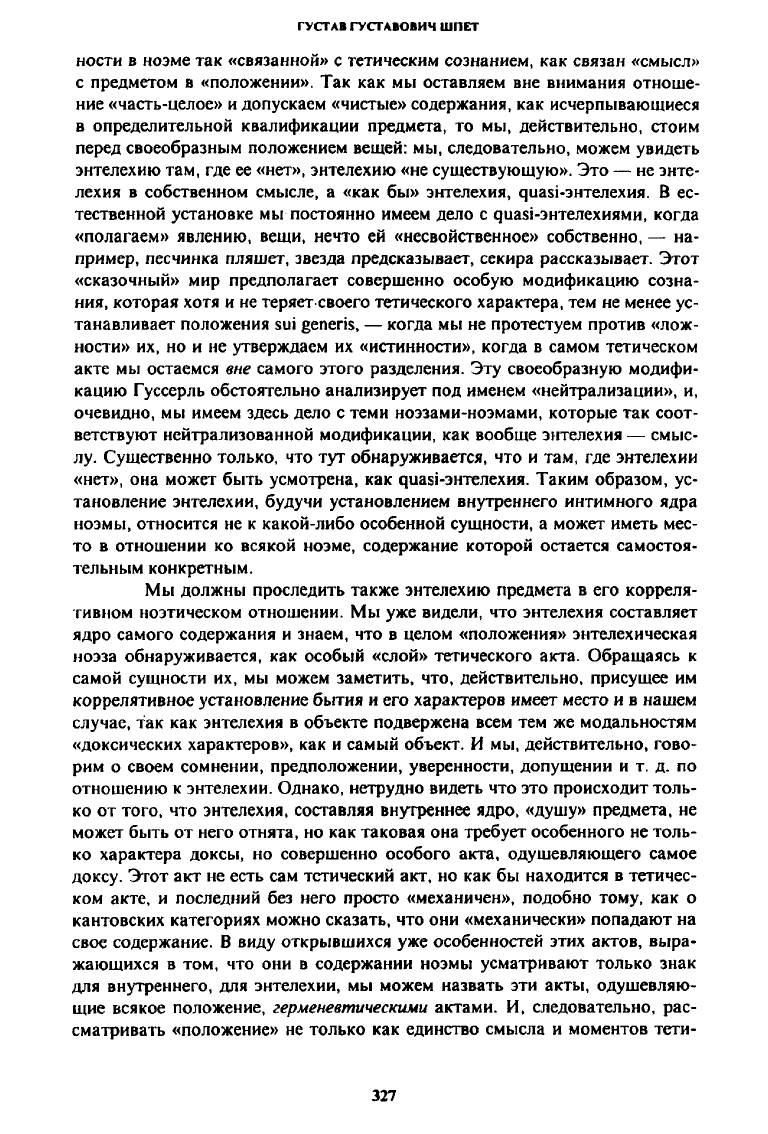
ГУСТАВ
ГУСТАВОВИЧ
ШПЕТ
ности
в ноэме так «связанной» с тетическим сознанием, как связан
«смысл»
с
предметом в «положении». Так как мы оставляем вне внимания отноше-
ние
«часть-целое»
и
допускаем
«чистые»
содержания, как исчерпывающиеся
в
определительной квалификации предмета, то мы, действительно, стоим
перед своеобразным положением вещей: мы, следовательно, можем увидеть
энтелехию там, где ее
«нет»,
энтелехию «не
существующую».
Это — не энте-
лехия в собственном смысле, а «как бы» энтелехия, quasi-энтелехия. В ес-
тественной установке мы постоянно имеем дело с quasi-энтелехиями, когда
«полагаем»
явлению, вещи, нечто ей «несвойственное» собственно, — на-
пример,
песчинка пляшет, звезда предсказывает, секира рассказывает. Этот
«сказочный» мир предполагает совершенно особую модификацию созна-
ния,
которая хотя и
не
теряет своего тетического характера, тем не менее ус-
танавливает положения sui generis, — когда мы не протестуем против
«лож-
ности» их, но и не утверждаем их «истинности», когда в самом тетическом
акте мы остаемся вне самого этого разделения. Эту своеобразную модифи-
кацию
Гуссерль обстоятельно анализирует под именем «нейтрализации», и,
очевидно, мы имеем здесь дело с теми
ноэзами-ноэмами,
которые так соот-
ветствуют
нейтрализованной модификации, как вообще энтелехия — смыс-
лу. Существенно только, что тут обнаруживается, что и там, где энтелехии
«нет»,
она может быть усмотрена, как quasi-энтелехия. Таким образом, ус-
тановление энтелехии,
будучи
установлением внутреннего интимного ядра
ноэмы,
относится не к какой-либо особенной сущности, а может иметь мес-
то в отношении ко всякой ноэме, содержание которой остается самостоя-
тельным конкретным.
Мы
должны проследить также энтелехию предмета в его корреля-
тивном
ноэтическом отношении. Мы уже видели, что энтелехия составляет
ядро самого содержания и знаем, что в целом «положения» энтелехическая
ноэза
обнаруживается, как особый
«слой»
тетического акта. Обращаясь к
самой
сущности их, мы можем заметить, что, действительно, присущее им
коррелятивное
установление бытия
и
его характеров имеет место и в нашем
случае, так как энтелехия в объекте подвержена всем тем же модальностям
«доксических характеров», как и самый объект. И мы, действительно, гово-
рим
о своем сомнении, предположении, уверенности, допущении и т. д. по
отношению
к энтелехии. Однако, нетрудно видеть что это происходит толь-
ко
от того, что энтелехия, составляя внутреннее ядро,
«душу»
предмета, не
может быть от него отнята, но как таковая она
требует
особенного не толь-
ко
характера доксы, но совершенно особого акта, одушевляющего самое
доксу. Этот акт не есть сам тстический акт, но как бы находится в тетичес-
ком
акте, и последний без него просто «механичен», подобно тому, как о
кантовских
категориях можно сказать, что они «механически» попадают на
свое содержание. В виду открывшихся уже особенностей этих актов, выра-
жающихся в том, что они в содержании ноэмы усматривают только
знак
для внутреннего, для энтелехии, мы можем назвать эти акты, одушевляю-
щие
всякое положение,
герменевтическими
актами. И, следовательно, рас-
сматривать «положение» не только как единство смысла и моментов тети-
327
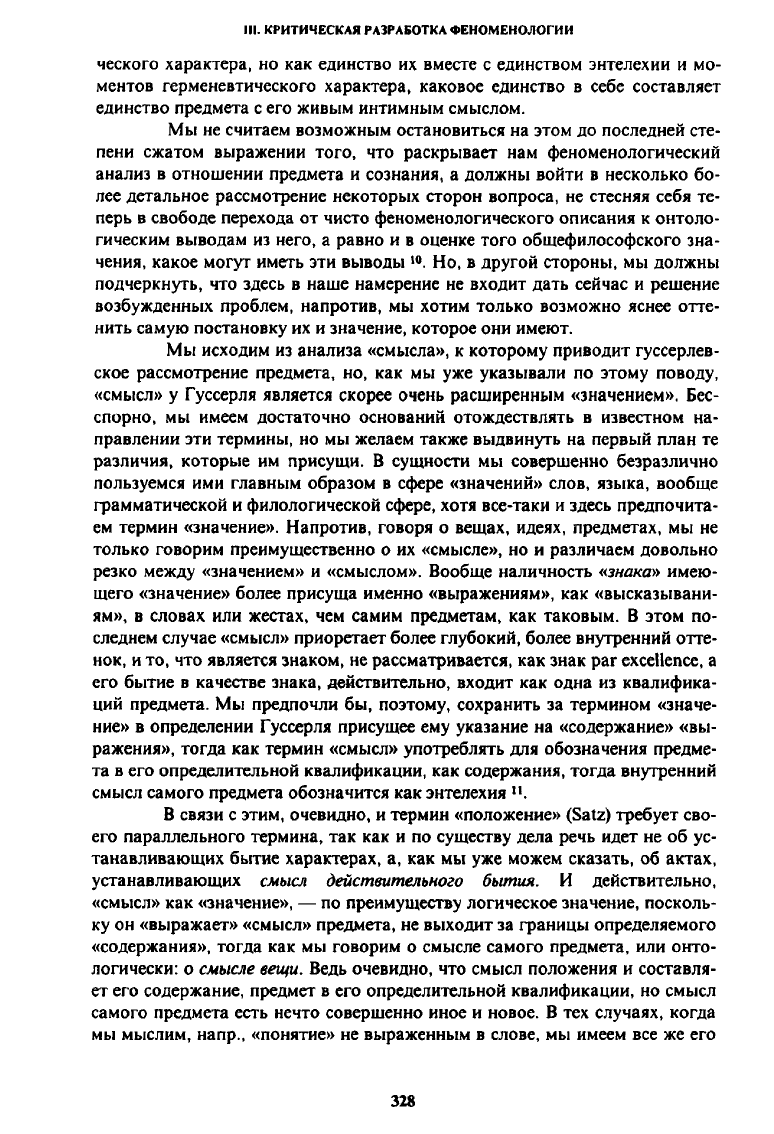
III.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
ческого характера, но как единство их вместе с единством энтелехии и мо-
ментов герменевтического характера, каковое единство в себе составляет
единство предмета с его живым интимным смыслом.
Мы
не считаем возможным остановиться на этом до последней сте-
пени
сжатом выражении того, что раскрывает нам феноменологический
анализ
в отношении предмета и
сознания,
а должны войти в несколько бо-
лее детальное рассмотрение некоторых сторон вопроса, не стесняя себя те-
перь
в свободе перехода от чисто феноменологического описания к онтоло-
гическим выводам из него, а равно и в оценке того общефилософского зна-
чения,
какое
могут
иметь эти выводы
10
. Но, в другой стороны, мы должны
подчеркнуть, что здесь в наше намерение не входит дать сейчас и решение
возбужденных проблем, напротив, мы хотим только возможно яснее отте-
нить
самую постановку их и
значение,
которое они имеют.
Мы
исходим из анализа «смысла», к которому приводит гуссерлев-
ское
рассмотрение предмета, но, как мы уже указывали по этому поводу,
«смысл»
у Гуссерля является скорее очень расширенным «значением». Бес-
спорно,
мы имеем достаточно оснований отождествлять в известном на-
правлении
эти термины, но мы желаем также выдвинуть на первый план те
различия,
которые им присущи. В сущности мы совершенно безразлично
пользуемся ими главным образом в сфере «значений» слов, языка, вообще
грамматической
и
филологической сфере, хотя все-таки и здесь предпочита-
ем термин «значение». Напротив, говоря о вещах, идеях, предметах, мы не
только говорим преимущественно о их «смысле», но и различаем довольно
резко
между
«значением» и «смыслом». Вообще наличность
«знака»
имею-
щего «значение» более присуща именно «выражениям», как «высказывани-
ям», в словах или
жестах,
чем самим предметам, как таковым. В этом по-
следнем
случае
«смысл»
приоретает более глубокий, более внутренний отте-
нок,
и
то, что является
знаком,
не рассматривается, как
знак
par excellence, a
его бытие в качестве знака, действительно, входит как одна из квалифика-
ций
предмета. Мы предпочли бы, поэтому, сохранить за термином «значе-
ние» в определении Гуссерля присущее ему указание на «содержание» «вы-
ражения»,
тогда
как термин
«смысл»
употреблять для обозначения предме-
та в его определительной
квалификации,
как содержания,
тогда
внутренний
смысл самого предмета обозначится как энтелехия
и
.
В связи с
этим,
очевидно, и термин «положение» (Satz)
требует
сво-
его параллельного термина, так как и по существу дела речь идет не об ус-
танавливающих бытие характерах, а, как мы уже можем сказать, об актах,
устанавливающих
смысл
действительного
бытия.
И действительно,
«смысл»
как «значение», — по преимуществу логическое
значение,
посколь-
ку он
«выражает»
«смысл»
предмета, не выходит за границы определяемого
«содержания»,
тогда
как мы говорим о смысле самого предмета, или онто-
логически: о
смысле
вещи.
Ведь
очевидно, что смысл положения и составля-
ет его содержание, предмет в его определительной
квалификации,
но смысл
самого предмета есть нечто совершенно иное и новое. В тех случаях, когда
мы
мыслим,
напр.,
«понятие» не выраженным в слове, мы имеем все же его
328
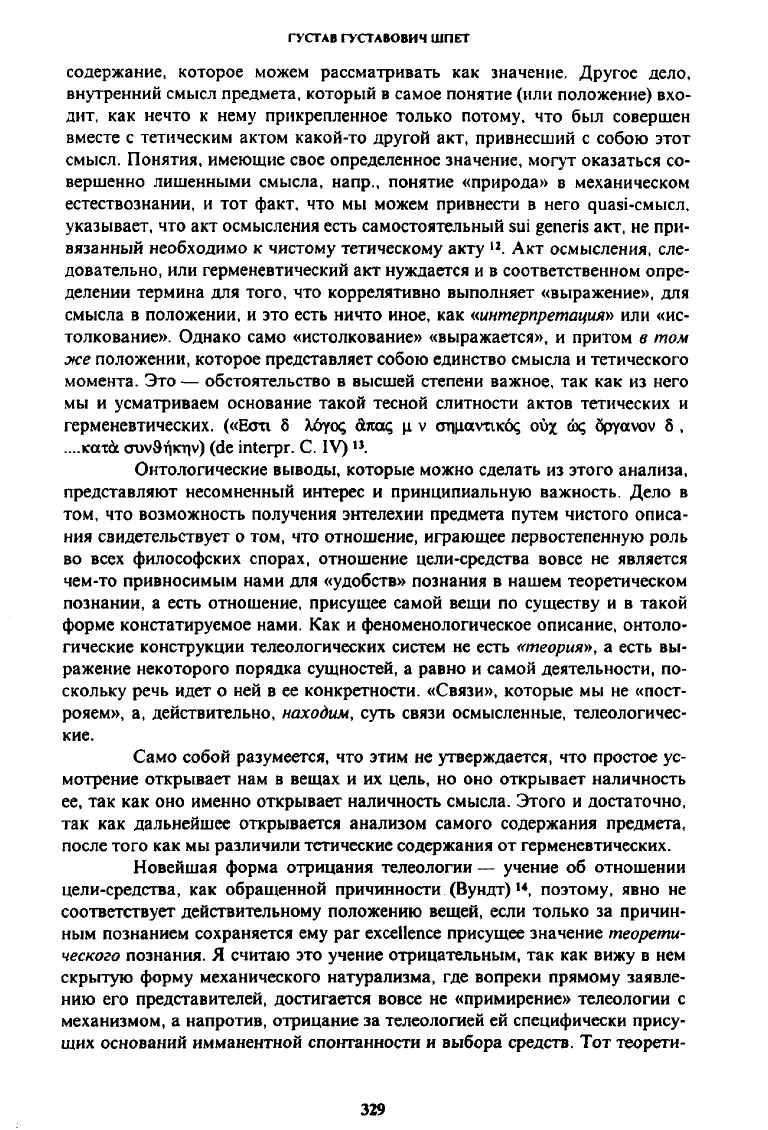
ГУСТАВ
ГУСТАВОВИЧ
ШЛЕТ
содержание, которое можем рассматривать как значение.
Другое
дело,
внутренний
смысл предмета, который в самое понятие (или положение) вхо-
дит, как нечто к нему прикрепленное только потому, что был совершен
вместе с тетическим актом какой-то
другой
акт, привнесший с собою этот
смысл.
Понятия,
имеющие свое определенное значение,
могут
оказаться со-
вершенно
лишенными смысла,
напр.,
понятие
«природа»
в механическом
естествознании,
и тот факт, что мы можем привнести в него quasi-смысл,
указывает, что акт осмысления есть самостоятельный sut
generis
акт, не при-
вязанный
необходимо к чистому тетическому акту
12
. Акт осмысления, сле-
довательно, или герменевтический акт нуждается и в соответственном опре-
делении термина для того, что коррелятивно выполняет «выражение», для
смысла в положении, и это есть ничто иное, как
«интерпретация»
или «ис-
толкование». Однако само «истолкование»
«выражается»,
и притом в том
же
положении,
которое представляет собою единство смысла
и
тетического
момента. Это — обстоятельство в высшей степени важное, так как из него
мы
и усматриваем основание такой тесной слитности актов тетических и
герменевтических.
(«Εστί
δ λόγος
άπας
μ ν
σημαντικός
ούχ ώς όργανον δ ,
....κατά
συνθήκην)
(de interpr. С. IV)
13
.
Онтологические выводы, которые можно сделать из этого анализа,
представляют несомненный интерес и принципиальную важность. Дело в
том, что возможность получения энтелехии предмета
путем
чистого описа-
ния
свидетельствует
о том, что
отношение,
играющее первостепенную роль
во
всех
философских спорах, отношение цели-средства вовсе не является
чем-то привносимым нами для
«удобств»
познания в нашем теоретическом
познании,
а есть отношение, присущее самой вещи по
существу
и в такой
форме
констатируемое нами. Как и феноменологическое
описание,
онтоло-
гические конструкции телеологических систем не есть
«теория»,
а есть вы-
ражение некоторого порядка сущностей, а равно и самой деятельности, по-
скольку речь идет о ней в ее конкретности. «Связи», которые мы не
«пост-
рояем», а, действительно,
находим,
суть
связи осмысленные, телеологичес-
кие.
Само
собой разумеется, что этим не
утверждается,
что простое ус-
мотрение открывает нам в вещах и их цель, но оно открывает наличность
ее,
так как оно именно открывает наличность смысла. Этого и достаточно,
так
как дальнейшее открывается анализом самого содержания предмета,
после того как мы различили тетические содержания от герменевтических.
Новейшая
форма отрицания телеологии— учение об отношении
цели-средства, как обращенной причинности
(Вундт)
и
, поэтому, явно не
соответствует
действительному положению вещей, если только за причин-
ным
познанием сохраняется ему par
excellence
присущее значение
теорети-
ческого
познания.
Я считаю это учение отрицательным, так как вижу в нем
скрытую форму механического натурализма, где вопреки прямому заявле-
нию
его представителей, достигается вовсе не «примирение» телеологии с
механизмом, а напротив, отрицание за телеологией ей специфически прису-
щих оснований имманентной спонтанности и выбора средств. Тот теорети-
329
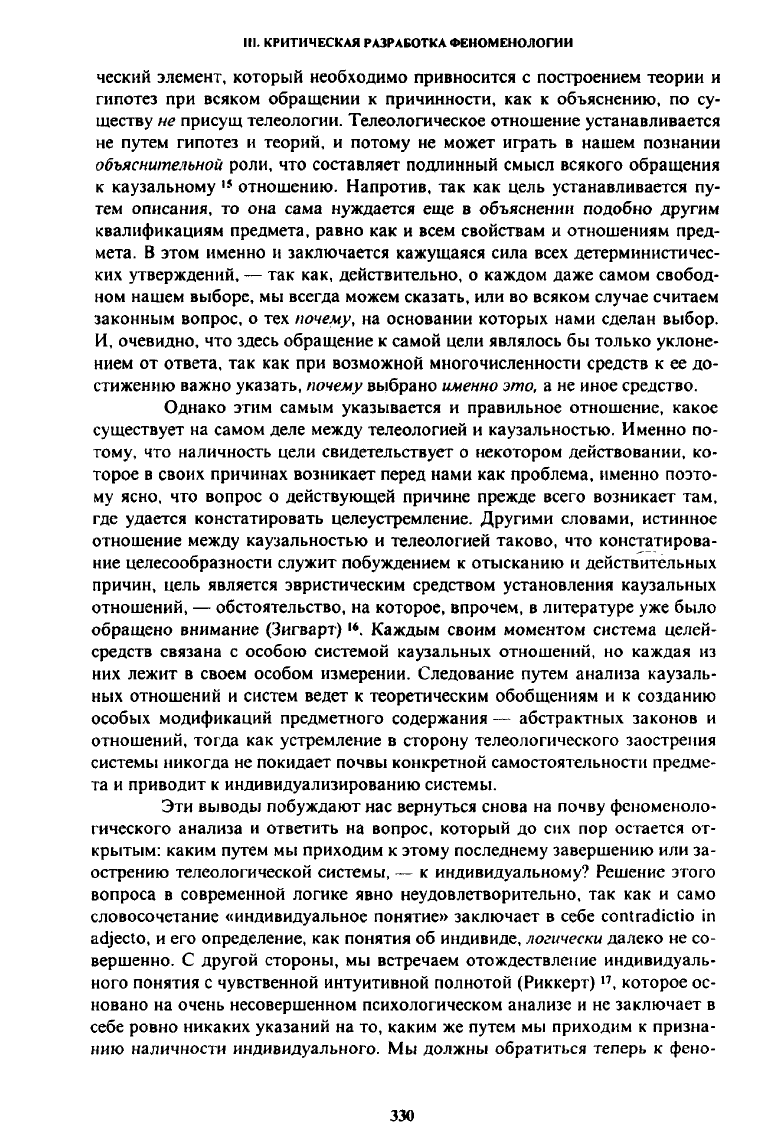
III.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
ческий
элемент, который необходимо привносится
с
построением теории
и
гипотез
при
всяком обращении
к
причинности,
как к
объяснению,
по су-
ществу
не
присущ телеологии. Телеологическое отношение устанавливается
не
путем
гипотез
и
теорий,
и
потому
не
может играть
в
нашем познании
объяснительной
роли,
что
составляет подлинный смысл всякого обращения
к
каузальному
|5
отношению. Напротив,
так как
цель устанавливается
пу-
тем описания,
то она
сама нуждается
еще в
объяснении подобно
другим
квалификациям
предмета, равно
как и
всем свойствам
и
отношениям пред-
мета.
В
этом именно
и
заключается кажущаяся сила
всех
детерминистичес-
ких утверждений,
— так
как, действительно,
о
каждом
даже
самом свобод-
ном
нашем выборе, мы
всегда
можем сказать, или
во
всяком
случае
считаем
законным
вопрос,
о тех
почему,
на
основании которых нами сделан выбор.
И,
очевидно,
что
здесь обращение к самой цели являлось
бы
только уклоне-
нием
от
ответа,
так как при
возможной многочисленности средств
к ее до-
стижению важно указать,
почему
выбрано
именно
это,
а
не иное средство.
Однако
этим самым указывается
и
правильное отношение, какое
существует
на
самом
деле
между
телеологией
и
каузальностью. Именно
по-
тому,
что
наличность цели
свидетельствует
о
некотором действовании,
ко-
торое
в
своих причинах возникает перед нами как проблема, именно поэто-
му
ясно,
что
вопрос
о
действующей причине прежде всего возникает
там,
где
удается
констатировать целеустремление. Другими словами, истинное
отношение
между
каузальностью
и
телеологией таково,
что
констатирова-
ние
целесообразности
служит
побуждением
к
отысканию и действительных
причин,
цель является эвристическим средством установления каузальных
отношений,
—
обстоятельство,
на
которое, впрочем,
в
литературе
уже
было
обращено внимание (Зигварт)
|6
. Каждым своим моментом система целей-
средств связана
с
особою системой каузальных отношений,
но
каждая
из
них
лежит
в
своем особом измерении. Следование
путем
анализа каузаль-
ных отношений
и
систем
ведет
к
теоретическим обобщениям
и к
созданию
особых модификаций предметного содержания
—
абстрактных законов
и
отношений,
тогда
как
устремление
в
сторону телеологического заострения
системы никогда не покидает почвы конкретной самостоятельности предме-
та и приводит к индивидуализированию системы.
Эти
выводы
побуждают
нас вернуться снова
на
почву феноменоло-
гического анализа
и
ответить
на
вопрос, который
до сих пор
остается
от-
крытым:
каким
путем
мы приходим к этому последнему завершению или
за-
острению телеологической системы,
— к
индивидуальному? Решение этого
вопроса
в
современной логике явно неудовлетворительно,
так как и
само
словосочетание «индивидуальное понятие» заключает
в
себе contradictio
in
adjecto, и
его
определение, как понятия
об
индивиде,
логически
далеко не со-
вершенно.
С
другой
стороны,
мы
встречаем отождествление индивидуаль-
ного понятия
с
чувственной интуитивной полнотой
(Риккерт)
|7
,
которое ос-
новано
на
очень несовершенном психологическом анализе и не заключает
в
себе ровно никаких указаний на то, каким
же
путем
мы
приходим
к
призна-
нию
наличности индивидуального. Мы должны обратиться теперь
к
фено-
330
