Чубаров И.М. (ред., сост.) Антология феноменологической философии в России
Подождите немного. Документ загружается.

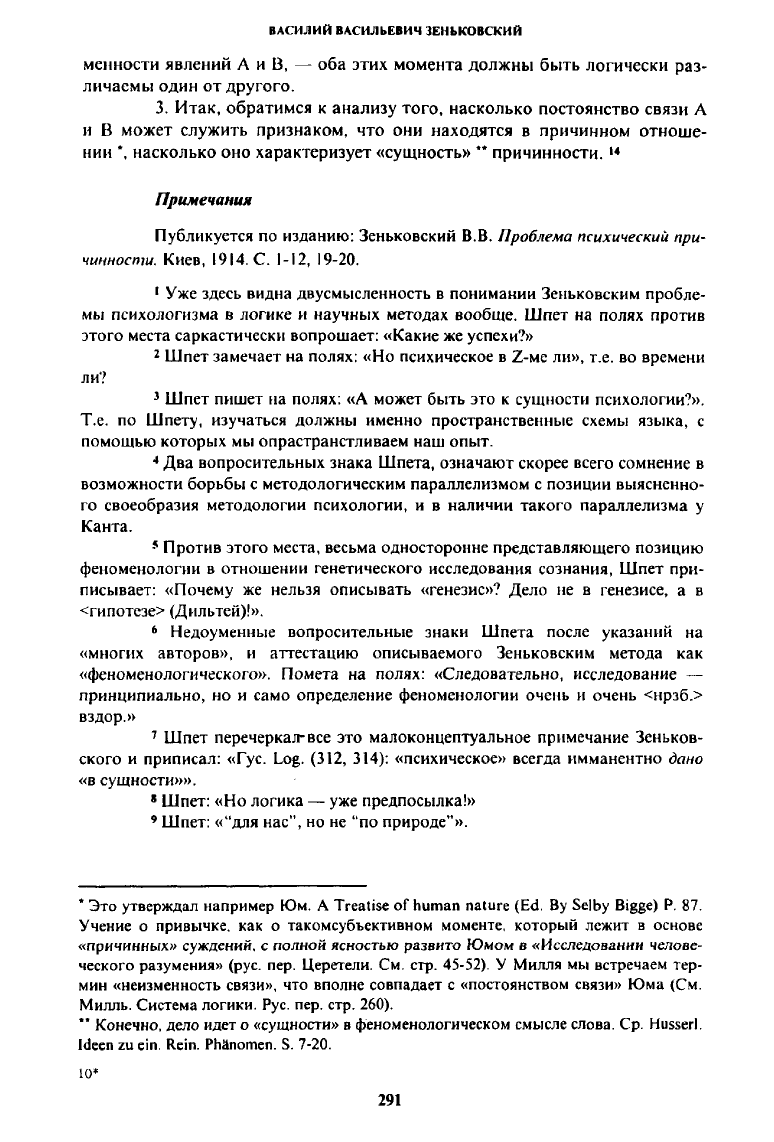
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЗЕНЬКОВСКИЙ
менности
явлений
А и В, — оба
этих
момента
должны
быть
логически
раз-
личаемы
один
от
другого.
3.
Итак,
обратимся
к
анализу
того,
насколько
постоянство
связи
А
и В
может
служить
признаком,
что они
находятся
в
причинном
отноше-
нии *,
насколько
оно
характеризует
«сущность»
**
причинности.
u
Примечания
Публикуется по изданию: Зеньковский В.В.
Проблема
психический
при-
чинности.
Киев, 1914. С. 1-12,
19-20.
1
Уже здесь видна двусмысленность в понимании Зеньковским пробле-
мы психологизма в логике и научных методах вообще. Шпет на полях против
этого места саркастически вопрошает: «Какие же
успехи?»
2
Шпет замечает на полях: «Но психическое в Z-ме ли», т.е. во времени
ли?
3
Шпет пишет на полях: «А может быть это к сущности психологии?».
Т.е. по Шпету, изучаться должны именно пространственные схемы языка, с
помощью которых мы опрастранстливаем наш опыт.
4
Два вопросительных знака Шпета, означают скорее всего сомнение в
возможности борьбы с методологическим параллелизмом с позиции выясненно-
го своеобразия методологии психологии, и в наличии такого параллелизма у
Канта.
5
Против этого места, весьма односторонне представляющего позицию
феноменологии
в отношении генетического исследования сознания, Шпет при-
писывает: «Почему же нельзя описывать
«генезис»?
Дело не в генезисе, а в
<гипотезе> (Дильтей)!».
6
Недоуменные вопросительные знаки Шпета после указаний на
«многих авторов», и аттестацию описываемого Зеньковским метода как
«феноменологического». Помета на полях: «Следовательно, исследование —
принципиально,
но и само определение феноменологии очень и очень <нрзб.>
вздор.»
7
Шпет перечеркал-все это малоконцептуальное примечание Зеньков-
ского и приписал:
«Гус.
Log. (312, 314): «психическое»
всегда
имманентно
дано
«в сущности»».
8
Шпет: «Но логика — уже предпосылка!»
9
Шпет:
«"для
нас", но не "по природе"».
* Это
утверждал
например Юм. A Treatise of human nature (Ed. By
Selby
Bigge)
P. 87.
Учение о привычке, как о такомсубъективном моменте, который лежит в основе
«причинных» суждений, с полной ясностью развито Юмом в «Исследовании челове-
ческого разумения» (рус. пер. Церетели. См. стр. 45-52). У Милля мы встречаем тер-
мин
«неизменность связи», что вполне совпадает с «постоянством связи» Юма (См.
Милль.
Система
логики.
Рус. пер. стр. 260).
"
Конечно,
дело идет о
«сущности»
в феноменологическом смысле слова. Ср. Husserl.
Ideen
zu ein. Rein.
Phänomen.
S. 7-20.
10*
291
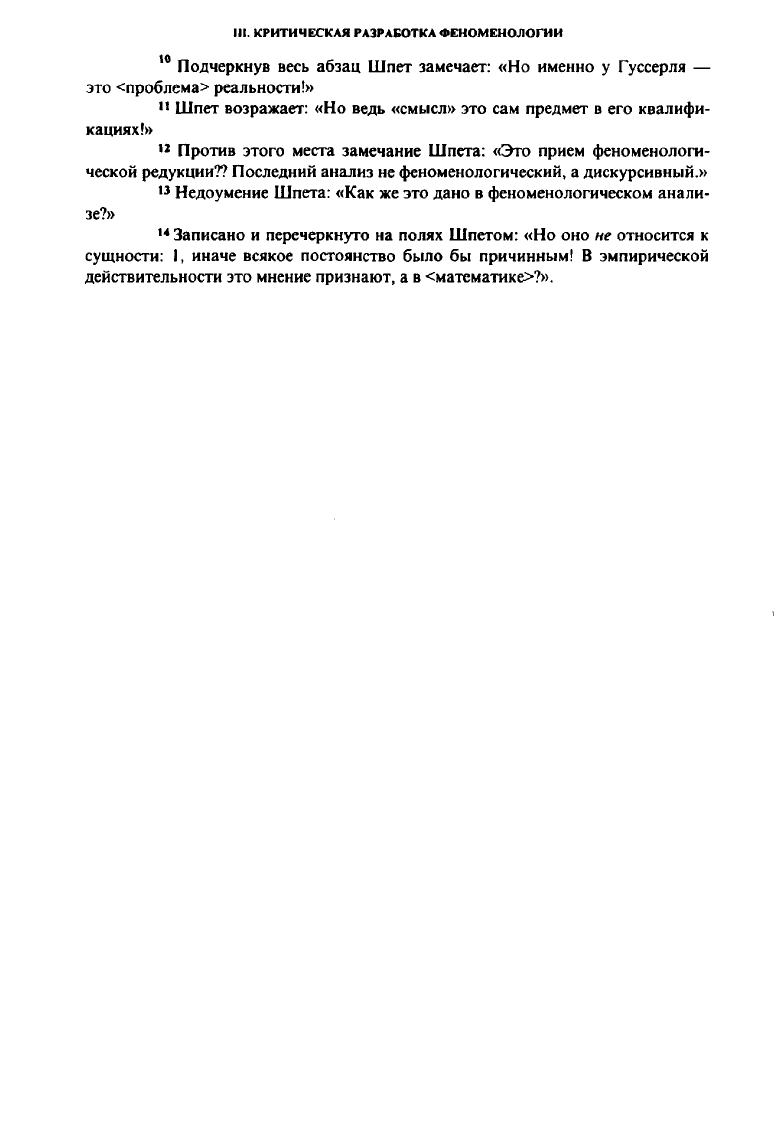
III.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
Подчеркнув весь абзац Шпет замечает: «Но именно у Гуссерля —
это <проблема> реальности!»
11
Шпет возражает: «Но ведь
«смысл»
это сам предмет в его квалифи-
кациях!»
12
Против этого места замечание Шпета:
«Это
прием феноменологи-
ческой редукции?? Последний анализ не феноменологический, а дискурсивный.»
13
Недоумение Шпета: «Как же это дано в феноменологическом анали-
зе?»
14
Записано и перечеркнуто на полях Шпетом: «Но оно не относится к
сущности: I, иначе всякое постоянство было бы причинным! В эмпирической
действительности это мнение признают, а в <математике>?».
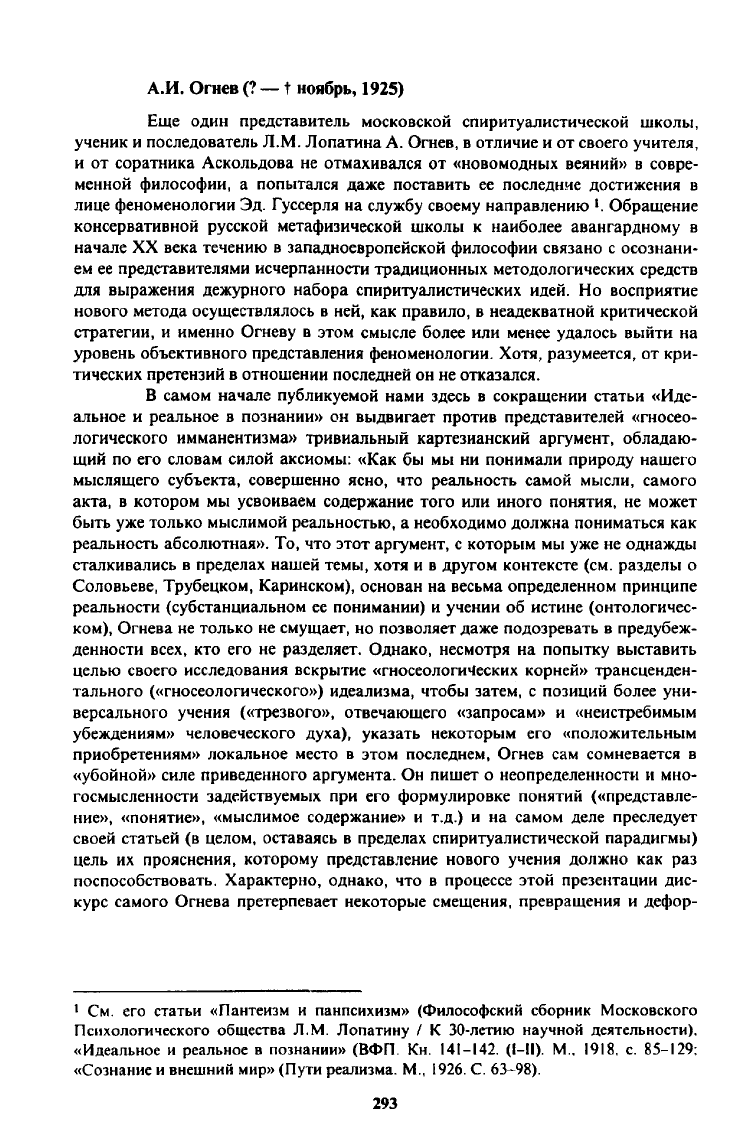
А.И.
Огнев
(?
— t ноябрь, 1925)
Еще один представитель московской спиритуалистической школы,
ученик и последователь Л.М. Лопатина А. Огнев,
в
отличие и
от
своего учителя,
и
от
соратника Аскольдова
не
отмахивался
от
«новомодных веяний»
в
совре-
менной
философии,
а
попытался
даже
поставить
ее
последние достижения
в
лице феноменологии Эд. Гуссерля на
службу
своему направлению
·.
Обращение
консервативной русской метафизической школы
к
наиболее авангардному
в
начале
XX
века течению
в
западноевропейской философии связано
с
осознани-
ем
ее
представителями исчерпанности традиционных методологических средств
для выражения дежурного набора спиритуалистических идей.
Но
восприятие
нового метода осуществлялось
в
ней, как правило,
в
неадекватной критической
стратегии,
и
именно Огневу
в
этом смысле более
или
менее
удалось
выйти
на
уровень объективного представления феноменологии. Хотя, разумеется,
от
кри-
тических претензий
в
отношении последней он не отказался.
В самом начале публикуемой нами здесь
в
сокращении статьи «Иде-
альное
и
реальное
в
познании»
он
выдвигает против представителей «гносео-
логического имманентизма» тривиальный картезианский аргумент, обладаю-
щий
по его
словам силой аксиомы: «Как
бы мы ни
понимали природу нашего
мыслящего субъекта, совершенно
ясно,
что
реальность самой мысли, самого
акта,
в
котором
мы
усвоиваем содержание того
или
иного
понятия,
не
может
быть
уже
только мыслимой реальностью,
а
необходимо должна пониматься как
реальность абсолютная». То, что этот аргумент,
с
которым мы
уже
не однажды
сталкивались
в
пределах нашей темы, хотя
и в
другом
контексте (см. разделы
о
Соловьеве, Трубецком,
Каринском),
основан
на
весьма определенном принципе
реальности (субстанциальном
ее
понимании)
и
учении
об
истине (онтологичес-
ком),
Огнева не только не смущает, но позволяет
даже
подозревать
в
предубеж-
денности
всех,
кто его не
разделяет. Однако, несмотря
на
попытку выставить
целью своего исследования вскрытие «гносеологических корней» трансценден-
тального («гносеологического») идеализма, чтобы затем,
с
позиций более уни-
версального учения
(«трезвого»,
отвечающего
«запросам»
и
«неистребимым
убеждениям» человеческого
духа),
указать некоторым
его
«положительным
приобретениям» локальное место
в
этом последнем, Огнев
сам
сомневается
в
«убойной»
силе приведенного аргумента. Он пишет
о
неопределенности
и
мно-
госмысленности задействуемых
при его
формулировке понятий («представле-
ние», «понятие», «мыслимое содержание»
и т.д.) и на
самом
деле
преследует
своей статьей
(в
целом, оставаясь
в
пределах спиритуалистической парадигмы)
цель
их
прояснения, которому представление нового учения должно
как раз
поспособствовать. Характерно, однако,
что в
процессе этой презентации
дис-
курс самого Огнева претерпевает некоторые смещения, превращения
и
дефор-
1
См. его
статьи «Пантеизм
и
панпсихизм» (Философский сборник Московского
Психологического общества Л.М. Лопатину
/ К
30-летию научной деятельности).
«Идеальное
и
реальное
в
познании» (ВФП. Кн.
141-142.
(1-И).
М., 1918, с.
85-129;
«Сознание
и
внешний
мир»
(Пути реализма. М., 1926. С. 63-98).
293
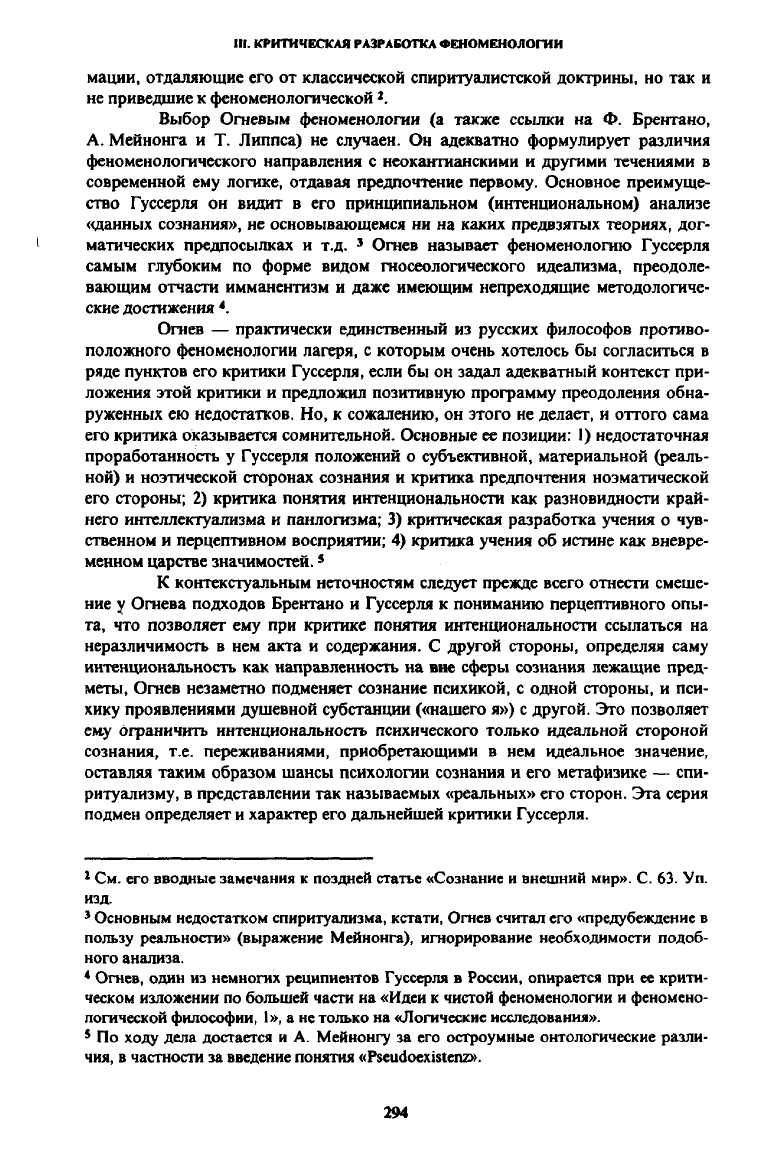
III.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
мации,
отдаляющие его от классической спиритуалистской доктрины, но так и
не
приведшие к феноменологической
2
.
Выбор Огневым феноменологии (а также ссылки на Ф. Брентано,
А. Мейнонга и Т. Липпса) не случаен. Он адекватно формулирует различия
феноменологического направления с неокантианскими и другими течениями в
современной ему логике, отдавая предпочтение первому. Основное преимуще-
ство Гуссерля он видит в его принципиальном (интенциональном) анализе
«данных сознания», не основывающемся ни на каких предвзятых теориях, дог-
матических предпосылках и т.д.
3
Огнев называет феноменологию Гуссерля
самым глубоким по форме видом гносеологического идеализма, преодоле-
вающим отчасти имманентизм и
даже
имеющим непреходящие методологиче-
ские
достижения
4
.
Огнев — практически единственный из русских философов противо-
положного феноменологии лагеря, с которым очень хотелось бы согласиться в
ряде пунктов его критики Гуссерля, если бы он задал адекватный контекст при-
ложения этой критики и предложил позитивную программу преодоления обна-
руженных ею недостатков. Но, к сожалению, он этого не
делает,
и оттого сама
его критика оказывается сомнительной. Основные ее позиции: 1) недостаточная
проработанность у Гуссерля положений о субъективной, материальной (реаль-
ной)
и ноэтической сторонах сознания и критика предпочтения ноэматической
его стороны; 2) критика понятия интенциональности как разновидности край-
него интеллектуализма и панлогизма; 3) критическая разработка учения о чув-
ственном и перцептивном восприятии; 4) критика учения об истине как вневре-
менном
царстве значимостей.
s
К
контекстуальным неточностям
следует
прежде всего отнести смеше-
ние
у Огнева подходов Брентано и Гуссерля к пониманию перцептивного опы-
та, что позволяет ему при критике понятия интенциональности ссылаться на
неразличимость в нем акта и содержания. С
другой
стороны, определяя саму
интенциональность как направленность на вне сферы сознания лежащие пред-
меты, Огнев незаметно подменяет сознание психикой, с одной стороны, и пси-
хику проявлениями душевной субстанции («нашего я») с другой. Это позволяет
ему ограничить интенциональность психического только идеальной стороной
сознания,
т.е. переживаниями, приобретающими в нем идеальное значение,
оставляя таким образом шансы психологии сознания и его метафизике — спи-
ритуализму, в представлении так называемых
«реальных»
его сторон. Эта серия
подмен определяет и характер его дальнейшей критики Гуссерля.
2
См.
его вводные замечания к поздней
статье
«Сознание и внешний мир». С. 63. Уп.
изд.
3
Основным недостатком спиритуализма, кстати, Огнев считал его
«предубеждение
в
пользу реальности» (выражение Мейнонга), игнорирование необходимости подоб-
ного анализа.
4
Огнев, один из немногих реципиентов Гуссерля в России, опирается при ее крити-
ческом изложении по большей части на «Идеи к чистой феноменологии и феномено-
логической
философии,
1», а
не
только на «Логические исследования».
5
По
ходу
дела
достается и А. Мейнонгу за его остроумные онтологические разли-
чия,
в частности за введение понятия
«Pseudoexistenz».
294
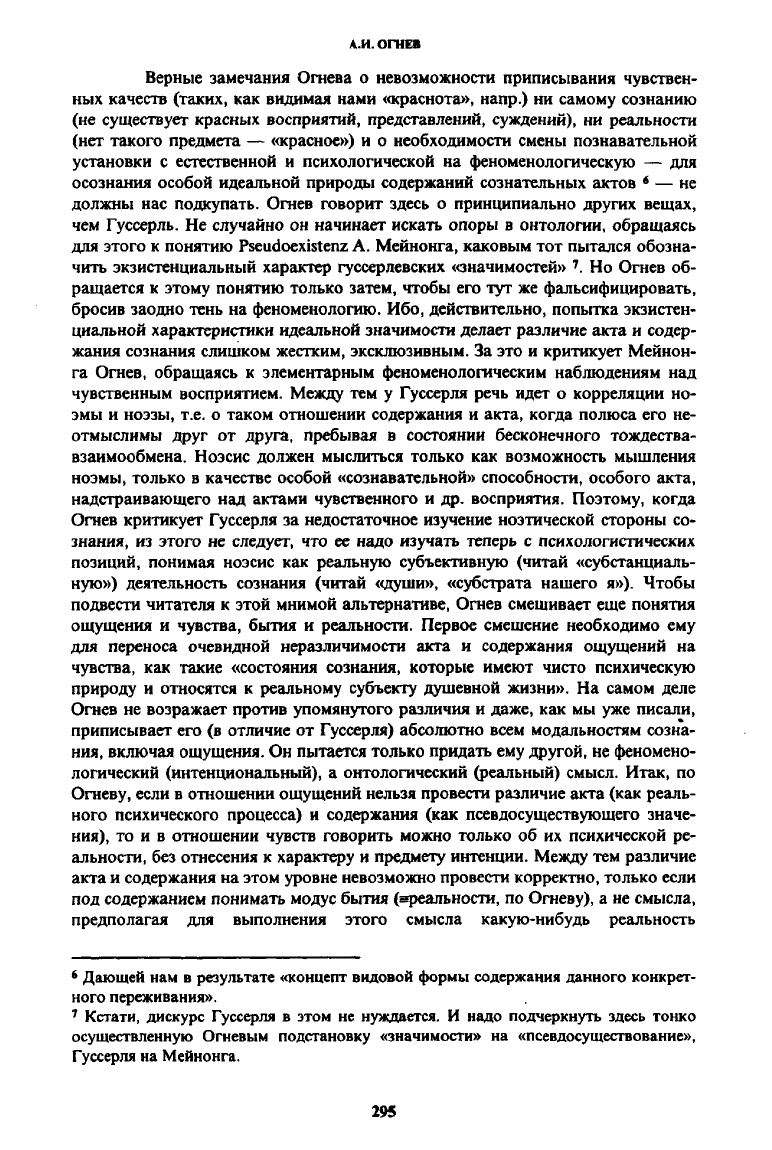
А.И.
ОГНЕВ
Верные замечания Огнева о невозможности приписывания чувствен-
ных качеств (таких, как видимая нами «краснота», напр.) ни самому сознанию
(не
существует
красных восприятий, представлений, суждений), ни реальности
(нет такого предмета — «красное») и о необходимости смены познавательной
установки с естественной и психологической на феноменологическую — для
осознания
особой идеальной природы содержаний сознательных актов
6
— не
должны нас подкупать. Огнев говорит здесь о принципиально
других
вещах,
чем Гуссерль. Не случайно он начинает искать опоры в онтологии, обращаясь
для этого к понятию Pseudoexistenz А. Мейнонга, каковым тот пытался обозна-
чить экзистенциальный характер гуссерлевских «значимостей»
7
. Но Огнев об-
ращается к этому понятию только затем, чтобы его тут же фальсифицировать,
бросив заодно тень на феноменологию. Ибо, действительно, попытка экзистен-
циальной
характеристики идеальной значимости
делает
различие акта и содер-
жания
сознания слишком жестким, эксклюзивным. За это и критикует Мейнон-
га Огнев, обращаясь к элементарным феноменологическим наблюдениям над
чувственным восприятием. Между тем у Гуссерля речь идет о корреляции но-
эмы
и ноэзы, т.е. о таком отношении содержания и акта, когда полюса его не-
отмыслимы
друг
от
друга,
пребывая в состоянии бесконечного тождества-
взаимообмена. Ноэсис должен мыслиться только как возможность мышления
ноэмы,
только в качестве особой «сознавательной» способности, особого акта,
надстраивающего над актами чувственного и др. восприятия. Поэтому, когда
Огнев критикует Гуссерля за недостаточное изучение ноэтической стороны со-
знания,
из этого не
следует,
что ее надо изучать теперь с психологистических
позиций,
понимая ноэсис как реальную субъективную (читай «субстанциаль-
ную»)
деятельность сознания (читай
«души»,
«субстрата
нашего я»). Чтобы
подвести читателя к этой мнимой альтернативе, Огнев смешивает еще понятия
ощущения и
чувства,
бытия и реальности. Первое смешение необходимо ему
для переноса очевидной неразличимости акта и содержания ощущений на
чувства,
как такие «состояния сознания, которые имеют чисто психическую
природу и относятся к реальному
субъекту
душевной жизни». На самом
деле
Огнев не возражает против упомянутого различия и даже, как мы уже писали,
приписывает его (в отличие от Гуссерля) абсолютно всем модальностям созна-
ния,
включая ощущения. Он пытается только придать ему другой, не феномено-
логический (интенциональный), а онтологический (реальный) смысл. Итак, по
Огневу, если в отношении ощущений нельзя провести различие акта (как реаль-
ного психического процесса) и содержания (как псевдосуществующего значе-
ния),
то и в отношении
чувств
говорить можно только об их психической ре-
альности, без отнесения к характеру и предмету интенции. Между тем различие
акта и содержания на этом уровне невозможно провести корректно, только если
под содержанием понимать
модус
бытия (эреальности, по Огневу), а не смысла,
предполагая для выполнения этого смысла какую-нибудь реальность
6
Дающей
нам в
результате
«концепт
видовой
формы
содержания
данного
конкрет-
ного
переживания».
7
Кстати,
дискурс
Гуссерля
в
этом
не
нуждается.
И
надо
подчеркнуть
здесь
тонко
осуществленную
Огневым
подстановку
«значимости»
на
«псевдосуществование»,
Гуссерля
на
Мейнонга.
295
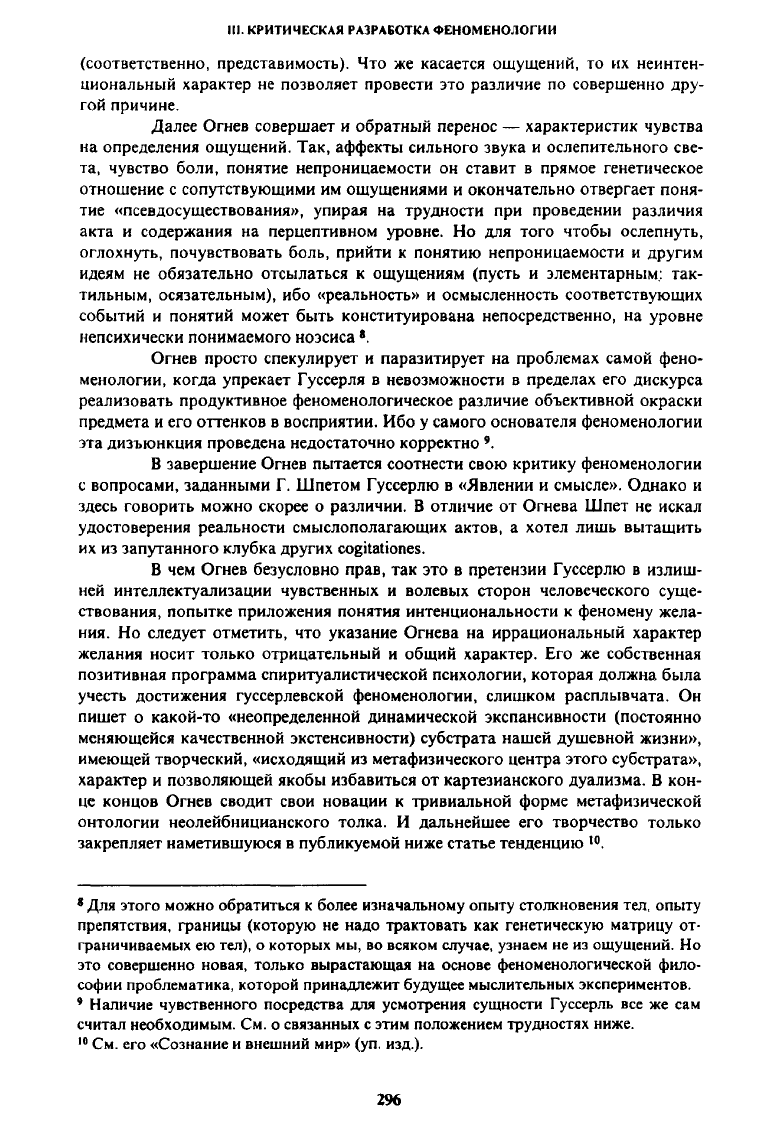
III.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
(соответственно, представимость). Что же касается ощущений, то их неинтен-
циональный
характер не позволяет провести это различие по совершенно дру-
гой причине.
Далее Огнев совершает и обратный перенос — характеристик
чувства
на
определения ощущений. Так, аффекты сильного звука и ослепительного све-
та,
чувство
боли, понятие непроницаемости он ставит в прямое генетическое
отношение с сопутствующими им ощущениями и окончательно отвергает
поня-
тие «псевдосуществования», упирая на трудности при проведении различия
акта и содержания на перцептивном уровне. Но для того чтобы ослепнуть,
оглохнуть, почувствовать боль, прийти к понятию непроницаемости и
другим
идеям не обязательно отсылаться к ощущениям (пусть и элементарным; так-
тильным, осязательным), ибо
«реальность»
и осмысленность соответствующих
событий и понятий может быть конституирована непосредственно, на уровне
непсихически понимаемого ноэсиса
в
.
Огнев просто спекулирует и паразитирует на проблемах самой фено-
менологии, когда упрекает Гуссерля в невозможности в пределах его дискурса
реализовать продуктивное феноменологическое различие объективной окраски
предмета и его оттенков в восприятии. Ибо у самого основателя феноменологии
эта дизъюнкция проведена недостаточно корректно '.
В завершение Огнев пытается соотнести свою критику феноменологии
с вопросами, заданными Г. Шпетом
Гуссерлю
в «Явлении и смысле». Однако и
здесь говорить можно скорее о различии. В отличие от Огнева Шпет не искал
удостоверения реальности смыслополагающих актов, а
хотел
лишь вытащить
их из запутанного клубка
других
cogitationes.
В чем Огнев безусловно прав, так это в претензии
Гуссерлю
в излиш-
ней
интеллектуализации чувственных и волевых сторон человеческого суще-
ствования, попытке приложения понятия интенциональности к феномену жела-
ния.
Но
следует
отметить, что указание Огнева на иррациональный характер
желания носит только отрицательный и общий характер. Его же собственная
позитивная
программа спиритуалистической психологии, которая должна была
учесть
достижения гуссерлевской феноменологии, слишком расплывчата. Он
пишет о какой-то «неопределенной динамической экспансивности (постоянно
меняющейся
качественной экстенсивности)
субстрата
нашей душевной жизни»,
имеющей творческий, «исходящий из метафизического центра этого
субстрата»,
характер и позволяющей якобы избавиться от картезианского дуализма. В кон-
це концов Огнев сводит свои новации к тривиальной форме метафизической
онтологии неолейбницианского толка. И дальнейшее его творчество только
закрепляет наметившуюся в публикуемой ниже
статье
тенденцию
10
.
8
Для этого можно обратиться к более изначальному опыту столкновения тел, опыту
препятствия, границы (которую не надо трактовать как генетическую матрицу от-
граничиваемых ею тел), о которых мы, во всяком случае, узнаем не из ощущений. Но
это совершенно новая, только вырастающая на основе феноменологической фило-
софии
проблематика, которой принадлежит
будущее
мыслительных экспериментов.
9
Наличие чувственного посредства для усмотрения сущности Гуссерль все же сам
считал необходимым. См. о связанных с этим положением трудностях ниже.
10
См.
его «Сознание
и
внешний
мир»
(уп. изд.).
296
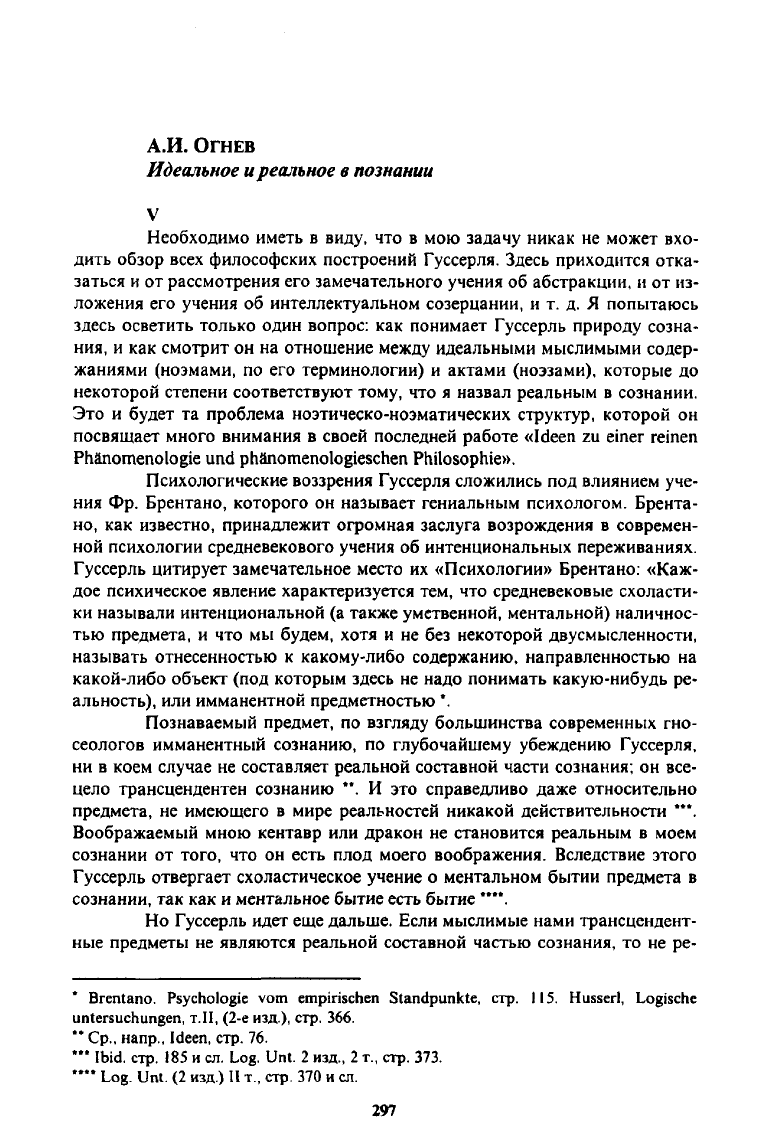
А.И.
ОГНЕВ
Идеальное
и
реальное
в
познании
V
Необходимо иметь в
виду,
что в мою
задачу
никак
не может вхо-
дить обзор
всех
философских построений Гуссерля. Здесь приходится отка-
заться и от рассмотрения его замечательного учения об абстракции, и от из-
ложения
его учения об интеллектуальном созерцании, и т. д. Я попытаюсь
здесь осветить только один вопрос: как понимает
Гуссерль
природу созна-
ния,
и как смотрит он на отношение
между
идеальными мыслимыми содер-
жаниями
(ноэмами, по его терминологии) и актами
(ноэзами),
которые до
некоторой
степени
соответствуют
тому,
что я назвал реальным в сознании.
Это и
будет
та проблема ноэтическо-ноэматических структур, которой он
посвящает много внимания в своей последней работе «Ideen zu einer reinen
Phänomenologie
und
phänomenologieschen
Philosophie».
Психологические воззрения Гуссерля сложились под влиянием уче-
ния
Фр. Брентано, которого он называет гениальным психологом. Брента-
но,
как известно, принадлежит огромная
заслуга
возрождения в современ-
ной
психологии средневекового учения об интенциональных переживаниях.
Гуссерль
цитирует замечательное место их «Психологии» Брентано: «Каж-
дое психическое явление характеризуется тем, что средневековые схоласти-
ки
называли интенциональной (а также умственной, ментальной) наличнос-
тью предмета, и что мы
будем,
хотя
и не без некоторой двусмысленности,
называть отнесенностью к какому-либо содержанию, направленностью на
какой-либо
объект (под которым здесь не надо понимать какую-нибудь ре-
альность),
или имманентной предметностью *.
Познаваемый
предмет, по
взгляду
большинства современных гно-
сеологов имманентный сознанию, по глубочайшему убеждению Гуссерля,
ни
в коем
случае
не составляет реальной составной части
сознания;
он все-
цело трансцендентен сознанию *\ И это справедливо
даже
относительно
предмета, не имеющего в мире реальностей никакой действительности *".
Воображаемый мною кентавр или дракон не становится реальным в моем
сознании
от того, что он есть плод моего воображения. Вследствие этого
Гуссерль
отвергает схоластическое учение о ментальном бытии предмета в
сознании,
так как и ментальное бытие есть бытие ****.
Но
Гуссерль
идет еще дальше. Если мыслимые нами трансцендент-
ные
предметы не являются реальной составной частью сознания, то не ре-
*
Brentano.
Psychologie
vom
empirischen
Standpunkte,
стр. 115.
Husserl,
Logische
Untersuchungen,
τ.ΙΙ, (2-е
изд.),
стр. 366.
**
Ср.,
напр.,
Ideen,
стр. 76.
***
Ibid.
стр. 185 и ел. Log. Unt. 2 изд., 2 т., стр. 373.
*"* Log. Unt.
(2
изд.)
II
т., стр. 370 и ел.
297
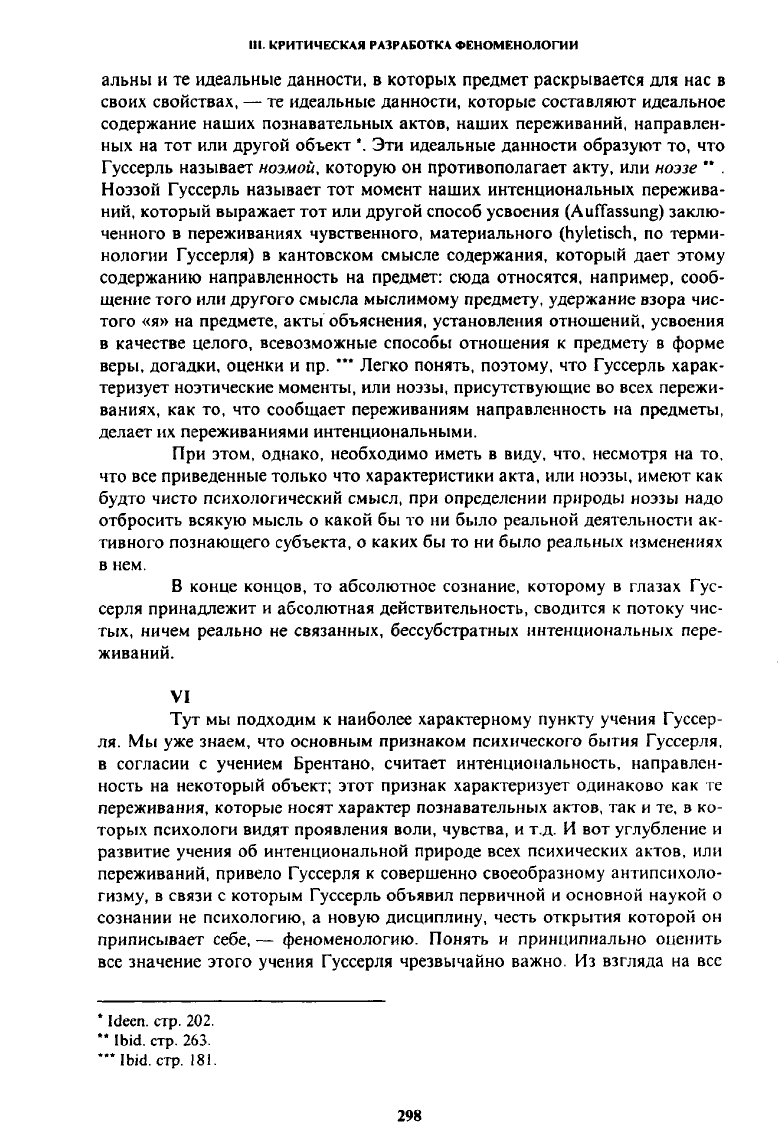
III.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
альны и те идеальные данности, в которых предмет раскрывается для нас в
своих свойствах, — те идеальные данности, которые составляют идеальное
содержание наших познавательных актов, наших переживаний, направлен-
ных на тот или
другой
объект *. Эти идеальные данности
образуют
то, что
Гуссерль
называет
ноэмой,
которую он противополагает
акту,
или
ноэзе
" .
Ноэзой
Гуссерль
называет тот момент наших интенциональных пережива-
ний,
который выражает тот или
другой
способ усвоения
(Auffassung)
заклю-
ченного в переживаниях чувственного, материального (hyletisch, по терми-
нологии Гуссерля) в кантовском смысле содержания, который
дает
этому
содержанию направленность на предмет:
сюда
относятся, например, сооб-
щение того или
другого
смысла мыслимому
предмету,
удержание взора чис-
того «я» на предмете, акты объяснения, установления отношений, усвоения
в
качестве целого, всевозможные способы отношения к предмету в форме
веры, догадки, оценки и пр. *" Легко понять, поэтому, что
Гуссерль
харак-
теризует
ноэтические моменты, или ноэзы, присутствующие во
всех
пережи-
ваниях, как то, что сообщает переживаниям направленность на предметы,
делает
их переживаниями интенциональными.
При
этом, однако, необходимо иметь в
виду,
что, несмотря на то,
что все приведенные только что характеристики акта, или ноэзы, имеют как
будто
чисто психологический смысл, при определении природы ноэзы надо
отбросить всякую мысль о какой бы то ни было реальной деятельности ак-
тивного познающего
субъекта,
о каких бы то ни было реальных изменениях
в
нем.
В конце концов, то абсолютное сознание, которому в
глазах
Гус-
серля принадлежит и абсолютная действительность, сводится к потоку чис-
тых, ничем реально не связанных, бессубстратных интенциональных пере-
живаний.
VI
Тут мы подходим к наиболее характерному пункту учения Гуссер-
ля.
Мы уже знаем, что основным признаком психического бытия Гуссерля,
в
согласии с учением Брентано, считает интенциональность, направлен-
ность на некоторый объект; этот признак характеризует одинаково как те
переживания, которые носят характер познавательных актов, так и те, в ко-
торых психологи видят проявления воли,
чувства,
и т.д. И вот
углубление
и
развитие учения об интенциональной природе
всех
психических актов, или
переживаний, привело Гуссерля к совершенно своеобразному антипсихоло-
гизму, в связи с которым
Гуссерль
объявил первичной и основной наукой о
сознании
не психологию, а новую дисциплину, честь открытия которой он
приписывает себе, — феноменологию. Понять и принципиально оценить
все значение этого учения Гуссерля чрезвычайно важно. Из взгляда на все
1
Ideen, стр. 202.
'* Ibid. стр. 263.
'"Ibid. стр. 181.
298
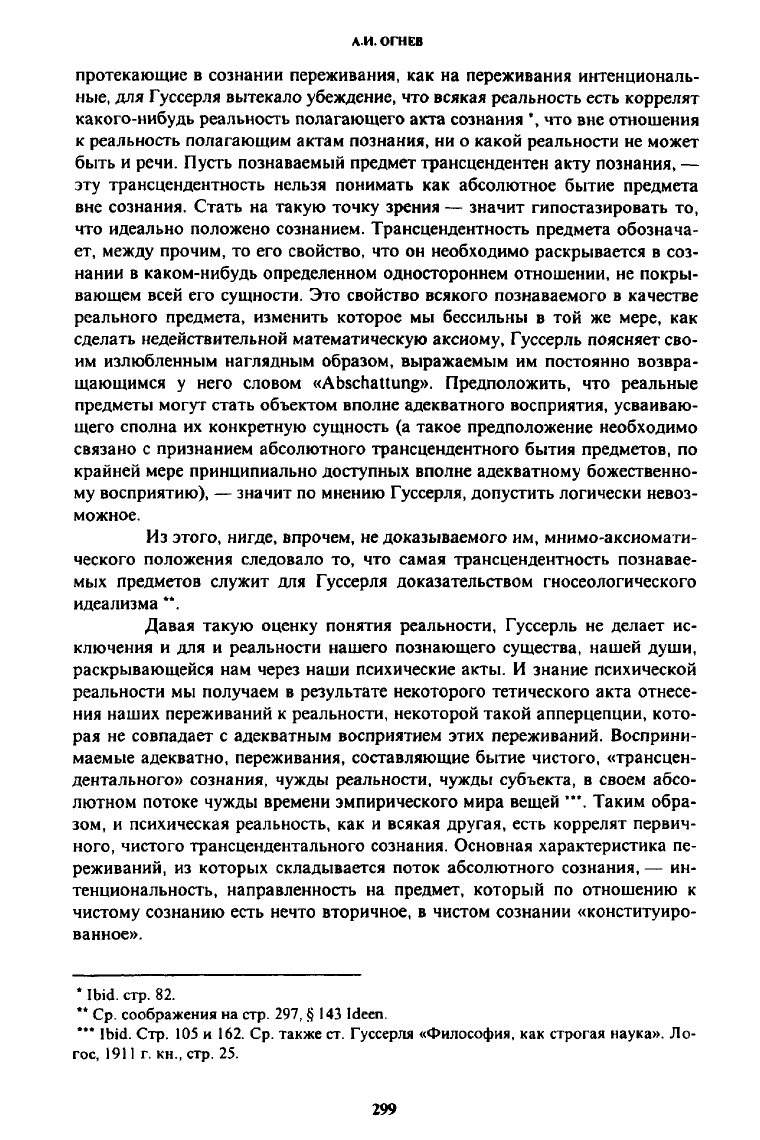
А.И.
ОГНЕВ
протекающие в сознании переживания, как на переживания интенциональ-
ные,
для Гуссерля вытекало убеждение, что всякая реальность есть коррелят
какого-нибудь реальность полагающего акта сознания \ что вне отношения
к
реальность полагающим актам
познания,
ни о какой реальности не может
быть и речи. Пусть познаваемый предмет трансцендентен акту
познания,
—
эту трансцендентность нельзя понимать как абсолютное бытие предмета
вне сознания. Стать на
такую
точку зрения — значит гипостазировать то,
что идеально положено сознанием. Трансцендентность предмета обознача-
ет,
между
прочим, то его свойство, что он необходимо раскрывается в соз-
нании
в каком-нибудь определенном одностороннем отношении, не покры-
вающем всей его сущности. Это свойство всякого познаваемого в качестве
реального предмета, изменить которое мы бессильны в той же мере, как
сделать недействительной математическую аксиому,
Гуссерль
поясняет сво-
им
излюбленным наглядным образом, выражаемым им постоянно возвра-
щающимся у него словом
«Abschattung».
Предположить, что реальные
предметы
могут
стать объектом вполне адекватного восприятия, усваиваю-
щего сполна их конкретную сущность (а такое предположение необходимо
связано с признанием абсолютного трансцендентного бытия предметов, по
крайней
мере принципиально доступных вполне адекватному божественно-
му восприятию), — значит по мнению Гуссерля, допустить логически невоз-
можное.
Из
этого, нигде, впрочем, не доказываемого им, мнимо-аксиомати-
ческого положения следовало то, что самая трансцендентность познавае-
мых предметов
служит
для Гуссерля доказательством гносеологического
идеализма **.
Давая
такую
оценку понятия реальности,
Гуссерль
не
делает
ис-
ключения и для и реальности нашего познающего существа, нашей души,
раскрывающейся нам через наши психические акты. И знание психической
реальности мы получаем в
результате
некоторого тетического акта отнесе-
ния
наших переживаний к реальности, некоторой такой апперцепции, кото-
рая
не совпадает с адекватным восприятием этих переживаний. Восприни-
маемые адекватно, переживания, составляющие бытие чистого, «трансцен-
дентального» сознания,
чужды
реальности,
чужды
субъекта,
в своем абсо-
лютном потоке
чужды
времени эмпирического мира вещей *". Таким обра-
зом,
и психическая реальность, как и всякая
другая,
есть коррелят первич-
ного,
чистого трансцендентального сознания. Основная характеристика пе-
реживаний, из которых складывается поток абсолютного
сознания,
— ин-
тенциональность, направленность на предмет, который по отношению к
чистому сознанию есть нечто вторичное, в чистом сознании «конституиро-
ванное».
*
Ibid.
стр. 82.
** Ср.
соображения
на стр. 297, § 143
Ideen.
***
Ibid.
Стр. 105 и 162. Ср.
также
ст.
Гуссерля
«Философия,
как
строгая
наука».
Ло-
гос, 1911 г. кн., стр. 25.
299
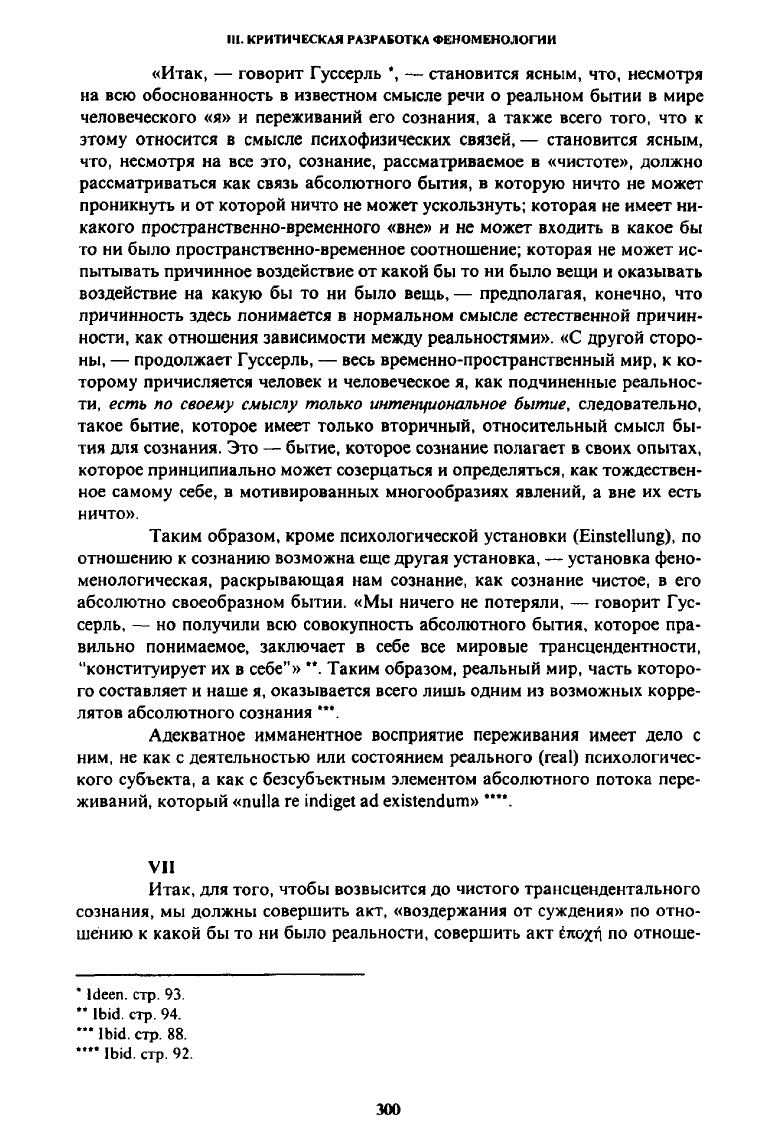
III.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
«Итак,
—
говорит
Гуссерль
*,
—
становится ясным, что, несмотря
на
всю обоснованность
в
известном смысле речи
о
реальном бытии
в
мире
человеческого
«я» и
переживаний
его
сознания,
а
также всего того,
что к
этому относится
в
смысле психофизических связей,
—
становится ясным,
что, несмотря
на все
это, сознание, рассматриваемое
в
«чистоте»,
должно
рассматриваться как связь абсолютного бытия,
в
которую ничто
не
может
проникнуть и от которой ничто не может ускользнуть; которая не имеет ни-
какого пространственно-временного
«вне»
и
не может
входить
в
какое
бы
то ни было пространственно-временное соотношение; которая не может ис-
пытывать причинное воздействие от
какой
бы то ни было вещи и оказывать
воздействие
на
какую
бы то ни
было вещь,
—
предполагая, конечно,
что
причинность здесь понимается
в
нормальном смысле естественной причин-
ности,
как отношения зависимости
между
реальностями».
«С
другой
сторо-
ны,
—
продолжает Гуссерль,
—
весь временно-пространственный мир, к ко-
торому причисляется человек
и
человеческое я, как подчиненные реальнос-
ти,
есть
по
своему
смыслу
только
интенционалъное
бытие,
следовательно,
такое бытие, которое имеет только вторичный, относительный смысл
бы-
тия
для
сознания.
Это
—
бытие, которое сознание полагает
в
своих опытах,
которое принципиально может созерцаться и определяться, как тождествен-
ное самому себе,
в
мотивированных многообразиях явлений,
а
вне
их
есть
ничто».
Таким
образом, кроме психологической установки (Einstellung),
по
отношению к сознанию возможна еще
другая
установка,
—
установка фено-
менологическая, раскрывающая
нам
сознание,
как
сознание чистое,
в его
абсолютно своеобразном бытии. «Мы ничего не потеряли,
—
говорит
Гус-
серль,
—
но получили всю совокупность абсолютного бытия, которое пра-
вильно понимаемое, заключает
в
себе
все
мировые трансцендентности,
"конституирует их
в
себе"»
**. Таким образом, реальный мир, часть которо-
го составляет
и
наше
я,
оказывается всего лишь одним из возможных корре-
лятов абсолютного сознания ***.
Адекватное имманентное восприятие переживания имеет
дело
с
ним,
не как
с
деятельностью или состоянием реального (real) психологичес-
кого
субъекта,
а
как
с
безсубъектным элементом абсолютного потока пере-
живаний,
который
«nulla
re
indiget
ad
existendum»
****.
VII
Итак,
для того, чтобы возвысится до чистого трансцендентального
сознания,
мы должны совершить акт, «воздержания
от
суждения»
по отно-
шению
к
какой бы
то
ни было реальности, совершить акт
εποχή
по отноше-
'Ideen,
стр. 93.
*
Ibid. стр. 94.
'"
Ibid. стр. 88.
'*"
Ibid. стр. 92.
300
