Чубаров И.М. (ред., сост.) Антология феноменологической философии в России
Подождите немного. Документ загружается.

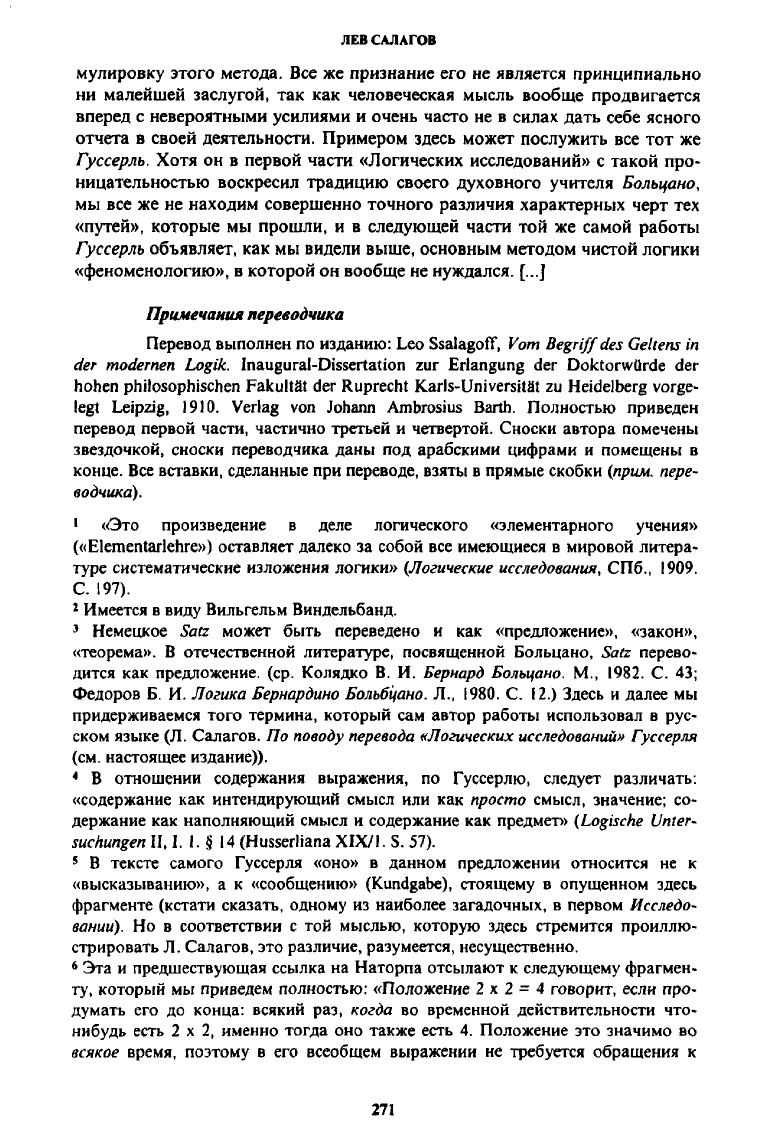
ЛЕВ
САЛАГОВ
мулировку
этого
метода.
Все же
признание
его не
является
принципиально
ни
малейшей
заслугой,
так как
человеческая
мысль
вообще
продвигается
вперед
с
невероятными
усилиями
и
очень
часто
не в
силах
дать
себе
ясного
отчета
в
своей
деятельности.
Примером
здесь
может
послужить
все тот же
Гуссерль.
Хотя
он в
первой
части
«Логических
исследований»
с
такой
про-
ницательностью
воскресил
традицию
своего
духовного
учителя
Больцано,
мы все же не
находим
совершенно
точного
различия
характерных
черт
тех
«путей»,
которые
мы
прошли,
и в
следующей
части
той же
самой
работы
Гуссерль
объявляет,
как мы
видели
выше,
основным
методом
чистой
логики
«феноменологию»,
в
которой
он
вообще
не
нуждался.
[...]
Примечания
переводчика
Перевод выполнен по изданию: Leo
Ssalagoff,
Vom
Begriff
des
Gehens
in
der
modernen
Logik.
Inaugural-Dissertation zur Erlangung der
Doktorwürde
der
hohen
philosophischen
Fakultät
der
Ruprecht Karls-Universität
zu
Heidelberg
vorge-
legt
Leipzig,
1910.
Verlag
von
Johann Ambrosius
Barth.
Полностью приведен
перевод первой части, частично третьей и четвертой. Сноски автора помечены
звездочкой, сноски переводчика даны под арабскими цифрами и помещены в
конце.
Все вставки, сделанные при переводе, взяты в прямые скобки (прим.
пере-
водчика).
1
«Это произведение в деле логического «элементарного учения»
(«Elementarlehre») оставляет далеко за собой все имеющиеся в мировой литера-
туре
систематические изложения логики»
(Логические
исследования,
СПб., 1909.
С. 197).
2
Имеется в виду Вильгельм Виндельбанд.
3
Немецкое Satz может быть переведено и как «предложение», «закон»,
«теорема». В отечественной литературе, посвященной Больцано, Satz перево-
дится как предложение, (ср. Колядко В. И.
Бернард
Больцано.
М., 1982. С. 43;
Федоров Б. И.
Логика
Бернардино
Болъбцано.
Л., 1980. С. 12.) Здесь и далее мы
придерживаемся того термина, который сам автор работы использовал в рус-
ском
языке (Л. Салагов. По
поводу
перевода
«Логических
исследований»
Гуссерля
(см.
настоящее издание)).
4
В отношении содержания выражения, по Гуссерлю,
следует
различать,
«содержание как интендирующий смысл или как
просто
смысл, значение; со-
держание как наполняющий смысл и содержание как предмет»
(Logische
Unter-
suchungen
II,
I. I. § 14 (Husserliana XIX/1. S. 57).
5
В тексте самого Гуссерля
«оно»
в данном предложении относится не к
«высказыванию», а к «сообщению» (Kundgabe), стоящему в опущенном здесь
фрагменте (кстати сказать, одному из наиболее загадочных, в первом
Исследо-
вании). Но в соответствии с той мыслью, которую здесь стремится проиллю-
стрировать Л. Салагов, это различие, разумеется, несущественно.
6
Эта и предшествующая ссылка на Наторпа отсылают к следующему фрагмен-
ту, который мы приведем полностью: «Положение 2x2 = 4 говорит, если про-
думать его до конца: всякий раз,
когда
во временной действительности что-
нибудь есть 2x2, именно тогда оно также есть 4. Положение это значимо во
всякое
время, поэтому в его всеобщем выражении не требуется обращения к
271
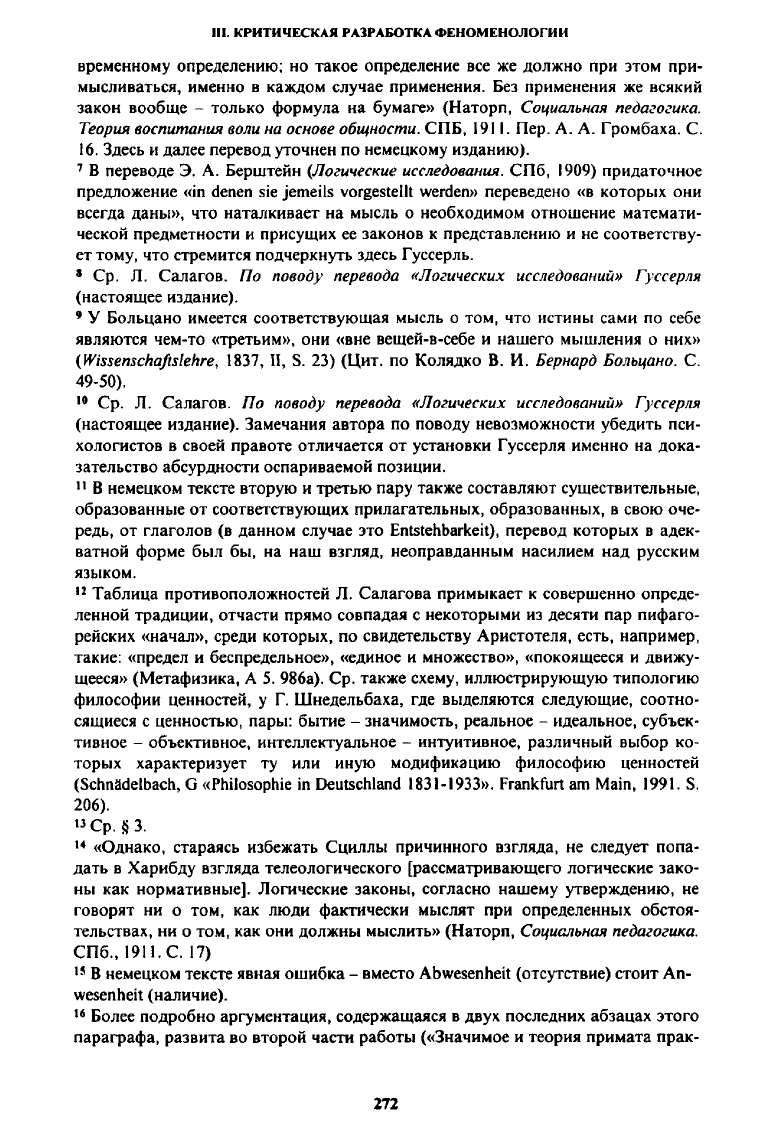
III.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
временному определению; но такое определение все же должно при этом при-
мысливаться, именно в каждом случае применения. Без применения же всякий
закон
вообще - только формула на
бумаге»
(Наторп,
Социальная
педагогика.
Теория
воспитания
воли
на
основе
общности.
СПБ,
1911. Пер. А. А. Громбаха. С.
16. Здесь и далее перевод уточнен по немецкому изданию).
7
В переводе Э. А. Берштейн
(Логические
исследования.
СПб, 1909) придаточное
предложение «in denen sie
jemeils
vorgestellt
werden»
переведено «в которых они
всегда даны», что наталкивает на мысль о необходимом отношение математи-
ческой предметности и присущих ее законов к представлению и не соответству-
ет тому, что стремится подчеркнуть здесь Гуссерль.
* Ср. Л. Салагов. По
поводу
перевода
«Логических
исследований»
Гуссерля
(настоящее издание).
9
У Больцано имеется соответствующая мысль о том, что истины сами по себе
являются чем-то «третьим», они «вне вещей-в-себе и нашего мышления о
них»
(Wissenschaftslehre,
1837, II, S. 23) (Цит. по Колядко В. И.
Бернард
Больцано.
С.
49-50).
10
Ср. Л. Салагов. По
поводу
перевода
«Логических
исследований»
Гуссерля
(настоящее издание). Замечания автора по поводу невозможности убедить пси-
хологистов в своей правоте отличается от установки Гуссерля именно на дока-
зательство абсурдности оспариваемой позиции.
11
В немецком тексте вторую и третью пару также составляют существительные,
образованные от соответствующих прилагательных, образованных, в свою оче-
редь, от глаголов (в данном случае это Entstehbarkeit), перевод которых в адек-
ватной форме был бы, на наш взгляд, неоправданным насилием над русским
языком.
12
Таблица противоположностей Л. Салагова примыкает к совершенно опреде-
ленной
традиции, отчасти прямо совпадая с некоторыми из десяти пар пифаго-
рейских «начал», среди которых, по свидетельству Аристотеля, есть, например,
такие:
«предел и беспредельное», «единое и множество», «покоящееся и движу-
щееся» (Метафизика, А 5. 986а). Ср. также
схему,
иллюстрирующую типологию
философии
ценностей, у Г. Шнедельбаха, где выделяются следующие, соотно-
сящиеся
с ценностью, пары: бытие - значимость, реальное - идеальное, субъек-
тивное - объективное, интеллектуальное - интуитивное, различный выбор ко-
торых характеризует ту или иную модификацию философию ценностей
(Schnädelbach,
G
«Philosophie
in
Deutschland
1831-1933».
Frankfurt
am
Main,
1991. S.
206).
13
Cp. §3.
14
«Однако, стараясь избежать Сциллы причинного взгляда, не
следует
попа-
дать в Харибду взгляда телеологического [рассматривающего логические зако-
ны
как нормативные]. Логические законы, согласно нашему утверждению, не
говорят ни о том, как люди фактически мыслят при определенных обстоя-
тельствах, ни о том, как они должны мыслить» (Наторп,
Социальная
педагогика.
СПб.,
1911. С. 17)
15
В немецком тексте явная ошибка - вместо
Abwesenheit
(отсутствие) стоит An-
wesenheit (наличие).
16
Более подробно аргументация, содержащаяся в
двух
последних абзацах этого
параграфа, развита во второй части работы («Значимое и теория примата прак-
272
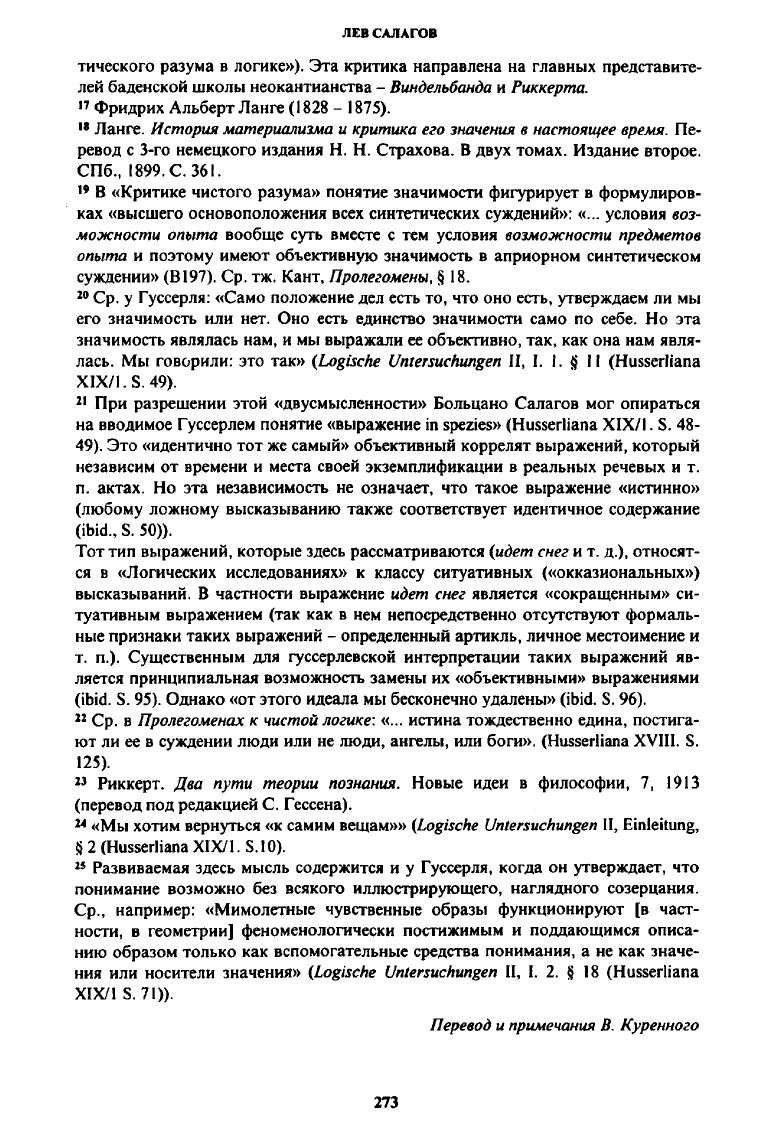
ЛЕВ
САЛАГОВ
тического разума в логике»). Эта критика направлена на главных представите-
лей баденской школы неокантианства -
Виндельбанда
и
Ршкерта.
17
Фридрих
Альберт
Ланге (1828 - 1875).
11
Ланге.
История
материализма
и критика его
значения
β
настоящее
время.
Пе-
ревод
с 3-го
немецкого издания
Η. Η.
Страхова.
В
двух
томах. Издание второе.
СПб.,
1899. С. 361.
19
В
«Критике чистого
разума»
понятие значимости фигурирует
в
формулиров-
ках «высшего основоположения всех синтетических суждений»:
«...
условия
воз-
можности
опыта
вообще
суть
вместе
с тем
условия
возможности предметов
опыта
и
поэтому имеют объективную значимость
в
априорном синтетическом
суждении» (В 197). Ср.
тж.
Кант,
Пролегомены,
§ 18.
20
Ср.
у
Гуссерля: «Само положение
дел
есть то,
что
оно есть, утверждаем
ли мы
его значимость
или нет. Оно
есть единство значимости само
по
себе.
Но эта
значимость являлась нам,
и мы
выражали
ее
объективно, так,
как она
нам явля-
лась.
Мы
говорили:
это
так»
(Logische Untersuchungen II, I. I. § 11
(Husserliana
XIX/l.S.
49).
21
При
разрешении этой «двусмысленности» Больцано Салагов
мог
опираться
на
вводимое Гуссерлем понятие «выражение
in spezies»
(Husserliana XIX/1.
S. 48-
49).
Это
«идентично
тот же
самый» объективный коррелят выражений, который
независим
от
времени
и
места своей экземплификации
в
реальных речевых
и т.
п.
актах.
Но эта
независимость
не
означает,
что
такое выражение «истинно»
(любому ложному высказыванию также соответствует идентичное содержание
(ibid.,
S. 50)).
Тот тип выражений, которые здесь рассматриваются
(идет
снег и т.
д.), относят-
ся
в
«Логических исследованиях»
к
классу ситуативных («окказиональных»)
высказываний.
В
частности выражение
идет
снег
является «сокращенным»
си-
туативным выражением
(так как в нем
непосредственно
отсутствуют
формаль-
ные
признаки таких выражений
-
определенный артикль, личное местоимение
и
т.
п.).
Существенным
для
гуссерлевской интерпретации таких выражений
яв-
ляется принципиальная возможность замены
их
«объективными» выражениями
(ibid.
S.
95). Однако
«от
этого идеала
мы
бесконечно
удалены»
(ibid.
S. 96).
22
Ср.
в
Пролегоменах
к
чистой
логике:
«...
истина тождественно едина, постига-
ют
ли
ее в
суждении люди
или не
люди, ангелы,
или
боги». (Husserliana XVIII.
S.
125).
23
Риккерт.
Два
пути
теории
познания. Новые идеи
в
философии,
7, 1913
(перевод
под
редакцией
С.
Гессена).
24
«Мы
хотим вернуться
«к
самим вещам»»
(Logische Untersuchungen
II, Einleitung,
§
2
(Husserliana XIX/1.
S.10).
25
Развиваемая здесь мысль содержится и у Гуссерля, когда он
утверждает,
что
понимание
возможно без всякого иллюстрирующего, наглядного созерцания.
Ср.,
например: «Мимолетные чувственные образы функционируют [в част-
ности,
в геометрии] феноменологически постижимым и поддающимся описа-
нию
образом только как вспомогательные средства
понимания,
а не как значе-
ния
или носители значения»
(Logische
Untersuchungen
II, I. 2. § 18 (Husserliana
XIX/1 S. 71)).
Перевод
и
примечания
В.
Куренного
ПЪ
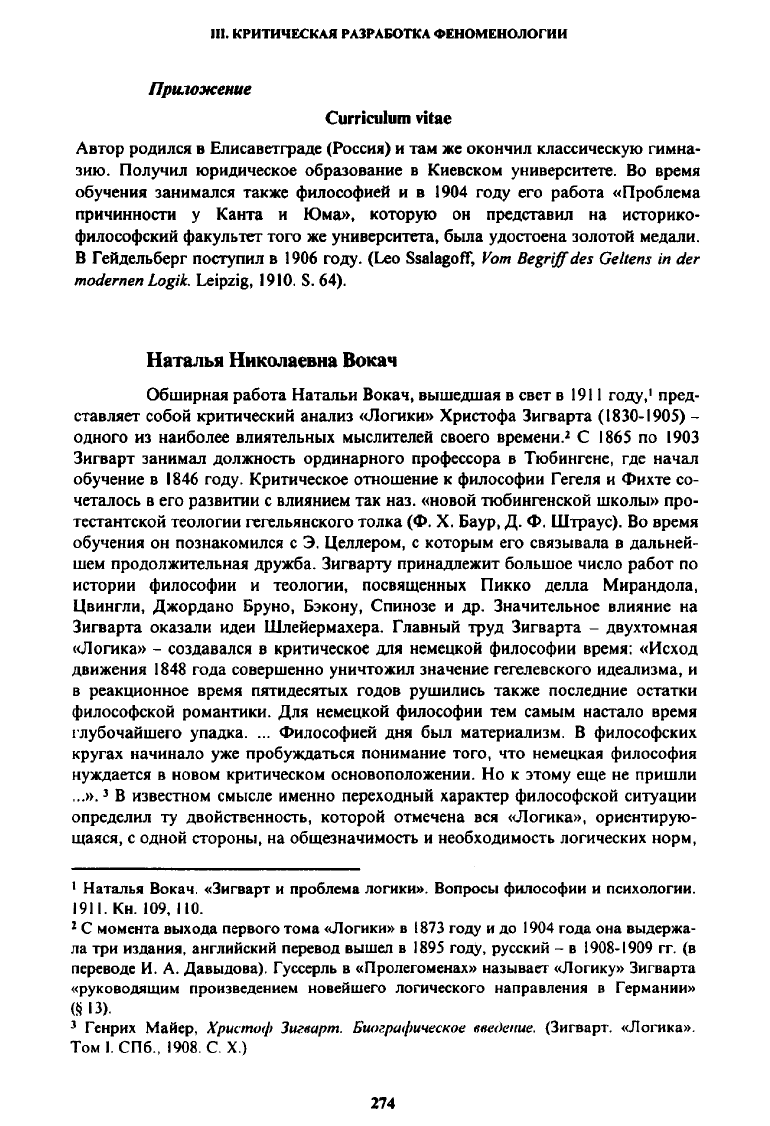
III.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
Приложение
Curriculum
vitae
Автор
родился в Елисаветграде (Россия) и там же окончил классическую гимна-
зию.
Получил юридическое образование в Киевском университете. Во время
обучения занимался также философией и в 1904
году
его работа «Проблема
причинности
у Канта и Юма», которую он представил на историко-
философский
факультет того же университета, была удостоена золотой медали.
В Гейдельберг поступил в 1906
году.
(Leo
SsalagofT,
Vom
Begriff
des
Gehens
in der
modernen
Logik.
Leipzig,
1910. S. 64).
Наталья Николаевна Вокач
Обширная
работа Натальи Вокач, вышедшая в свет в 1911
году,
1
пред-
ставляет собой критический анализ
«Логики»
Христофа Зигварта
(1830-1905)
-
одного из наиболее влиятельных мыслителей своего времени.
2
С 1865 по 1903
Зигварт занимал должность ординарного профессора в Тюбингене, где начал
обучение в 1846
году.
Критическое отношение к философии Гегеля и Фихте со-
четалось в его развитии с влиянием так наз. «новой тюбингенской школы» про-
тестантской теологии гегельянского толка
(Ф.
X. Баур, Д. Ф. Штраус). Во время
обучения он познакомился с Э. Целлером, с которым его связывала в дальней-
шем продолжительная
дружба.
Зигварту принадлежит большое число работ по
истории философии и теологии, посвященных
Пикко
делла
Мирандола,
Цвингли,
Джордано Бруно, Бэкону, Спинозе и др. Значительное влияние на
Зигварта оказали идеи Шлейермахера. Главный
труд
Зигварта - двухтомная
«Логика»
- создавался в критическое для немецкой философии время:
«Исход
движения 1848
года
совершенно уничтожил значение гегелевского идеализма, и
в
реакционное время пятидесятых годов рушились также последние остатки
философской
романтики. Для немецкой философии тем самым настало время
глубочайшего упадка. ... Философией дня был материализм. В философских
кругах
начинало уже пробуждаться понимание того, что немецкая философия
нуждается в новом критическом основоположении. Но к этому еще не пришли
...».
3
В известном смысле именно переходный характер философской ситуации
определил ту двойственность, которой отмечена вся
«Логика»,
ориентирую-
щаяся,
с одной стороны, на общезначимость и необходимость логических норм,
1
Наталья Вокач. «Зигварт и проблема логики». Вопросы философии и психологии.
1911.
Кн.
109, 110.
2
С момента
выхода
первого тома
«Логики»
в 1873
году
и
до 1904
года
она выдержа-
ла три издания, английский перевод вышел в 1895
году,
русский - в
1908-1909
гг. (в
переводе И. А. Давыдова). Гуссерль в «Пролегоменах» называет
«Логику»
Зигварта
«руководящим произведением новейшего логического направления в Германии»
(§13).
3
Генрих Майер,
Христоф
Зигварт.
Биографическое
введение.
(Зигварт.
«Логика».
Том
I.
СПб.,
1908.
С.
X.)
274
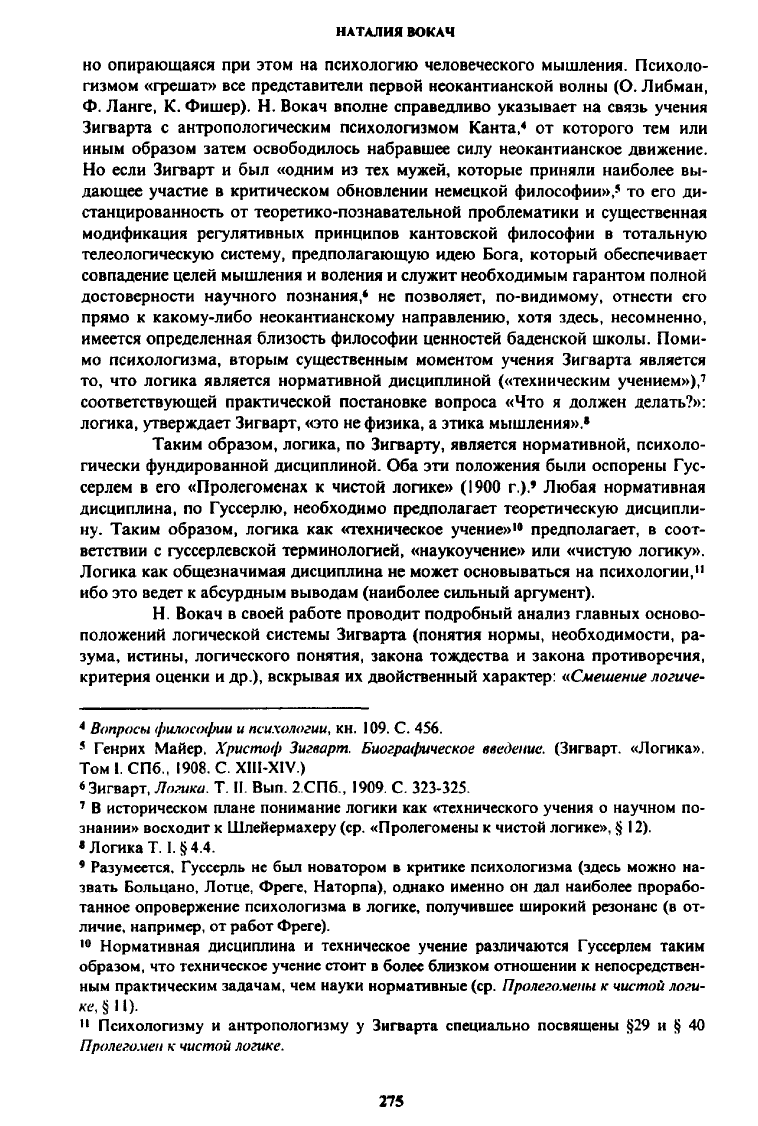
НАТАЛИЯ
ВОКАЧ
но
опирающаяся при этом на психологию человеческого мышления. Психоло-
гизмом
«грешат»
все представители первой неокантианской волны (О. Либман,
Ф.
Ланге, К. Фишер). Н. Вокач вполне справедливо указывает на связь учения
Зигварта с антропологическим психологизмом Канта,
4
от которого тем или
иным
образом затем освободилось набравшее силу неокантианское движение.
Но
если Зигварт и был «одним из тех мужей, которые приняли наиболее вы-
дающее
участие
в критическом обновлении немецкой философии»,
9
то его ди-
станцированность от теоретико-познавательной проблематики и существенная
модификация
регулятивных принципов кантовской философии в тотальную
телеологическую систему, предполагающую идею Бога, который обеспечивает
совпадение целей мышления и воления и
служит
необходимым гарантом полной
достоверности научного познания,* не позволяет, по-видимому, отнести его
прямо
к какому-либо неокантианскому направлению, хотя здесь, несомненно,
имеется определенная близость философии ценностей баденской школы. Поми-
мо психологизма, вторым существенным моментом учения Зигварта является
то,
что логика является нормативной дисциплиной («техническим учением»),
7
соответствующей практической постановке вопроса
«Что
я должен
делать?»:
логика,
утверждает
Зигварт,
«это
не
физика,
а этика мышления».*
Таким
образом, логика, по Зигварту, является нормативной, психоло-
гически фундированной дисциплиной. Оба эти положения были оспорены Гус-
серлем в его «Пролегоменах к чистой логике» (1900 г.).' Любая нормативная
дисциплина,
по Гуссерлю, необходимо предполагает теоретическую дисципли-
ну. Таким образом, логика как «техническое учение»
10
предполагает, в соот-
ветствии с гуссерлевской терминологией,
«наукоучение»
или
«чистую
логику».
Логика как общезначимая дисциплина не может основываться на психологии,
11
ибо это
ведет
к абсурдным выводам (наиболее сильный аргумент).
Н.
Вокач в своей работе проводит подробный анализ главных осново-
положений логической системы Зигварта (понятия нормы, необходимости, ра-
зума, истины, логического понятия, закона тождества и закона противоречия,
критерия
оценки и др.), вскрывая их двойственный характер:
«Смешение
логиче-
4
Вопросы
философии и
психологии,
кн.
109.
С. 456.
5
Генрих
Майер,
Христоф
Зигварт.
Биографическое введение. (Зигварт. «Логика».
Том
I.
СПб.,
1908.
С. XIH-XIV.)
'Зигварт, Логика. Т.
II.
Вып.
2.СП6.,
1909.
С.
323-325.
7
В историческом плане понимание
логики
как «технического учения о научном по-
знании» восходит к Шлейермахеру
(ср.
«Пролегомены к чистой логике»,
§
12).
* Логика Т.
I.
§
4.4.
9
Разумеется,
Гуссерль не был новатором в
критике
психологизма
(здесь
можно на-
звать Больцано, Лотце, Фреге, Наторпа), однако именно он дал наиболее прорабо-
танное опровержение психологизма в логике, получившее
широкий
резонанс (в от-
личие, например, от работ Фреге).
10
Нормативная дисциплина и техническое учение различаются Гуссерлем таким
образом,
что техническое учение стоит в более близком отношении к непосредствен-
ным практическим задачам, чем науки
нормативные
(ср.
Пролегомены
к
чистой
логи-
ке,
§11).
11
Психологизму и антропологизму у Зигварта специально посвящены §29 и § 40
Пролегомен
к
чистой
логике.
275
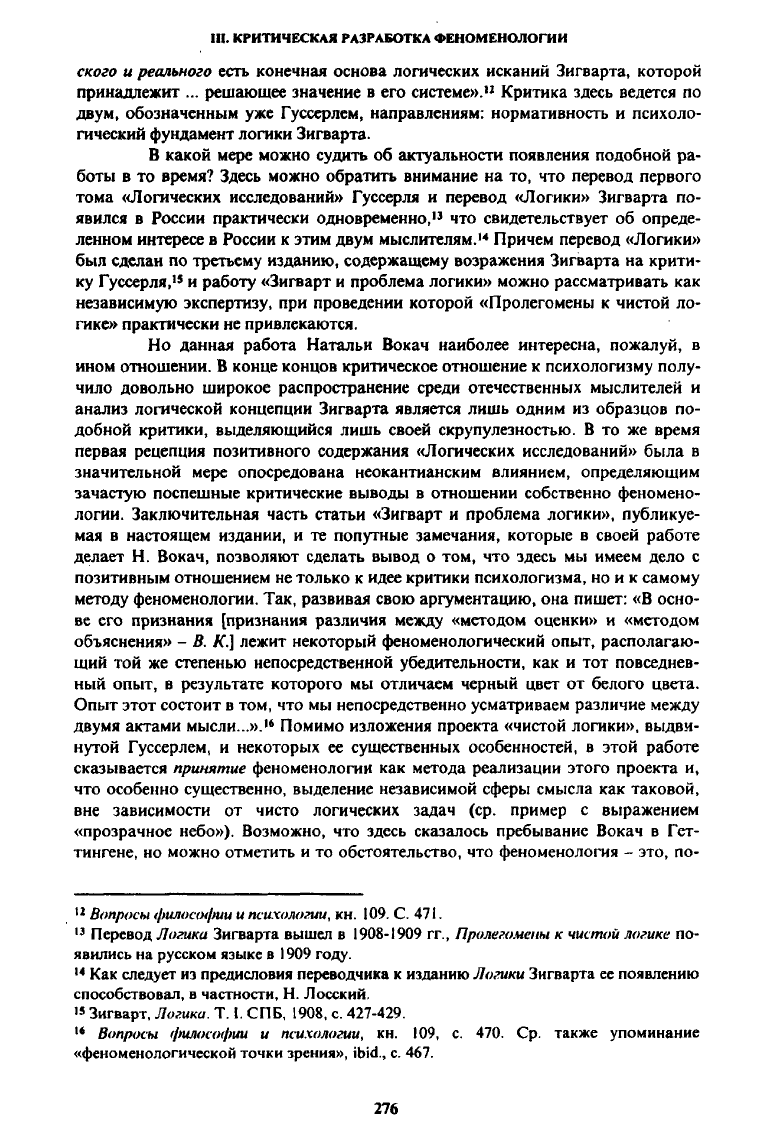
III.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
ского
и
реального
есть конечная основа логических исканий Зигварта, которой
принадлежит ... решающее значение в его системе».
12
Критика здесь ведется по
двум, обозначенным уже Гуссерлем, направлениям: нормативность и психоло-
гический фундамент
логики
Зигварта.
В
какой мере можно судить об актуальности появления подобной ра-
боты
в то время?
Здесь
можно обратить
внимание
на то, что перевод первого
тома
«Логических исследований» Гуссерля и перевод «Логики» Зигварта по-
явился в
России
практически одновременно,
13
что свидетельствует об опреде-
ленном интересе в
России
к этим двум мыслителям.
14
Причем перевод «Логики»
был сделан по третьему изданию, содержащему возражения Зигварта на
крити-
ку Гуссерля,
15
и работу «Зигварт и проблема
логики»
можно рассматривать как
независимую экспертизу, при проведении которой «Пролегомены к чистой ло-
гике»
практически не привлекаются.
Но
данная работа Натальи Вокач наиболее интересна, пожалуй, в
ином отношении. В конце концов критическое отношение к психологизму полу-
чило довольно широкое распространение среди отечественных мыслителей и
анализ логической концепции Зигварта является
лишь
одним из образцов по-
добной
критики,
выделяющийся
лишь
своей скрупулезностью. В то же время
первая рецепция позитивного содержания «Логических исследований» была в
значительной мере опосредована неокантианским влиянием, определяющим
зачастую
поспешные критические
выводы
в отношении собственно феномено-
логии. Заключительная часть статьи «Зигварт и проблема
логики»,
публикуе-
мая в настоящем издании, и те попутные замечания, которые в своей работе
делает
Н. Вокач, позволяют сделать вывод о том, что здесь мы имеем дело с
позитивным отношением не только к идее
критики
психологизма, но и к самому
методу
феноменологии. Так, развивая свою аргументацию, она пишет: «В
осно-
ве его признания [признания различия между «методом оценки» и «методом
объяснения» -
В. К.]
лежит некоторый феноменологический опыт, располагаю-
щий той же степенью непосредственной убедительности, как и тот повседнев-
ный опыт, в результате которого мы отличаем
черный
цвет от белого цвета.
Опыт
этот
состоит
в том, что мы непосредственно усматриваем различие между
двумя актами мысли...».
16
Помимо изложения проекта «чистой
логики»,
выдви-
нутой Гуссерлем, и некоторых ее существенных особенностей, в
этой
работе
сказывается
принятие
феноменологии как метода реализации этого проекта и,
что особенно существенно, выделение независимой сферы смысла как таковой,
вне зависимости от чисто логических задач (ср.
пример
с выражением
«прозрачное небо»). Возможно, что здесь сказалось пребывание Вокач в Гет-
тингене, но можно отметить и то обстоятельство, что феноменология -
это,
по-
11
Вопросы
философии
и
психологии,
кн.
109.
С.
471.
13
Перевод
Логика Зигварта вышел
в
1908-1909
гг.,
Пролегомены
к
чистой
логике по-
явились на русском языке
в
1909
году.
14
Как следует из предисловия переводчика к изданию Логики Зигварта ее появлению
способствовал,
в
частности,
Н.
Лососий.
15
Зигварт, Логика. Т.
I. СПБ, 1908,
с.
427-429.
14
Вопросы философии
и
психологии,
кн. 109, с. 470. Ср.
также упоминание
«феноменологической
точки зрения»,
ibid.,
с.
467.
276
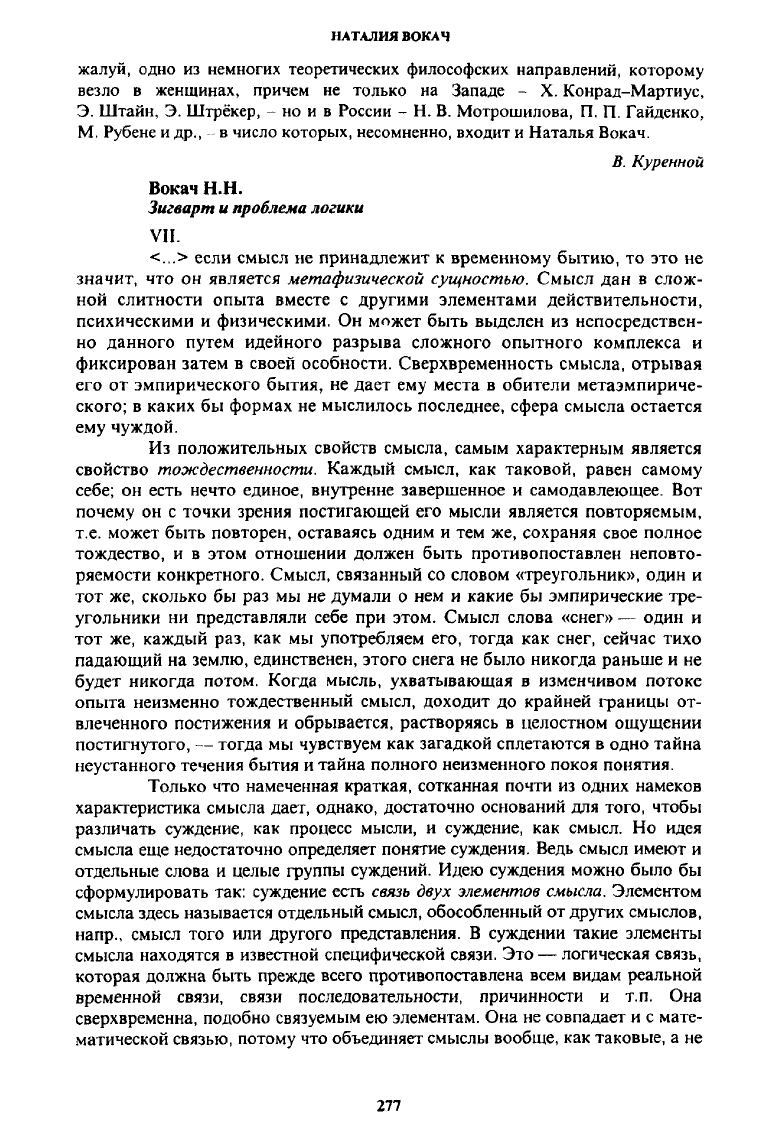
НАТАЛИЯ ВОКАЧ
жалуй, одно
из
немногих теоретических философских направлений, которому
везло
в
женщинах, причем
не
только
на
Западе
- X.
Конрад-Мартиус,
Э.
Штайн,
Э.
Штрёкер,
-
но
и в
России
-
Н.
В.
Мотрошилова, П. П. Гайденко,
М. Рубене и др.,
-
в число которых, несомненно,
входит
и Наталья Вокач.
В.
Куренной
Вокач
H.H.
Зигварт
и
проблема
логики
VII.
<...> если смысл
не
принадлежит
к
временному бытию,
то это не
значит,
что он
является
метафизической
сущностью.
Смысл
дан в
слож-
ной
слитности опыта вместе
с
другими элементами действительности,
психическими
и
физическими.
Он
может быть выделен
из
непосредствен-
но
данного
путем
идейного разрыва сложного опытного комплекса
и
фиксирован
затем
в
своей особности. Сверхвременность смысла, отрывая
его
от
эмпирического бытия,
не
дает
ему
места
в
обители метаэмпириче-
ского;
в
каких
бы
формах не мыслилось последнее, сфера смысла остается
ему чуждой.
Из
положительных свойств смысла, самым характерным является
свойство
тождественности.
Каждый смысл,
как
таковой, равен самому
себе;
он
есть нечто единое, внутренне завершенное
и
самодавлеющее.
Вот
почему
он с
точки зрения постигающей
его
мысли является повторяемым,
т.е. может быть повторен, оставаясь одним и
тем
же, сохраняя свое полное
тождество,
и в
этом отношении должен быть противопоставлен неповто-
ряемости конкретного. Смысл, связанный
со
словом
«треугольник»,
один
и
тот же, сколько
бы раз мы не
думали
о
нем
и
какие
бы
эмпирические
тре-
угольники
ни
представляли себе
при
этом. Смысл слова
«снег»
—
один
и
тот
же,
каждый
раз, как мы
употребляем
его,
тогда
как
снег, сейчас
тихо
падающий
на
землю, единственен, этого снега не было никогда раньше и
не
будет
никогда потом. Когда мысль, ухватывающая
в
изменчивом потоке
опыта неизменно тождественный смысл,
доходит
до
крайней границы
от-
влеченного постижения
и
обрывается, растворяясь
в
целостном ощущении
постигнутого,
—
тогда
мы
чувствуем
как загадкой сплетаются
в
одно тайна
неустанного течения бытия и тайна полного неизменного покоя понятия.
Только
что
намеченная краткая, сотканная почти
из
одних намеков
характеристика смысла
дает,
однако, достаточно оснований
для
того, чтобы
различать суждение,
как
процесс мысли,
и
суждение,
как
смысл.
Но
идея
смысла еще недостаточно определяет понятие суждения.
Ведь
смысл имеют
и
отдельные слова
и
целые группы суждений. Идею суждения можно было
бы
сформулировать так: суждение есть
связь
двух
элементов
смысла.
Элементом
смысла здесь называется отдельный смысл, обособленный от
других
смыслов,
напр.,
смысл того
или
другого
представления.
В
суждении такие элементы
смысла находятся
в
известной специфической связи. Это
—
логическая связь,
которая должна быть прежде всего противопоставлена всем видам реальной
временной связи, связи последовательности, причинности
и т.п. Она
сверхвременна, подобно связуемым ею элементам. Она не совпадает и
с
мате-
матической связью, потому что объединяет смыслы вообще, как таковые,
а не
277
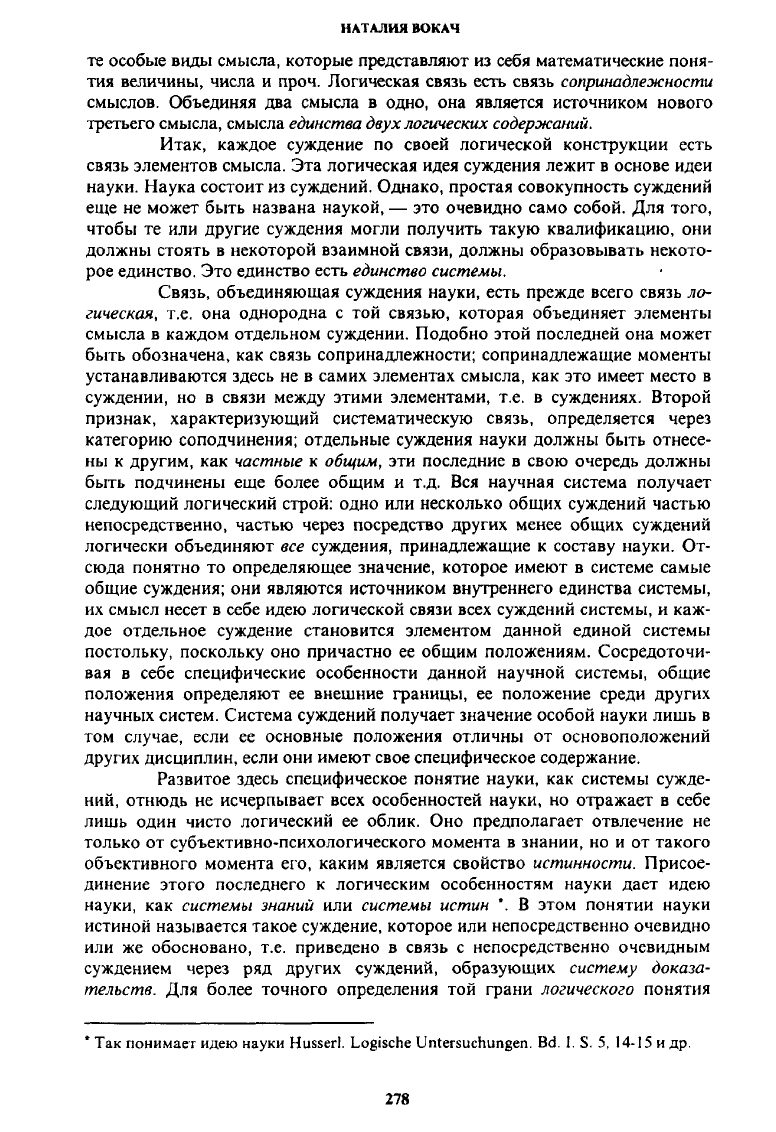
НАТАЛИЯ
ВОКАЧ
те особые виды смысла, которые представляют из себя математические
поня-
тия
величины, числа и проч. Логическая связь есть связь
сопринадлежности
смыслов. Объединяя два смысла в одно, она является источником нового
третьего
смысла, смысла
единства
двух
логических
содержаний.
Итак,
каждое суждение по своей логической конструкции есть
связь
элементов смысла. Эта логическая идея суждения лежит в основе идеи
науки.
Наука состоит из суждений. Однако, простая совокупность суждений
еще не может быть названа наукой, — это очевидно само собой. Для того,
чтобы те или
другие
суждения могли получить
такую
квалификацию, они
должны стоять в некоторой взаимной связи, должны образовывать некото-
рое единство. Это единство есть
единство
системы.
Связь,
объединяющая суждения науки, есть прежде всего связь ло-
гическая,
т.е. она однородна с той связью, которая объединяет элементы
смысла в каждом отдельном суждении. Подобно этой последней она может
быть обозначена, как связь сопринадлежности; сопринадлежащие моменты
устанавливаются здесь не в самих элементах смысла, как это имеет место в
суждении, но в связи
между
этими элементами, т.е. в суждениях. Второй
признак,
характеризующий систематическую связь, определяется через
категорию соподчинения; отдельные суждения науки должны быть отнесе-
ны
к другим, как
частные
к
общим,
эти последние в свою очередь должны
быть подчинены еще более общим и т.д. Вся научная система
получает
следующий логический строй: одно или несколько общих суждений частью
непосредственно,
частью через посредство
других
менее общих суждений
логически объединяют все суждения, принадлежащие к составу науки. От-
сюда
понятно то определяющее значение, которое имеют в системе самые
общие суждения; они являются источником внутреннего единства системы,
их смысл несет в себе идею логической связи
всех
суждений системы, и каж-
дое отдельное суждение становится элементом данной единой системы
постольку, поскольку оно причастно ее общим положениям. Сосредоточи-
вая
в себе специфические особенности данной научной системы, общие
положения
определяют ее внешние границы, ее положение среди
других
научных систем. Система суждений
получает
значение особой науки лишь в
том
случае,
если ее основные положения отличны от основоположений
других
дисциплин,
если они имеют свое специфическое содержание.
Развитое здесь специфическое понятие науки, как системы
сужде-
ний,
отнюдь не исчерпывает
всех
особенностей науки, но отражает в себе
лишь
один чисто логический ее облик. Оно предполагает отвлечение не
только от субъективно-психологического момента в
знании,
но и от такого
объективного момента его, каким является свойство
истинности.
Присое-
динение
этого последнего к логическим особенностям науки
дает
идею
науки,
как
системы
знаний
или
системы
истин
*. В этом понятии науки
истиной
называется такое суждение, которое или непосредственно очевидно
или
же обосновано, т.е. приведено в связь с непосредственно очевидным
суждением через ряд
других
суждений, образующих
систему
доказа-
тельств.
Для более точного определения той грани
логического
понятия
*
Так понимает идею науки Husserl.
Logische
Untersuchungen. Bd. I. S. 5, 14-15 и др.
278
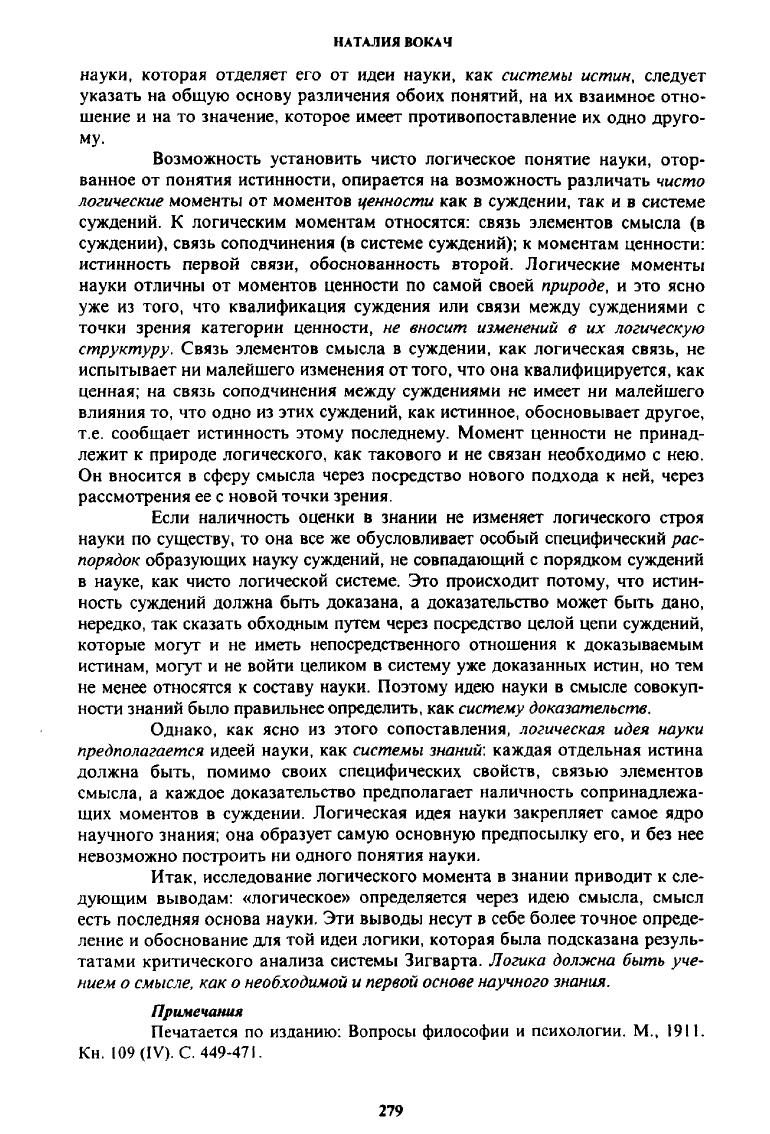
НАТАЛИЯ
ВОКАЧ
науки,
которая отделяет его от идеи науки, как
системы
истин,
следует
указать на общую основу различения обоих понятий, на их взаимное отно-
шение
и на то значение, которое имеет противопоставление их одно
друго-
му.
Возможность установить чисто логическое понятие науки, отор-
ванное от понятия истинности, опирается на возможность различать
чисто
логические
моменты от моментов
ценности
как в суждении, так и в системе
суждений. К логическим моментам относятся: связь элементов смысла (в
суждении), связь соподчинения (в системе суждений); к моментам ценности:
истинность первой связи, обоснованность второй. Логические моменты
науки отличны от моментов ценности по самой своей
природе,
и это ясно
уже из того, что квалификация суждения или связи
между
суждениями с
точки зрения категории ценности, не
вносит
изменений
в их
логическую
структуру.
Связь элементов смысла в суждении, как логическая связь, не
испытывает ни малейшего изменения от того, что она квалифицируется, как
ценная;
на связь соподчинения
между
суждениями не имеет ни малейшего
влияния
то, что одно из этих суждений, как истинное, обосновывает
другое,
т.е. сообщает истинность этому последнему. Момент ценности не принад-
лежит к природе логического, как такового и не связан необходимо с нею.
Он
вносится в сферу смысла через посредство нового
подхода
к ней, через
рассмотрения ее с новой точки зрения.
Если наличность оценки в знании не изменяет логического строя
науки по
существу,
то она все же обусловливает особый специфический рас-
порядок
образующих науку суждений, не совпадающий с порядком суждений
в
науке, как чисто логической системе. Это происходит потому, что истин-
ность суждений должна быть доказана, а доказательство может быть дано,
нередко, так сказать обходным путем через посредство целой цепи суждений,
которые
могут
и не иметь непосредственного отношения к доказываемым
истинам,
могут
и не войти целиком в систему уже доказанных истин, но тем
не
менее относятся к составу науки. Поэтому идею науки в смысле совокуп-
ности знаний было правильнее определить, как
систему
доказательств.
Однако,
как ясно из этого сопоставления,
логическая
идея
науки
предполагается
идеей науки, как
системы
знаний:
каждая отдельная истина
должна быть, помимо своих специфических свойств, связью элементов
смысла, а каждое доказательство предполагает наличность сопринадлежа-
щих моментов в суждении. Логическая идея науки закрепляет самое ядро
научного знания; она образует
самую
основную предпосылку его, и без нее
невозможно построить ни одного понятия науки.
Итак,
исследование логического момента в знании приводит к сле-
дующим выводам:
«логическое»
определяется через идею смысла, смысл
есть последняя основа науки. Эти выводы несут в себе более точное опреде-
ление и обоснование для той идеи логики, которая была подсказана резуль-
татами критического анализа системы Зигварта.
Логика
должна
быть
уче-
нием
о
смысле,
как о
необходимой
и
первой
основе
научного
знания.
Примечания
Печатается по изданию: Вопросы философии и психологии. М., 1911.
Кн.
109 (IV). С. 449-471.
279
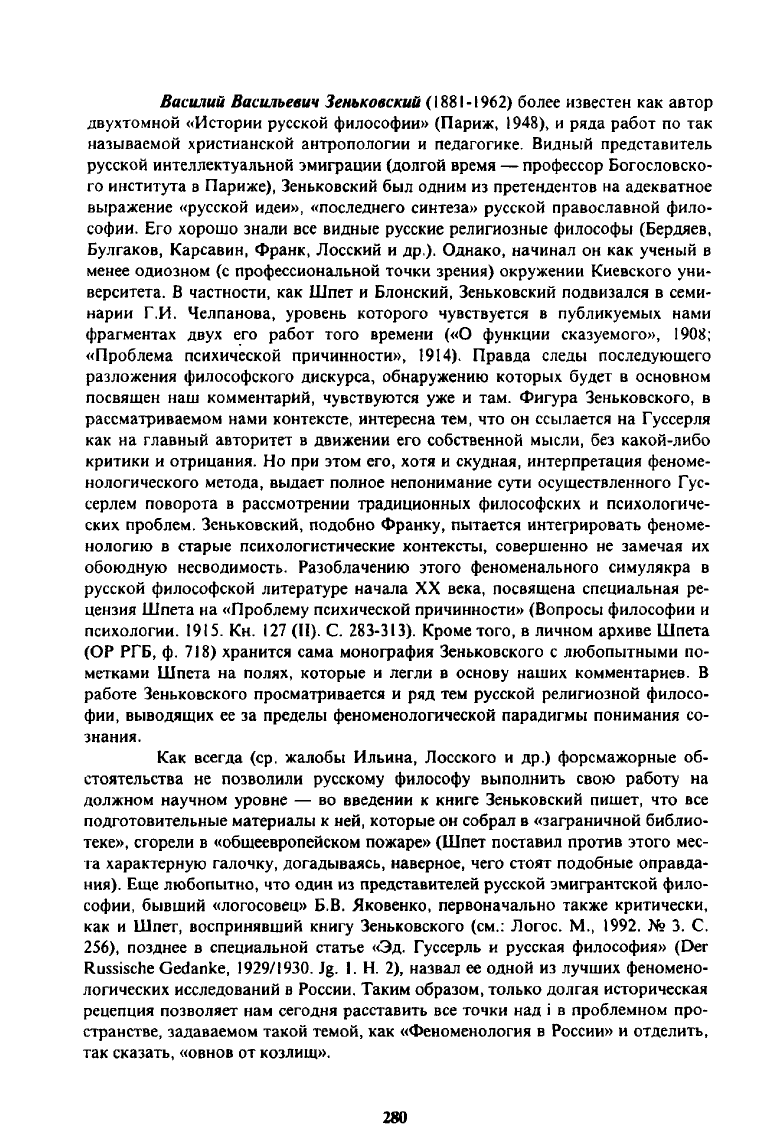
Василий
Васильевич
Зеньковскип
(1881-1962)
более известен как автор
двухтомной «Истории русской философии» (Париж,
1948),
и ряда работ по так
называемой христианской антропологии и педагогике. Видный представитель
русской интеллектуальной эмиграции (долгой время — профессор Богословско-
го института в Париже), Зеньковский был одним из претендентов на адекватное
выражение «русской идеи», «последнего синтеза» русской православной фило-
софии.
Его хорошо знали все видные русские религиозные философы (Бердяев,
Булгаков, Карсавин, Франк, Лосский и др.). Однако, начинал он как ученый в
менее одиозном (с профессиональной точки зрения) окружении Киевского уни-
верситета. В частности, как Шпет и Блонский, Зеньковский подвизался в семи-
нарии
Г.И. Челпанова, уровень которого
чувствуется
в публикуемых нами
фрагментах
двух
его работ того времени («О функции сказуемого», 1908;
«Проблема психической причинности»,
1914).
Правда следы последующего
разложения философского дискурса, обнаружению которых
будет
в основном
посвящен
наш комментарий,
чувствуются
уже и там. Фигура Зеньковского, в
рассматриваемом нами контексте, интересна тем, что он ссылается на Гуссерля
как
на главный авторитет в движении его собственной мысли, без какой-либо
критики
и отрицания. Но при этом его, хотя и скудная, интерпретация феноме-
нологического метода, выдает полное непонимание
сути
осуществленного Гус-
серлем поворота в рассмотрении традиционных философских и психологиче-
ских проблем. Зеньковский, подобно Франку, пытается интегрировать феноме-
нологию в старые психологистические контексты, совершенно не замечая их
обоюдную несводимость. Разоблачению этого феноменального симулякра в
русской философской литературе начала XX века, посвящена специальная ре-
цензия
Шпета на «Проблему психической причинности» (Вопросы философии и
психологии. 1915. Кн. 127
(II).
С.
283-313).
Кроме того, в личном архиве Шпета
(ОР
РГБ, ф. 718) хранится сама монография Зеньковского с любопытными по-
метками Шпета на полях, которые и легли в основу наших комментариев. В
работе Зеньковского просматривается и ряд тем русской религиозной филосо-
фии,
выводящих ее за пределы феноменологической парадигмы понимания со-
знания.
Как
всегда
(ср. жалобы Ильина, Лосского и др.) форсмажорные об-
стоятельства не позволили русскому философу выполнить свою работу на
должном научном уровне — во введении к книге Зеньковский пишет, что все
подготовительные материалы к ней, которые он собрал в «заграничной библио-
теке», сгорели в «общеевропейском пожаре» (Шпет поставил против этого мес-
та характерную галочку, догадываясь, наверное, чего стоят подобные оправда-
ния).
Еще любопытно, что один из представителей русской эмигрантской фило-
софии,
бывший
«логосовец»
Б.В. Яковенко, первоначально также критически,
как
и Шпет, воспринявший книгу Зеньковского (см.: Логос. М., 1992. № 3. С.
256), позднее в специальной
статье
«Эд. Гуссерль и русская философия» (Der
Russische
Gedanke,
1929/1930.
Jg. 1. H. 2), назвал ее одной из лучших феномено-
логических исследований в России. Таким образом, только долгая историческая
рецепция
позволяет нам сегодня расставить все точки над i в проблемном про-
странстве, задаваемом такой темой, как «Феноменология в России» и отделить,
так
сказать, «овнов от козлищ».
280
