Чубаров И.М. (ред., сост.) Антология феноменологической философии в России
Подождите немного. Документ загружается.

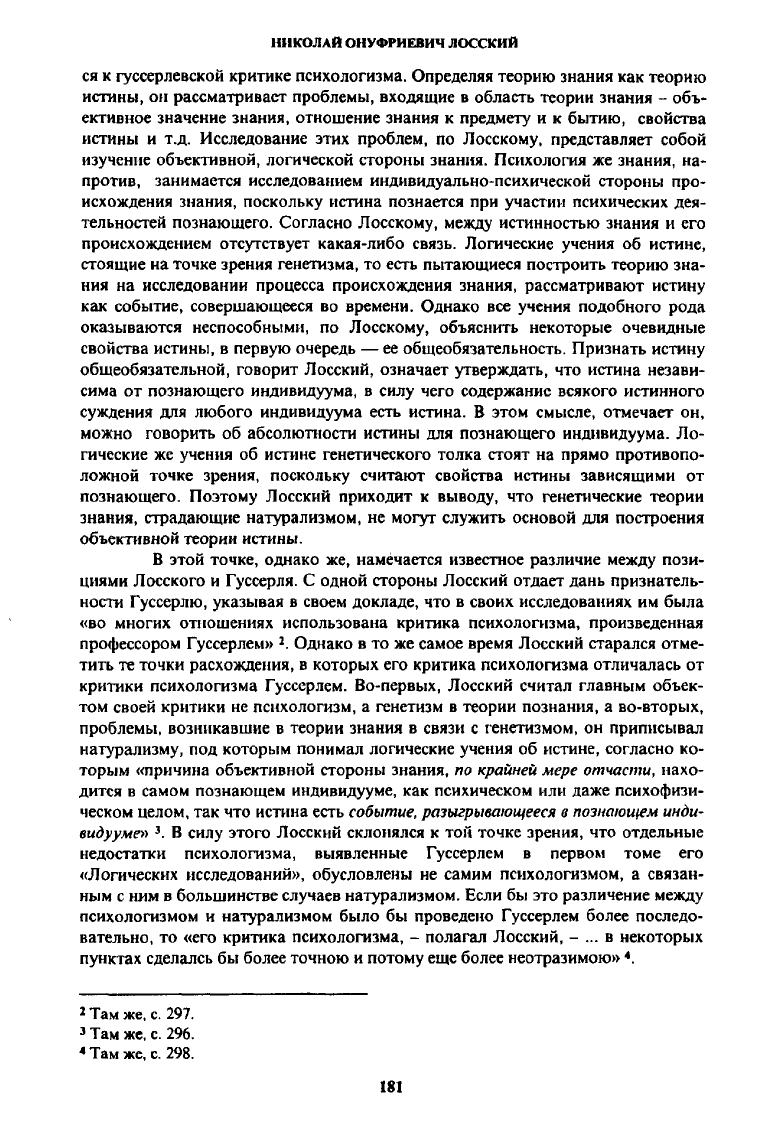
НИКОЛАЙ
ОНУФРИЕВИЧ
ЛОСОСИЙ
ся
к гуссерлевской критике психологизма. Определяя теорию знания как теорию
истины,
он рассматривает проблемы, входящие в область теории знания - объ-
ективное значение знания, отношение знания к предмету и к бытию, свойства
истины
и т.д. Исследование этих проблем, по Лосскому, представляет собой
изучение объективной, логической стороны знания. Психология же знания, на-
против,
занимается исследованием индивидуально-психической стороны про-
исхождения знания, поскольку истина познается при участии психических дея-
тельностей познающего. Согласно Лосскому,
между
истинностью знания и его
происхождением
отсутствует
какая-либо связь. Логические учения об истине,
стоящие на точке зрения генетизма, то есть пытающиеся построить теорию зна-
ния
на исследовании процесса происхождения знания, рассматривают истину
как
событие, совершающееся во времени. Однако все учения подобного рода
оказываются неспособными, по Лосскому, объяснить некоторые очевидные
свойства истины, в первую очередь — ее общеобязательность. Признать истину
общеобязательной, говорит Лосский, означает
утверждать,
что истина незави-
сима от познающего индивидуума, в силу
чего
содержание всякого истинного
суждения для любого индивидуума есть истина. В этом смысле, отмечает он,
можно говорить об абсолютности истины для познающего индивидуума. Ло-
гические же учения об истине генетического толка стоят на прямо противопо-
ложной точке зрения, поскольку считают свойства истины зависящими от
познающего. Поэтому Лосский приходит к
выводу,
что генетические теории
знания,
страдающие натурализмом, не
могут
служить основой для построения
объективной теории истины.
В этой точке, однако же, намечается известное различие
между
пози-
циями
Лосского и Гуссерля. С одной стороны Лосский
отдает
дань признатель-
ности Гуссерлю, указывая в своем докладе, что в своих исследованиях им была
«во многих отношениях использована критика психологизма, произведенная
профессором
Гуссерлем»
2
. Однако в то же самое время Лосский старался отме-
тить те точки расхождения, в которых его критика психологизма отличалась от
критики
психологизма Гуссерлем. Во-первых, Лосский считал главным объек-
том своей критики не психологизм, а генетизм в теории познания, а во-вторых,
проблемы, возникавшие в теории знания в связи с генетизмом, он приписывал
натурализму, под которым понимал логические учения об истине, согласно ко-
торым «причина объективной стороны знания, по
крайней
мере
отчасти,
нахо-
дится в самом познающем индивидууме, как психическом или
даже
психофизи-
ческом
целом,
так что
истина
есть
событие,
разыгрывающееся
в
познающем
инди-
видууме»
3
. В силу этого Лосский склонялся к той точке зрения, что отдельные
недостатки психологизма, выявленные
Гуссерлем
в первом томе его
«Логических исследований», обусловлены не самим психологизмом, а связан-
ным
с ним в большинстве
случаев
натурализмом. Если бы это различение
между
психологизмом и натурализмом было бы проведено
Гуссерлем
более последо-
вательно, то
«его
критика психологизма, - полагал Лосский, - ... в некоторых
пунктах сделалсь бы более точною и потому еще более неотразимою»
4
.
2
Там же, с. 297.
3
Там же, с. 296.
4
Там же, с. 298.
181
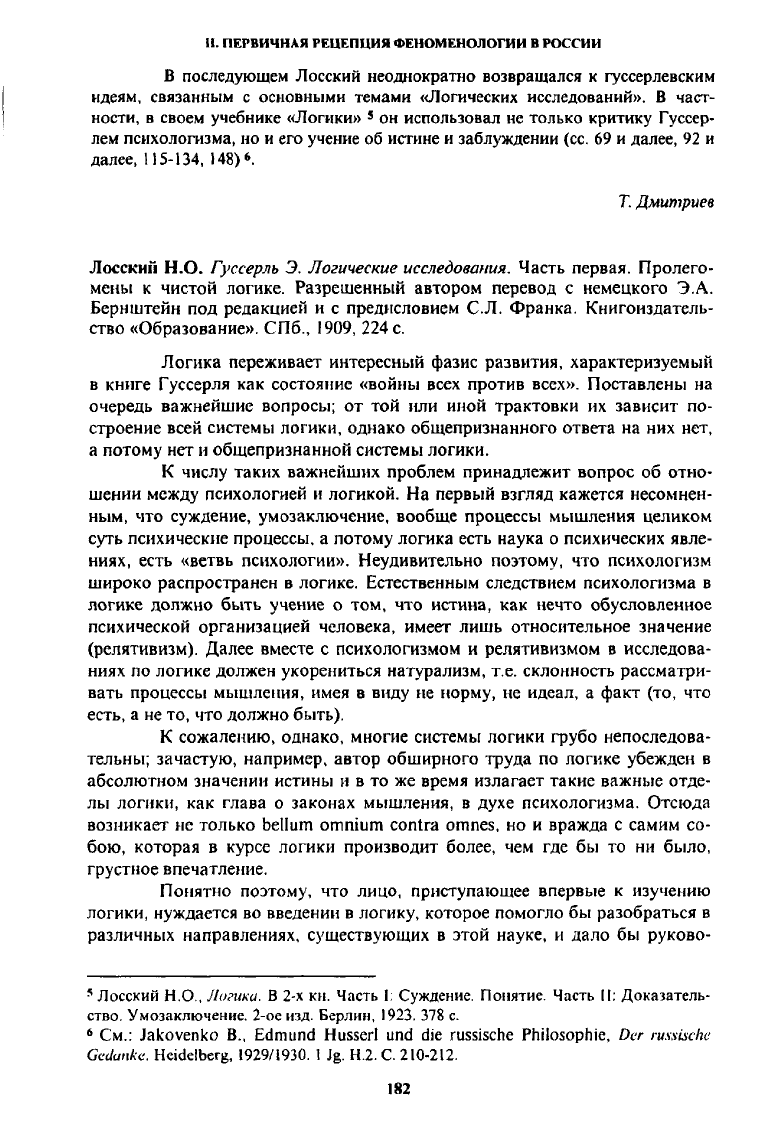
И.
ПЕРВИЧНАЯ
РЕЦЕПЦИЯ ФЕНОМЕНОЛОГИИ В РОССИИ
В последующем Лосский неоднократно возвращался
к
гуссерлевским
идеям,
связанным
с
основными темами «Логических исследований».
В
част-
ности,
в
своем учебнике «Логики»
5
он
использовал
не
только критику Гуссер-
лем психологизма, но и
его
учение
об
истине
и
заблуждении (ее.
69 и
далее,
92 и
далее,
115-134,
148)«.
Т.
Дмитриев
Лосский Н.О.
Гуссерль
Э.
Логические
исследования.
Часть первая. Пролего-
мены к чистой логике. Разрешенный автором перевод с немецкого Э.А.
Бернштейн
под редакцией и с предисловием С.Л. Франка. Книгоиздатель-
ство «Образование». СПб., 1909, 224 с.
Логика переживает интересный фазис развития, характеризуемый
в
книге Гуссерля как состояние «войны всех против
всех».
Поставлены на
очередь важнейшие вопросы; от той или иной трактовки их зависит по-
строение всей системы логики, однако общепризнанного ответа на них нет,
а потому нет и общепризнанной системы логики.
К
числу таких важнейших проблем принадлежит вопрос об отно-
шении
между
психологией и логикой. На первый взгляд кажется несомнен-
ным,
что суждение, умозаключение, вообще процессы мышления целиком
суть
психические процессы, а потому логика есть наука о психических явле-
ниях, есть
«ветвь
психологии». Неудивительно поэтому, что психологизм
широко
распространен в логике. Естественным следствием психологизма в
логике должно быть учение о том, что истина, как нечто обусловленное
психической организацией человека, имеет лишь относительное значение
(релятивизм). Далее вместе с психологизмом и релятивизмом в исследова-
ниях
по логике должен укорениться натурализм, т.е. склонность рассматри-
вать процессы мышления, имея в виду не норму, не идеал, а факт (то, что
есть, а не то, что должно быть).
К
сожалению, однако, многие системы логики
грубо
непоследова-
тельны; зачастую, например, автор обширного
труда
по логике убежден в
абсолютном значении истины и в то же время излагает такие важные отде-
лы логики, как глава о законах мышления, в
духе
психологизма. Отсюда
возникает не только bellum omnium contra omnes, но и вражда с самим со-
бою, которая в курсе логики производит более, чем где бы то ни было,
грустное впечатление.
Понятно
поэтому, что лицо, приступающее впервые к изучению
логики,
нуждается во введении в логику, которое помогло бы разобраться в
различных направлениях, существующих в этой науке, и дало бы руково-
5
Лосский
Н.О.,
Логики. В 2-х кн. Часть I: Суждение.
Понятие.
Часть
II:
Доказатель-
ство. Умозаключение. 2-ое
изд.
Берлин,
1923. 378 с.
6
См.: Jakovenko В., Edmund Husserl und die russische Philosophie, Der
russische
Gedanke.
Heidelberg,
1929/1930.
1
Jg.
H.2.
С
210-212.
182
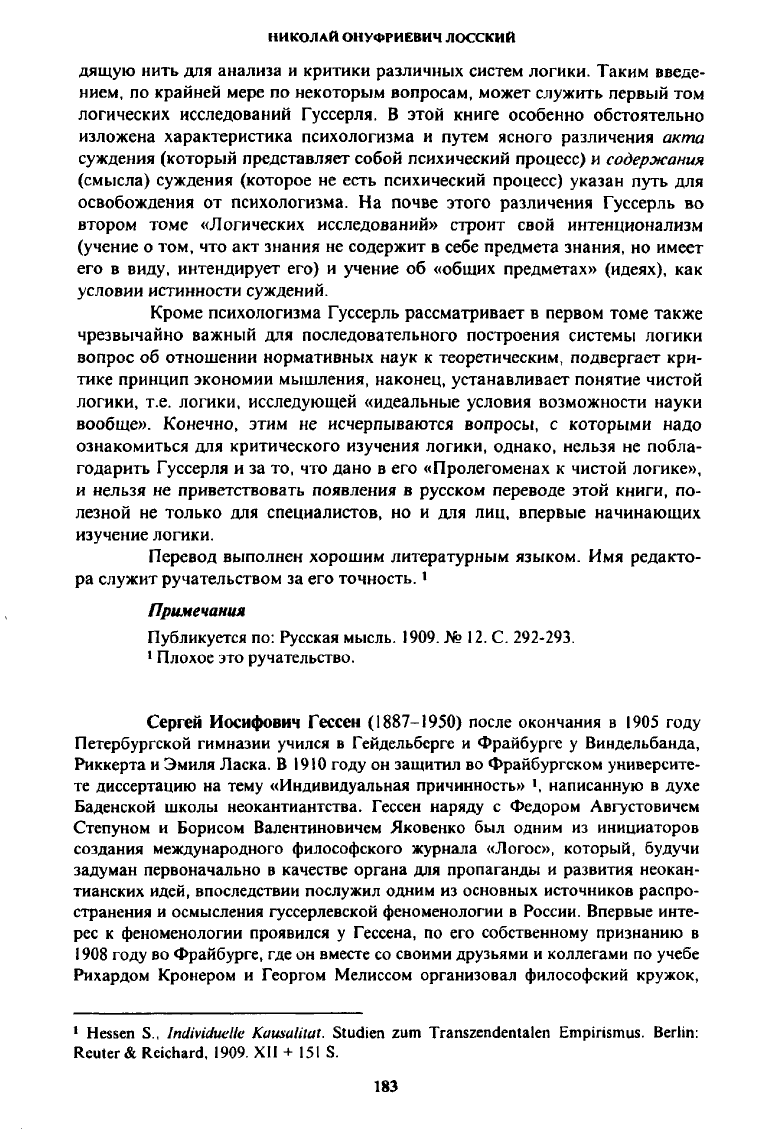
НИКОЛЛЙ
ОНУФРИЕВИЧ
ЛОСОСИЙ
дящую нить для анализа и критики различных систем логики. Таким введе-
нием,
по крайней мере по некоторым вопросам, может служить первый том
логических исследований Гуссерля. В этой книге особенно обстоятельно
изложена характеристика психологизма и путем ясного различения акта
суждения (который представляет собой психический процесс) и
содержания
(смысла) суждения (которое не есть психический процесс) указан путь для
освобождения от психологизма. На почве этого различения Гуссерль во
втором томе «Логических исследований» строит свой интенционализм
(учение о том, что акт
знания
не содержит в себе предмета
знания,
но имеет
его в
виду,
интендирует его) и учение об «общих
предметах»
(идеях), как
условии истинности суждений.
Кроме
психологизма Гуссерль рассматривает в первом томе также
чрезвычайно важный для последовательного построения системы логики
вопрос об отношении нормативных наук к теоретическим, подвергает кри-
тике
принцип экономии мышления,
наконец,
устанавливает понятие чистой
логики,
т.е. логики, исследующей «идеальные условия возможности науки
вообще». Конечно, этим не исчерпываются вопросы, с которыми надо
ознакомиться
для критического изучения логики, однако, нельзя не побла-
годарить Гуссерля и за то, что дано в его «Пролегоменах к чистой логике»,
и
нельзя не приветствовать появления в русском переводе этой книги, по-
лезной
не только для специалистов, но и для лиц, впервые начинающих
изучение логики.
Перевод выполнен хорошим литературным языком. Имя редакто-
ра служит ручательством за его точность. '
Примечания
Публикуется по: Русская мысль. 1909. № 12. С.
292-293.
1
Плохое это ручательство.
Сергей Иосифович Гессен
(1887-1950)
после окончания
в 1905
году
Петербургской гимназии учился
в
Гейдельберге
и
Фрайбурге
у
Виндельбанда,
Риккерта
и Эмиля Ласка.
В
1910
году
он защитил
во
Фрайбургском университе-
те диссертацию
на
тему
«Индивидуальная причинность»
·,
написанную
в духе
Баденской
школы неокантиантства. Гессен наряду
с
Федором
Августовичем
Степуном
и
Борисом Валентиновичем Яковенко
был
одним
из
инициаторов
создания международного философского журнала
«Логос»,
который,
будучи
задуман первоначально
в
качестве органа
для
пропаганды
и
развития неокан-
тианских идей, впоследствии послужил одним
из
основных источников распро-
странения
и
осмысления гуссерлевской феноменологии
в
России. Впервые инте-
рес
к
феноменологии проявился
у
Гессена,
по его
собственному признанию
в
1908
году
во Фрайбурге,
где
он вместе со своими друзьями и коллегами по
учебе
Рихардом Кронером
и
Георгом Мелиссом организовал философский кружок,
1
Hessen S.,
Individuelle
Kamalitat.
Studien
zum
Transzendentalen
Empirismus.
Berlin:
Reuter
&
Reichard,
1909. XII + 151 S.
183
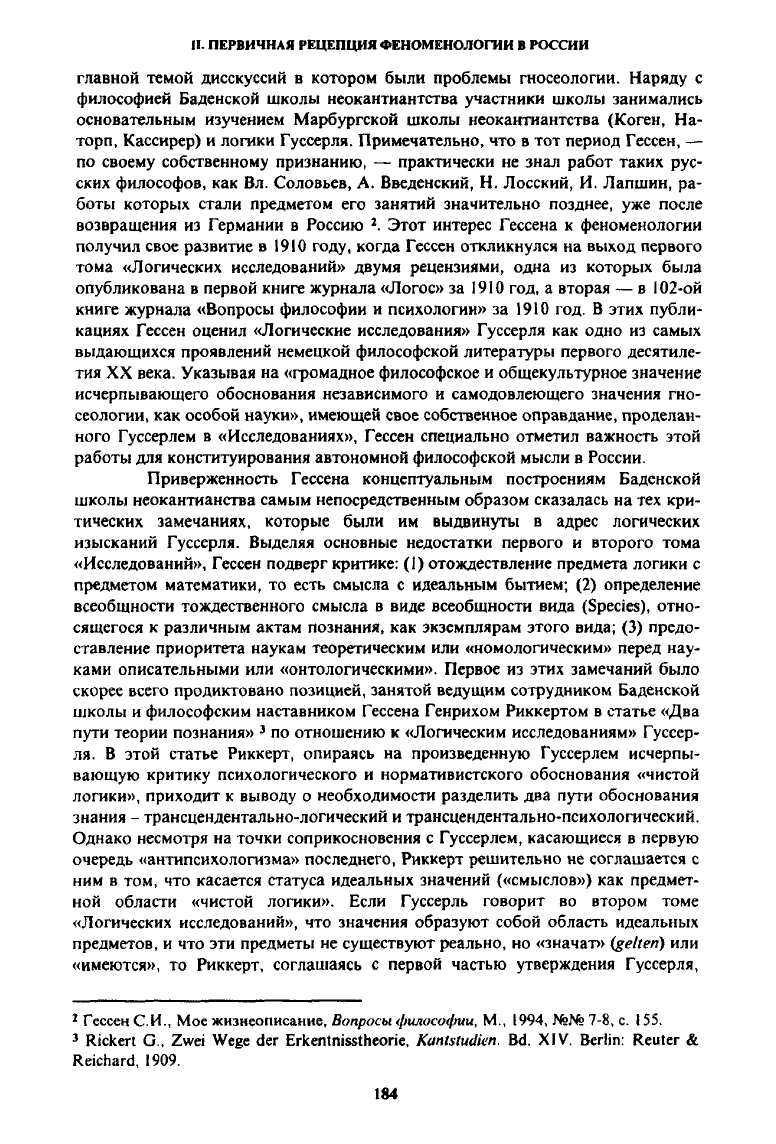
II.
ПЕРВИЧНАЯ
РЕЦЕПЦИЯ
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
В
РОССИИ
главной темой дисскуссий в котором были проблемы гносеологии. Наряду с
философией
Баденской школы неокантиантства участники школы занимались
основательным изучением Марбургской школы неокантиантства (Коген, На-
торп, Кассирер) и логики Гуссерля. Примечательно, что в тот период Гессен, —
по
своему собственному признанию, — практически не знал работ таких рус-
ских философов, как Вл. Соловьев, Λ. Введенский, Н. Лосский, И. Лапшин, ра-
боты которых стали предметом его занятий значительно позднее, уже после
возвращения из Германии в Россию
2
. Этот интерес Гессена к феноменологии
получил свое развитие в 1910
году,
когда Гессен откликнулся на
выход
первого
тома «Логических исследований» двумя рецензиями, одна из которых была
опубликована в первой книге журнала
«Логос»
за 1910 год, а вторая — в
102-ой
книге
журнала «Вопросы философии и психологии» за 1910 год. В этих публи-
кациях
Гессен оценил «Логические исследования» Гуссерля как одно из самых
выдающихся проявлений немецкой философской литературы первого десятиле-
тия
XX века. Указывая на «громадное философское и общекультурное значение
исчерпывающего обоснования независимого и самодовлеющего значения гно-
сеологии, как особой науки», имеющей свое собственное оправдание, проделан-
ного Гуссерлем в «Исследованиях», Гессен специально отметил важность этой
работы для конституирования автономной философской мысли в России.
Приверженность Гессена концептуальным построениям Баденской
школы
неокантианства самым непосредственным образом сказалась на тех кри-
тических замечаниях, которые были им выдвинуты в адрес логических
изысканий
Гуссерля. Выделяя основные недостатки первого и второго тома
«Исследований», Гессен подверг критике: (I) отождествление предмета логики с
предметом математики, то есть смысла с идеальным бытием; (2) определение
всеобщности тождественного смысла в виде всеобщности вида (Species), отно-
сящегося к различным актам познания, как экземплярам этого вида; (3) предо-
ставление приоритета наукам теоретическим или «номологическим» перед нау-
ками
описательными или «онтологическими». Первое из этих замечаний было
скорее всего продиктовано позицией, занятой ведущим сотрудником Баденской
школы
и философским наставником Гессена Генрихом Риккертом в
статье
«Два
пути теории познания»
3
по отношению к «Логическим исследованиям» Гуссер-
ля.
В этой
статье
Риккерт, опираясь на произведенную Гуссерлем исчерпы-
вающую критику психологического и нормативистского обоснования «чистой
логики», приходит к выводу о необходимости разделить два пути обоснования
знания
- трансцендентально-логический и трансцендентально-психологический.
Однако несмотря на точки соприкосновения с Гуссерлем, касающиеся в первую
очередь «антипсихологизма» последнего, Риккерт решительно не соглашается с
ним
в том, что касается
статуса
идеальных значений
(«смыслов»)
как предмет-
ной
области «чистой логики». Если Гуссерль говорит во втором томе
«Логических исследований», что значения
образуют
собой область идеальных
предметов, и что эти предметы не
существуют
реально, но
«значат»
(gelten)
или
«имеются», то Риккерт, соглашаясь с первой частью утверждения Гуссерля,
1
Гессен
СИ.,
Мое
жизнеописание,
Вопросы
философии,
М., 1994,
№№
7-8, с. 155.
3
Rickert G.,
Zwei
Wege
der Erkentnisstheorie,
Kantstudien.
Bd. XIV. Berlin: Reuter &
Reichard, 1909.
184
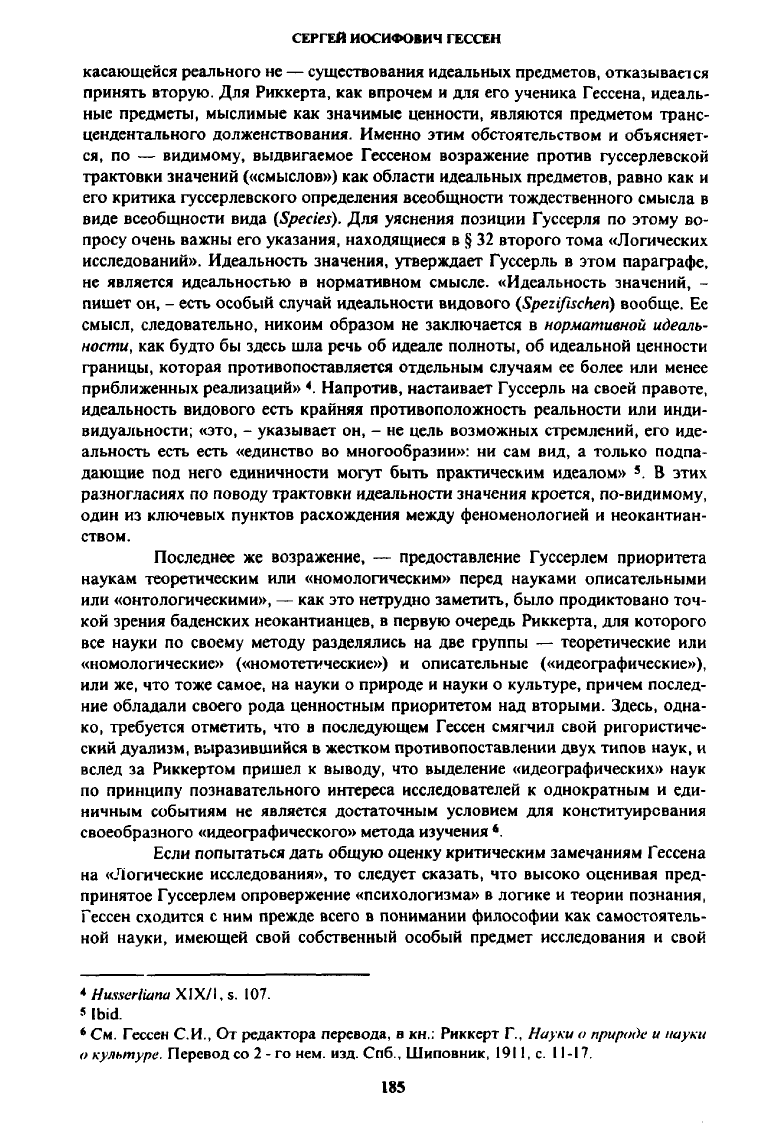
СЕРГЕЙ
ИОСИФОВИЧ
ГЕССЕН
касающейся реального не — существования идеальных предметов, отказывается
принять
вторую. Для Риккерта, как впрочем и для его ученика Гессена, идеаль-
ные предметы, мыслимые как значимые ценности, являются предметом транс-
цендентального долженствования.
Именно
этим обстоятельством и объясняет-
ся,
по — видимому, выдвигаемое Гессеном возражение против гуссерлевской
трактовки значений
(«смыслов»)
как области идеальных предметов, равно как и
его критика гуссерлевского определения всеобщности тождественного смысла в
виде всеобщности вида
(Species).
Для уяснения позиции Гуссерля по этому во-
просу очень важны его указания, находящиеся в § 32 второго тома «Логических
исследований». Идеальность значения,
утверждает
Гуссерль в этом параграфе,
не
является идеальностью в нормативном смысле. «Идеальность значений, -
пишет он, - есть особый случай идеальности видового
(Spezifischen)
вообще. Ее
смысл, следовательно, никоим образом не заключается в
нормативной
идеаль-
ности,
как
будто
бы здесь шла речь об идеале полноты, об идеальной ценности
границы,
которая противопоставляется отдельным случаям ее более или менее
приближенных реализаций»
4
. Напротив, настаивает Гуссерль на своей правоте,
идеальность видового есть
крайняя
противоположность реальности или инди-
видуальности; «это, - указывает он, - не цель возможных стремлений, его иде-
альность есть есть «единство во многообразии»: ни сам вид, а только подпа-
дающие под него единичности
могут
быть практическим
идеалом»
5
. В этих
разногласиях по поводу трактовки идеальности значения кроется, по-видимому,
один из ключевых пунктов расхождения
между
феноменологией и неокантиан-
ством.
Последнее же возражение, — предоставление Гуссерлем приоритета
наукам теоретическим или «номологическим» перед науками описательными
или
«онтологическими», — как это нетрудно заметить, было продиктовано точ-
кой
зрения баденских неокантианцев, в первую очередь Риккерта, для которого
все науки по своему
методу
разделялись на две группы — теоретические или
«номологические» («номотетические») и описательные («идеографические»),
или
же, что тоже самое, на науки о природе и науки о
культуре,
причем послед-
ние
обладали своего рода ценностным приоритетом над вторыми. Здесь, одна-
ко,
требуется отметить, что в последующем Гессен смягчил свой ригористиче-
ский
дуализм, выразившийся в жестком противопоставлении
двух
типов наук, и
вслед за Риккертом пришел к
выводу,
что выделение «идеографических» наук
по
принципу познавательного интереса исследователей к однократным и еди-
ничным
событиям не является достаточным условием для конституирсвания
своеобразного «идеографического» метода изучения
6
.
Если попытаться дать общую оценку критическим замечаниям Гессена
на
«Логические исследования», то
следует
сказать, что высоко оценивая пред-
принятое
Гуссерлем опровержение
«психологизма»
в логике и теории
познания,
Гессен сходится с ним прежде всего в понимании философии как самостоятель-
ной
науки, имеющей свой собственный особый предмет исследования и свой
*
Hussc-rliana
XIX/I,
s. 107.
5
Ibid.
6
См.
Гессен
СИ.,
От редактора перевода, в
кн.:
Риккерт Г., Науки о
природе
и науки
о
культуре.
Перевод со 2-го
нем.
изд. Спб.,
Шиповник,
1911, с.
11-17.
185
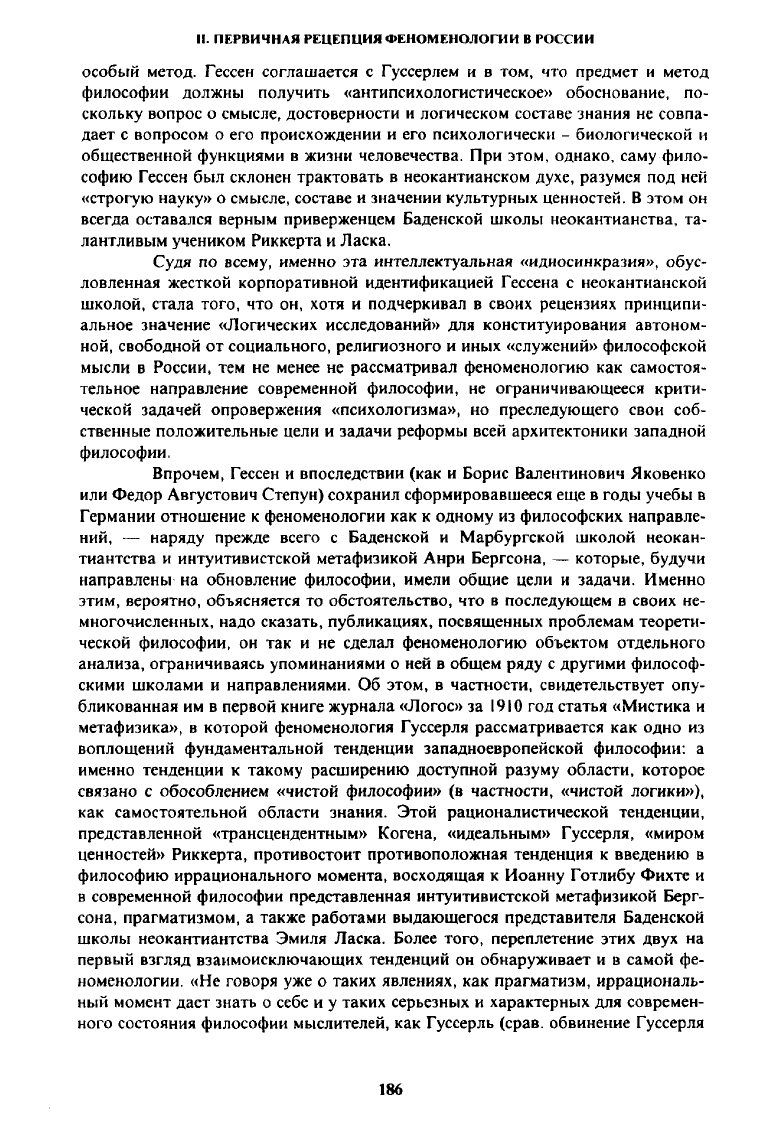
II.
ПЕРВИЧНАЯ
РЕЦЕПЦИЯ
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
В
РОССИИ
особый метод. Гессен соглашается с Гуссерлем и в том, что предмет и метод
философии
должны получить «антипсихологистическое» обоснование, по-
скольку вопрос о смысле, достоверности и логическом составе знания не совпа-
дает
с вопросом о его происхождении и его психологически - биологической и
общественной функциями в жизни человечества. При этом, однако, саму фило-
софию Гессен был склонен трактовать в неокантианском
духе,
разумея под ней
«строгую
науку»
о смысле, составе и значении культурных ценностей. В этом он
всегда
оставался верным приверженцем Баденской школы неокантианства, та-
лантливым учеником Риккерта и Ласка.
Судя по
всему,
именно эта интеллектуальная «идиосинкразия», обус-
ловленная жесткой корпоративной идентификацией Гессена с неокантианской
школой,
стала того, что он, хотя и подчеркивал в своих рецензиях принципи-
альное значение «Логических исследований» для конституирования автоном-
ной,
свободной от социального, религиозного и иных
«служений»
философской
мысли в России, тем не менее не рассматривал феноменологию как самостоя-
тельное направление современной философии, не ограничивающееся крити-
ческой задачей опровержения «психологизма», но преследующего свои соб-
ственные положительные цели и задачи реформы всей архитектоники западной
философии.
Впрочем, Гессен и впоследствии (как и Борис Валентинович Яковенко
или
Федор
Августович
Степун) сохранил сформировавшееся еще в годы
учебы
в
Германии отношение к феноменологии как к одному из философских направле-
ний,
— наряду прежде всего с Баденской и Марбургской школой неокан-
тиантства и интуитивистской метафизикой Анри Бергсона, — которые,
будучи
направлены на обновление философии, имели общие цели и задачи. Именно
этим,
вероятно, объясняется то обстоятельство, что в последующем в своих не-
многочисленных, надо сказать, публикациях, посвященных проблемам теорети-
ческой философии, он так и не сделал феноменологию объектом отдельного
анализа, ограничиваясь упоминаниями о ней в общем ряду с другими философ-
скими
школами и направлениями. Об этом, в частности,
свидетельствует
опу-
бликованная
им в первой книге журнала
«Логос»
за 1910 год статья «Мистика и
метафизика», в которой феноменология Гуссерля рассматривается как одно из
воплощений
фундаментальной тенденции западноевропейской философии: а
именно
тенденции к такому расширению доступной
разуму
области, которое
связано
с обособлением «чистой философии» (в частности, «чистой логики»),
как
самостоятельной области знания. Этой рационалистической тенденции,
представленной «трансцендентным» Когена,
«идеальным»
Гуссерля, «миром
ценностей» Риккерта, противостоит противоположная тенденция к введению в
философию
иррационального момента, восходящая к Иоанну Готлибу Фихте и
в
современной философии представленная интуитивистской метафизикой Берг-
сона,
прагматизмом, а также работами выдающегося представителя Баденской
школы
неокантиантства Эмиля Ласка. Более того, переплетение этих
двух
на
первый взгляд взаимоисключающих тенденций он обнаруживает и в самой фе-
номенологии.
«Не говоря уже о таких явлениях, как прагматизм, иррациональ-
ный
момент
дает
знать о себе и у таких серьезных и характерных для современ-
ного состояния философии мыслителей, как Гуссерль (срав. обвинение Гуссерля
186
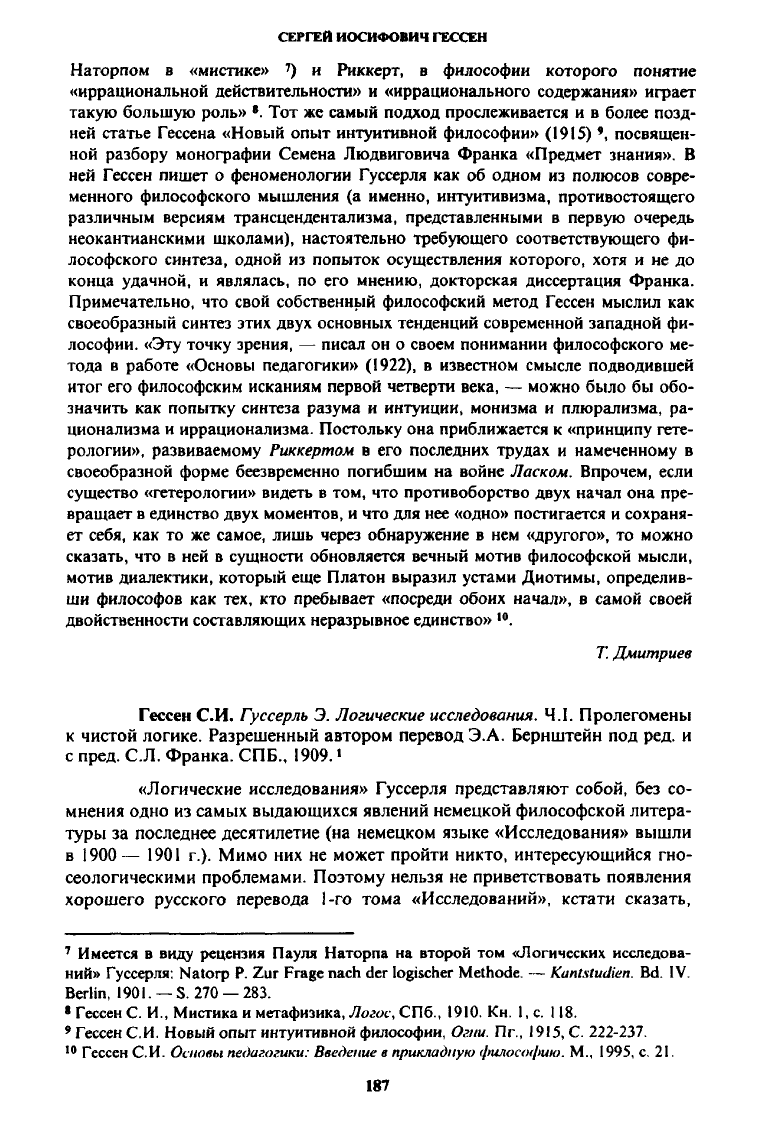
СЕРГЕЙ
ИОСИФОВИЧ
ГЕССЕН
Наторпом
в
«мистике»
7
) и
Риккерт,
в
философии которого понятие
«иррациональной действительности»
и
«иррационального содержания» играет
такую
большую
роль»
*. Тот же
самый
подход
прослеживается
и в
более позд-
ней
статье
Гессена «Новый опыт интуитивной философии»
(1915)
',
посвящен-
ной
разбору монографии Семена Людвиговича Франка «Предмет знания».
В
ней
Гессен пишет
о
феноменологии Гуссерля
как об
одном
из
полюсов совре-
менного философского мышления
(а
именно, интуитивизма, противостоящего
различным версиям трансцендентализма, представленными
в
первую очередь
неокантианскими
школами), настоятельно
требующего
соответствующего
фи-
лософского синтеза, одной
из
попыток осуществления которого, хотя
и не до
конца
удачной,
и
являлась,
по его
мнению, докторская диссертация Франка.
Примечательно,
что
свой собственный философский метод Гессен мыслил
как
своеобразный синтез этих
двух
основных тенденций современной западной фи-
лософии.
«Эту
точку зрения,
—
писал
он о
своем понимании философского
ме-
тода
в
работе «Основы педагогики» (1922),
в
известном смысле подводившей
итог
его
философским исканиям первой четверти века,
—
можно было
бы обо-
значить
как
попытку синтеза разума
и
интуиции, монизма
и
плюрализма,
ра-
ционализма
и иррационализма. Постольку она приближается
к
«принципу гете-
рологии», развиваемому
Риккертом
в его
последних
трудах
и
намеченному
в
своеобразной форме беезвременно погибшим
на
войне
Ласком.
Впрочем, если
существо
«гетерологии»
видеть
в
том,
что
противоборство
двух
начал
она
пре-
вращает
в
единство
двух
моментов,
и
что для нее
«одно»
постигается
и
сохраня-
ет себя,
как то же
самое, лишь через обнаружение
в нем
«другого»,
то
можно
сказать,
что в ней в
сущности обновляется вечный мотив философской мысли,
мотив диалектики, который еще Платон выразил устами Диотимы, определив-
ши
философов
как тех, кто
пребывает «посреди обоих начал»,
в
самой своей
двойственности составляющих неразрывное единство»
10
.
Т.
Дмитриев
Гессен
СИ. Гуссерль Э. Логические
исследования.
4.1.
Пролегомены
к
чистой логике. Разрешенный автором перевод Э.А. Бернштейн под ред. и
с
пред. С.Л.
Франка.
СПБ.,
1909.
»
«Логические исследования» Гуссерля представляют собой, без со-
мнения
одно из самых выдающихся явлений немецкой философской литера-
туры
за последнее десятилетие (на немецком языке «Исследования» вышли
в
1900 — 1901 г.). Мимо них не может пройти никто, интересующийся гно-
сеологическими проблемами. Поэтому нельзя не приветствовать появления
хорошего русского перевода 1-го тома «Исследований», кстати сказать,
7
Имеется
в
виду рецензия Пауля Наторпа
на
второй
том
«Логических исследова-
ний» Гуссерля: Natorp Р.
Zur
Frage nach
der
logischer Methode.
—
Kantstudien.
Bd.
IV.
Berlin, 1901.
—
S.
270
—
283.
8
Гессен С. И., Мистика и метафизика,
Логос,
СПб.,
1910.
Кн. 1,
с. 118.
9
Гессен СИ. Новый опыт интуитивной философии,
Огни.
Пг., 1915, С. 222-237.
ίο
Гессен СИ.
Основы
педагогики:
Введение
β
прикладную
философию.
М., 1995,
с. 21.
187
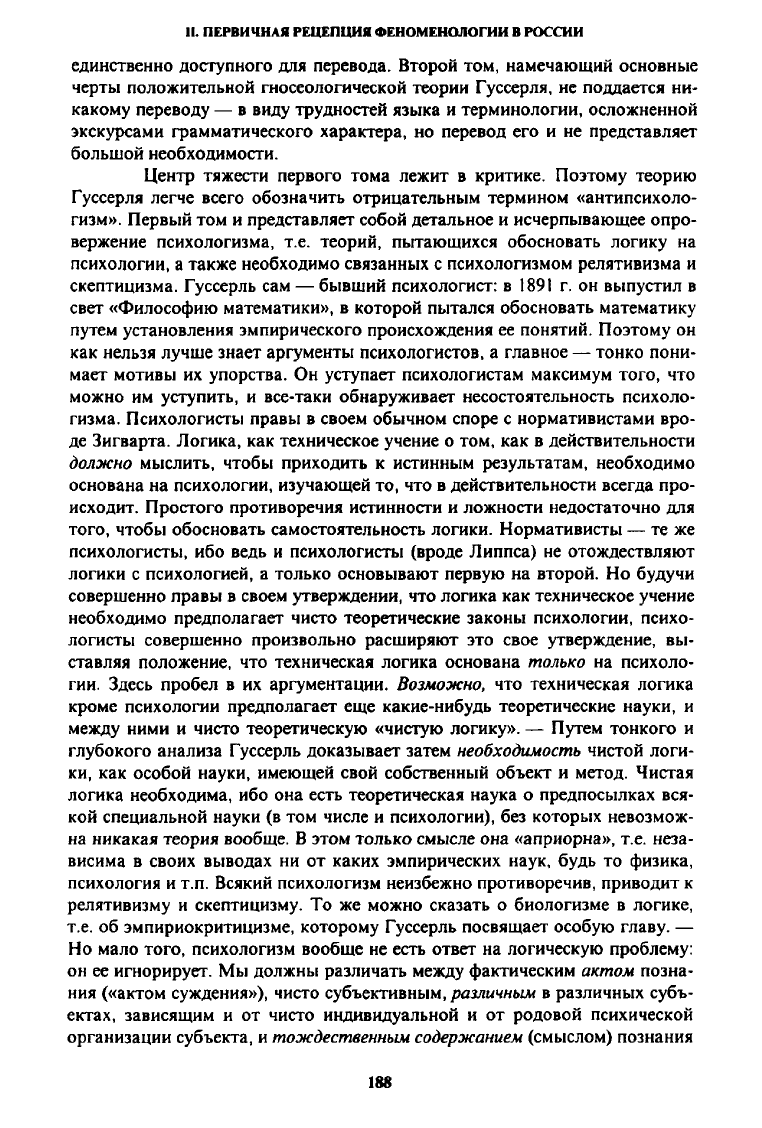
II.
ПЕРВИЧНАЯ
РЕЦЕПЦИЯ
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
В
РОССИИ
единственно доступного для перевода. Второй том, намечающий основные
черты положительной гносеологической теории Гуссерля, не поддается ни-
какому переводу — в
виду
трудностей языка и терминологии, осложненной
экскурсами
грамматического характера, но перевод его и не представляет
большой необходимости.
Центр
тяжести первого тома лежит в критике. Поэтому теорию
Гуссерля
легче
всего обозначить отрицательным термином «антипсихоло-
гизм». Первый том и представляет собой детальное и исчерпывающее опро-
вержение психологизма, т.е. теорий, пытающихся обосновать логику на
психологии, а также необходимо связанных с психологизмом релятивизма и
скептицизма.
Гуссерль
сам — бывший психологист: в 1891 г. он выпустил в
свет «Философию математики», в которой пытался обосновать математику
путем
установления эмпирического происхождения ее
понятий.
Поэтому он
как
нельзя
лучше
знает аргументы психологистов, а главное — тонко
пони-
мает мотивы их упорства. Он
уступает
психологистам максимум того, что
можно
им
уступить,
и все-таки обнаруживает несостоятельность психоло-
гизма. Психологисты правы в своем обычном споре с нормативистами вро-
де Зигварта. Логика, как техническое учение о том, как в действительности
должно
мыслить, чтобы приходить к истинным результатам, необходимо
основана
на психологии, изучающей то, что в действительности
всегда
про-
исходит. Простого противоречия истинности и ложности недостаточно для
того, чтобы обосновать самостоятельность логики. Нормативисты — те же
психологисты, ибо ведь и психологисты (вроде Липпса) не отождествляют
логики
с психологией, а только основывают первую на второй. Но
будучи
совершенно
правы в своем утверждении, что логика как техническое учение
необходимо предполагает чисто теоретические законы психологии, психо-
логисты совершенно произвольно расширяют это свое утверждение, вы-
ставляя положение, что техническая логика основана
только
на психоло-
гии.
Здесь пробел в их аргументации.
Возможно,
что техническая логика
кроме
психологии предполагает еще какие-нибудь теоретические науки, и
между
ними и чисто теоретическую
«чистую
логику».
— Путем тонкого и
глубокого анализа
Гуссерль
доказывает затем
необходимость
чистой логи-
ки,
как особой науки, имеющей свой собственный объект и метод. Чистая
логика необходима, ибо она есть теоретическая наука о предпосылках вся-
кой
специальной науки (в том числе и психологии), без которых невозмож-
на
никакая
теория вообще. В этом только смысле она «априорна», т.е. неза-
висима
в своих выводах ни от каких эмпирических наук,
будь
то физика,
психология
и
т.п. Всякий психологизм неизбежно противоречив, приводит к
релятивизму и скептицизму. То же можно сказать о биологизме в логике,
т.е. об
эмпириокритицизме,
которому
Гуссерль
посвящает
особую
главу.
—
Но
мало того, психологизм вообще не есть
ответ
на логическую проблему:
он
ее игнорирует. Мы должны различать
между
фактическим
актом
позна-
ния
(«актом суждения»), чисто субъективным,
различным
в различных
субъ-
ектах, зависящим и от чисто индивидуальной и от родовой психической
организации
субъекта,
и
тождественным
содержанием
(смыслом) познания
188
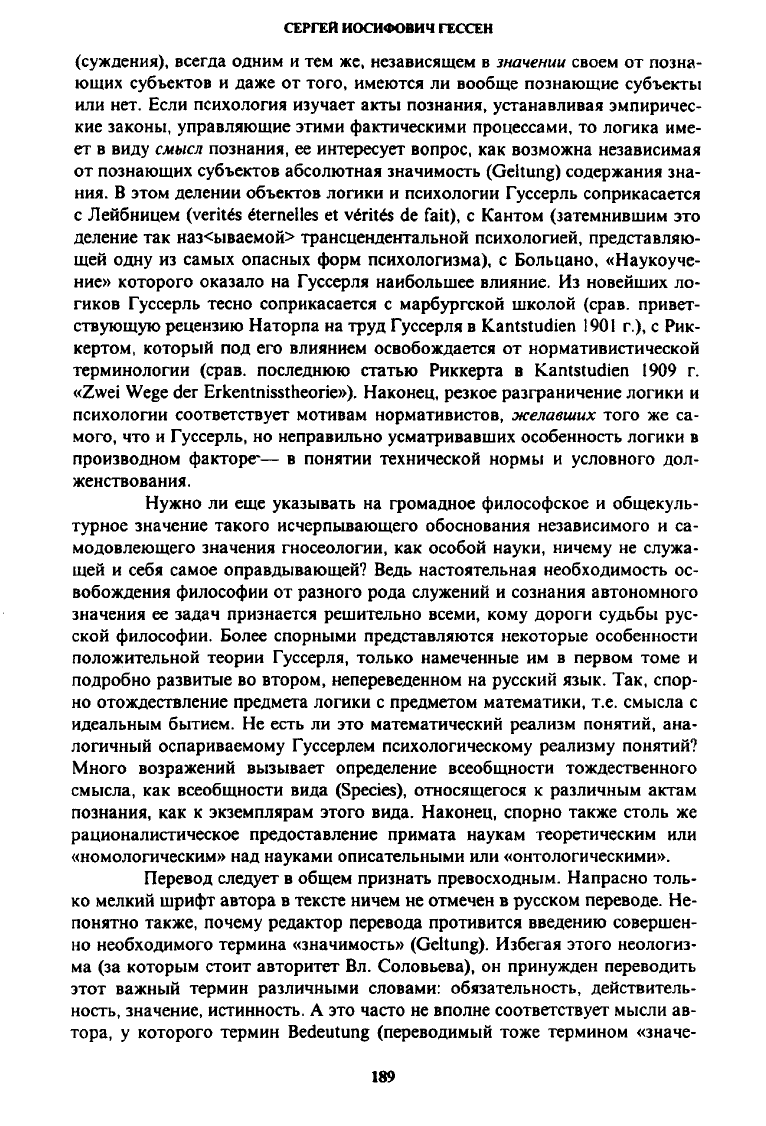
СЕРГЕЙ
ИОСИФОВИЧ
ГЕССЕН
(суждения),
всегда
одним и тем же, независящем в
значении
своем от позна-
ющих субъектов и
даже
от того, имеются ли вообще познающие субъекты
или
нет. Если психология
изучает
акты познания, устанавливая эмпиричес-
кие
законы, управляющие этими фактическими процессами, то логика име-
ет в
виду
смысл
познания, ее интересует вопрос, как возможна независимая
от познающих субъектов абсолютная значимость (Geltung) содержания зна-
ния.
В этом делении объектов логики и психологии
Гуссерль
соприкасается
с Лейбницем
(vérités
éternelles
et
vérités
de
fait),
с Кантом (затемнившим это
деление так наз<ываемой> трансцендентальной психологией, представляю-
щей одну из самых опасных форм психологизма), с Больцано, «Наукоуче-
ние» которого оказало на Гуссерля наибольшее влияние. Из новейших ло-
гиков
Гуссерль
тесно соприкасается с марбургской школой (срав. привет-
ствующую
рецензию Наторпа на
труд
Гуссерля в Kantstudien 1901 г.), с Рик-
кертом, который под его влиянием освобождается от нормативистической
терминологии (срав. последнюю
статью
Риккерта в Kantstudien 1909 г.
«Zwei
Wege
der Erkentnisstheorie»).
Наконец,
резкое разграничение логики и
психологии
соответствует
мотивам нормативистов,
желавших
того же са-
мого, что и Гуссерль, но неправильно усматривавших особенность логики в
производном факторе-— в понятии технической нормы и условного дол-
женствования.
Нужно ли еще указывать на громадное философское и общекуль-
турное значение такого исчерпывающего обоснования независимого и са-
модовлеющего значения гносеологии, как особой науки, ничему не
служа-
щей и себя самое оправдывающей?
Ведь
настоятельная необходимость ос-
вобождения философии от разного рода служений и сознания автономного
значения
ее задач признается решительно всеми, кому дороги
судьбы
рус-
ской
философии. Более спорными представляются некоторые особенности
положительной теории Гуссерля, только намеченные им в первом томе и
подробно развитые во втором, непереведенном на русский язык. Так, спор-
но
отождествление предмета логики с предметом математики, т.е. смысла с
идеальным бытием. Не есть ли это математический реализм понятий, ана-
логичный оспариваемому Гуссерлем психологическому реализму понятий?
Много возражений вызывает определение всеобщности тождественного
смысла, как всеобщности вида (Species), относящегося к различным актам
познания,
как к экземплярам этого вида. Наконец, спорно также столь же
рационалистическое предоставление примата наукам теоретическим или
«номологическим» над науками описательными или «онтологическими».
Перевод
следует
в общем признать превосходным. Напрасно толь-
ко
мелкий шрифт автора в тексте ничем не отмечен в русском переводе. Не-
понятно
также, почему редактор перевода противится введению совершен-
но
необходимого термина
«значимость»
(Geltung). Избегая этого неологиз-
ма (за которым стоит авторитет Вл. Соловьева), он принужден переводить
этот важный термин различными словами: обязательность, действитель-
ность, значение, истинность. А это часто не вполне
соответствует
мысли ав-
тора, у которого термин Bedeutung (переводимый тоже термином «значе-
189
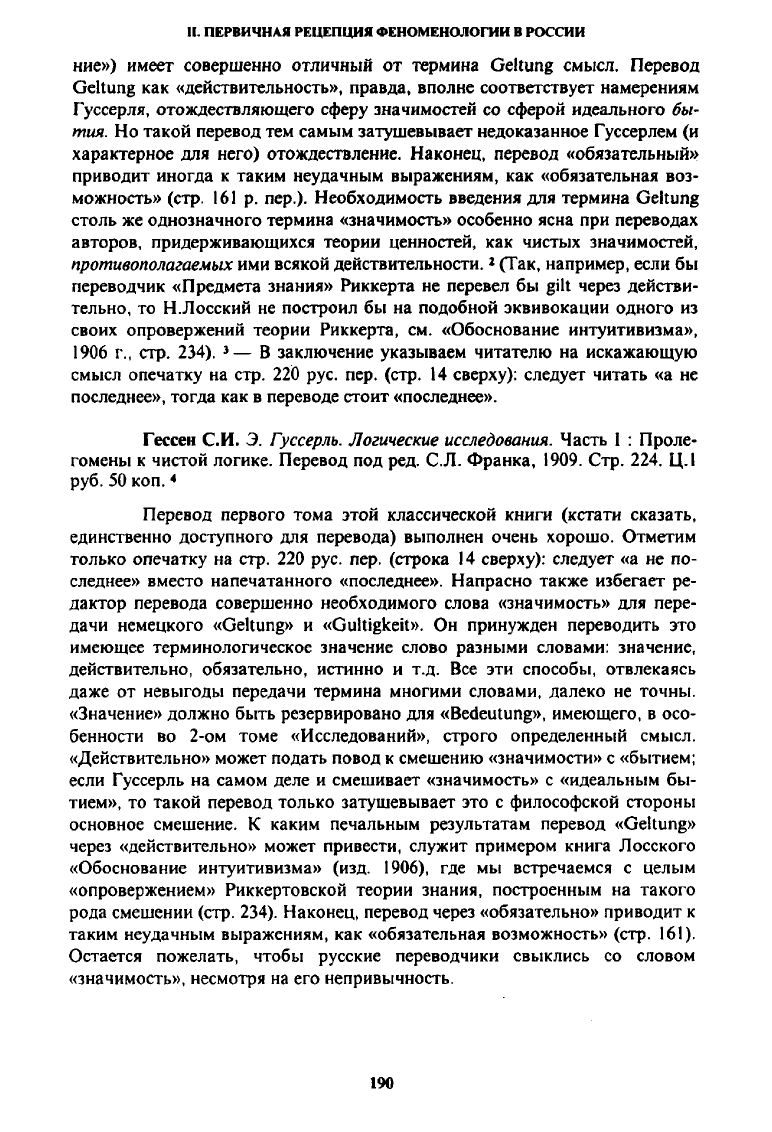
II.
ПЕРВИЧНАЯ
РЕЦЕПЦИЯ
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
В
РОССИИ
ние») имеет совершенно отличный от термина Geltung смысл. Перевод
Geltung как «действительность», правда, вполне соответствует намерениям
Гуссерля, отождествляющего сферу значимостей со сферой идеального бы-
тия. Но такой перевод тем самым затушевывает недоказанное Гуссерлем (и
характерное для него) отождествление.
Наконец,
перевод «обязательный»
приводит иногда к таким неудачным выражениям, как «обязательная воз-
можность» (стр. 161р. пер.). Необходимость введения для термина Geltung
столь же однозначного термина «значимость» особенно ясна при переводах
авторов, придерживающихся теории ценностей, как чистых значимостей,
противополагаемых
ими
всякой
действительности.
2
(Так,
например,
если бы
переводчик «Предмета знания» Риккерта не перевел бы
gilt
через действи-
тельно, то Н.Лосский не построил бы на подобной эквивокации одного из
своих опровержений теории Риккерта, см. «Обоснование интуитивизма»,
1906 г., стр. 234).
3
— В заключение указываем читателю на искажающую
смысл опечатку на стр. 220 рус. пер. (стр. 14 сверху):
следует
читать «а не
последнее», тогда как в переводе стоит «последнее».
Гессен
СИ. Э.
Гуссерль.
Логические
исследования.
Часть I : Проле-
гомены к чистой логике. Перевод под ред. С.Л. Франка, 1909. Стр. 224. Ц.1
руб. 50
коп.
4
Перевод первого тома этой классической книги (кстати сказать,
единственно
доступного для перевода) выполнен очень хорошо. Отметим
только опечатку на стр. 220 рус. пер. (строка 14 сверху):
следует
«а не по-
следнее» вместо напечатанного «последнее». Напрасно также избегает ре-
дактор перевода совершенно необходимого слова «значимость» для пере-
дачи немецкого «Geltung» и
«Gültigkeit».
Он принужден переводить это
имеющее терминологическое значение слово разными словами: значение,
действительно, обязательно, истинно и т.д. Все эти способы, отвлекаясь
даже от невыгоды передачи термина многими словами, далеко не точны.
«Значение» должно быть резервировано для «Bedeutung», имеющего, в осо-
бенности
во 2-ом томе «Исследований», строго определенный смысл.
«Действительно» может подать повод
к
смешению «значимости» с «бытием;
если Гуссерль на самом деле и смешивает «значимость» с «идеальным бы-
тием», то такой перевод только затушевывает это с философской стороны
основное
смешение. К каким печальным результатам перевод «Geltung»
через «действительно» может привести, служит примером книга Лосского
«Обоснование интуитивизма» (изд. 1906), где мы встречаемся с целым
«опровержением» Риккертовской теории
знания,
построенным на такого
рода смешении (стр. 234).
Наконец,
перевод через «обязательно» приводит
к
таким
неудачным выражениям, как «обязательная возможность» (стр. 161).
Остается пожелать, чтобы русские переводчики свыклись со словом
«значимость», несмотря на его непривычность.
190
