Чубаров И.М. (ред., сост.) Антология феноменологической философии в России
Подождите немного. Документ загружается.

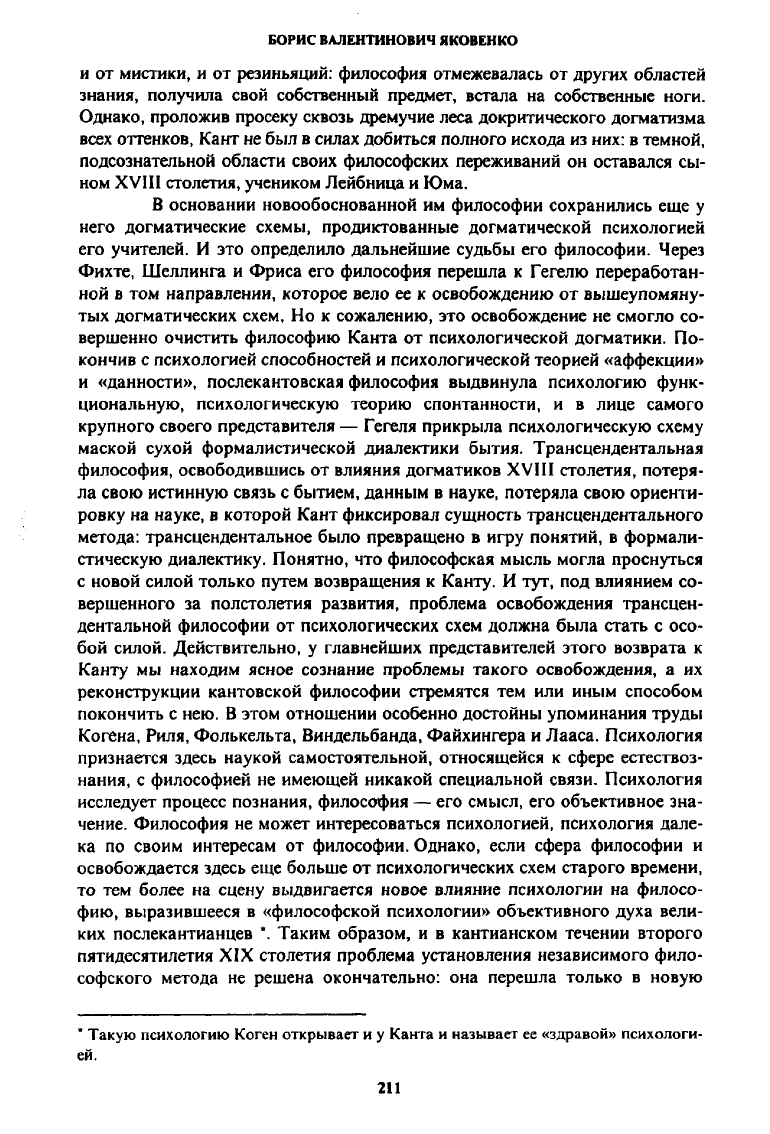
БОРИС
ВАЛЕНТИНОВИЧ
ЯКОВЕНКО
и
от мистики, и от
резиньяций:
философия отмежевалась от
других
областей
знания,
получила свой собственный предмет, встала на собственные ноги.
Однако,
проложив просеку сквозь
дремучие
леса докритического догматизма
всех
оттенков, Кант
не
был в силах добиться полного
исхода
из них: в темной,
подсознательной области своих философских переживаний он оставался сы-
ном
XVIII
столетия, учеником Лейбница и Юма.
В основании новообоснованной им философии сохранились еще у
него догматические схемы, продиктованные догматической психологией
его учителей. И это определило дальнейшие
судьбы
его философии. Через
Фихте, Шеллинга и Фриса его философия перешла к
Гегелю
переработан-
ной
в том направлении, которое вело ее к освобождению от вышеупомяну-
тых догматических схем. Но к сожалению, это освобождение не смогло со-
вершенно очистить философию Канта от психологической догматики. По-
кончив
с психологией способностей и психологической теорией «аффекции»
и
«данности», послекантовская философия выдвинула психологию функ-
циональную, психологическую теорию спонтанности, и в лице самого
крупного своего представителя — Гегеля прикрыла психологическую
схему
маской
сухой
формалистической диалектики бытия. Трансцендентальная
философия,
освободившись от влияния догматиков
XVIII
столетия, потеря-
ла свою истинную связь с бытием, данным в науке, потеряла свою ориенти-
ровку на науке, в которой Кант фиксировал сущность трансцендентального
метода: трансцендентальное было превращено в игру понятий, в формали-
стическую диалектику. Понятно, что философская мысль могла проснуться
с новой силой только
путем
возвращения к Канту. И тут, под влиянием со-
вершенного за полстолетия развития, проблема освобождения трансцен-
дентальной философии от психологических
схем
должна была стать с осо-
бой силой. Действительно, у главнейших представителей этого возврата к
Канту мы находим ясное сознание проблемы такого освобождения, а их
реконструкции кантовской философии стремятся тем или иным способом
покончить
с нею. В этом отношении особенно достойны упоминания
труды
Когена,
Риля,
Фолькельта, Виндельбанда, Файхингера и Лааса. Психология
признается здесь наукой самостоятельной, относящейся к сфере естествоз-
нания,
с философией не имеющей никакой специальной связи. Психология
исследует
процесс познания, философия — его смысл, его объективное зна-
чение.
Философия не может интересоваться психологией, психология дале-
ка
по своим интересам от
философии.
Однако, если сфера философии и
освобождается здесь еще больше от психологических
схем
старого времени,
то тем более на сцену выдвигается новое влияние психологии на филосо-
фию,
выразившееся в «философской психологии» объективного
духа
вели-
ких послекантианцев \ Таким образом, и в кантианском течении второго
пятидесятилетия XIX столетия проблема установления независимого фило-
софского метода не решена окончательно: она перешла только в новую
*
Такую психологию Коген открывает
и
у Канта
и
называет ее
«здравой»
психологи-
ей.
211
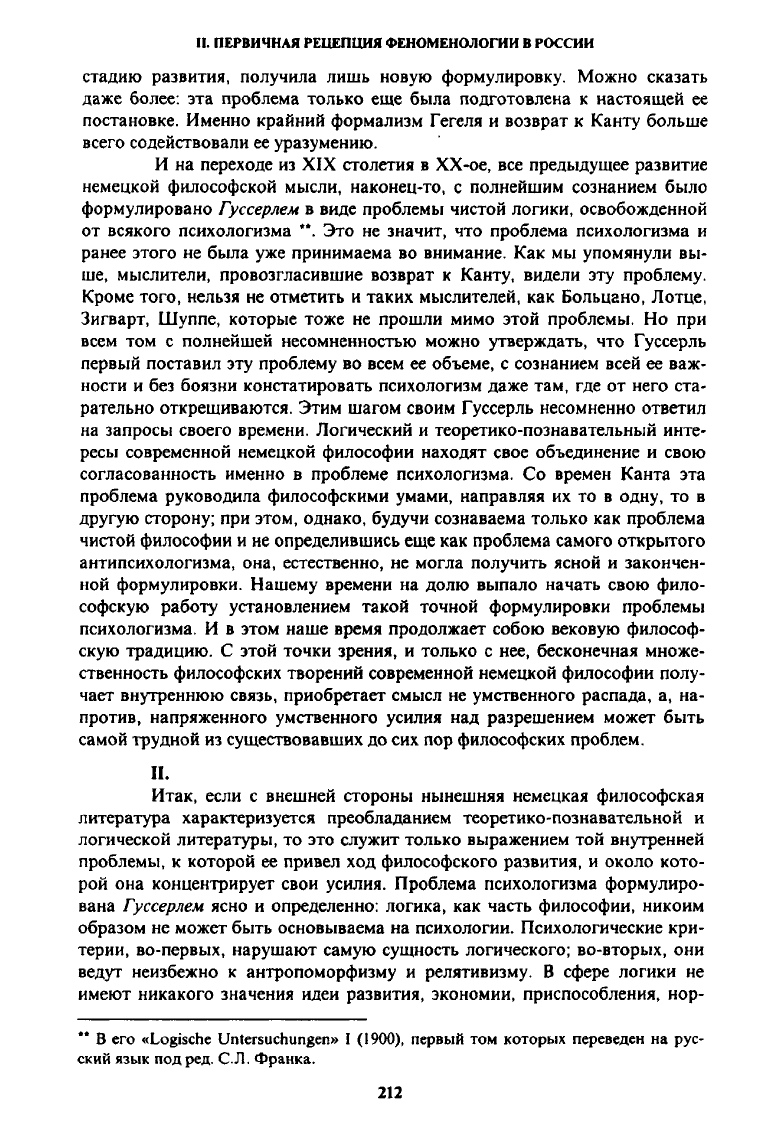
II.
ПЕРВИЧНАЯ
РЕЦЕПЦИЯ
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
В
РОССИИ
стадию развития, получила лишь новую формулировку. Можно сказать
даже
более: эта проблема только еще была подготовлена к настоящей ее
постановке. Именно крайний формализм Гегеля и возврат к Канту больше
всего содействовали ее уразумению.
И
на
переходе
из XIX столетия в
ХХ-ое,
все предыдущее развитие
немецкой
философской мысли, наконец-то, с полнейшим сознанием было
формулировано
Гуссерлем
в виде проблемы чистой логики, освобожденной
от всякого психологизма **. Это не значит, что проблема психологизма и
ранее этого не была уже принимаема во внимание. Как мы упомянули вы-
ше,
мыслители, провозгласившие возврат к Канту, видели эту проблему.
Кроме того, нельзя не отметить и таких мыслителей, как Больцано, Лотце,
Зигварт, Шуппе, которые
тоже
не прошли мимо этой проблемы. Но при
всем том с полнейшей несомненностью можно
утверждать,
что
Гуссерль
первый поставил эту проблему во всем ее объеме, с сознанием всей ее важ-
ности и без боязни констатировать психологизм
даже
там, где от него ста-
рательно открещиваются. Этим шагом своим
Гуссерль
несомненно ответил
на
запросы своего времени. Логический и теоретико-познавательный инте-
ресы современной немецкой философии находят свое объединение и свою
согласованность именно в проблеме психологизма. Со времен Канта эта
проблема руководила философскими умами, направляя их то в
одну,
то в
другую
сторону; при этом, однако,
будучи
сознаваема только как проблема
чистой философии и не определившись еще как проблема самого открытого
антипсихологизма, она, естественно, не могла получить ясной и закончен-
ной
формулировки. Нашему времени на
долю
выпало начать свою фило-
софскую
работу
установлением такой точной формулировки проблемы
психологизма. И в этом наше время продолжает собою вековую философ-
скую традицию. С этой точки зрения, и только с нее, бесконечная множе-
ственность философских творений современной немецкой философии полу-
чает
внутреннюю связь, приобретает смысл не умственного распада, а, на-
против, напряженного умственного усилия над разрешением может быть
самой трудной из существовавших до сих пор философских проблем.
II.
Итак,
если с внешней стороны нынешняя немецкая философская
литература характеризуется преобладанием теоретико-познавательной и
логической литературы, то это
служит
только выражением той внутренней
проблемы, к которой ее привел ход философского развития, и около кото-
рой она концентрирует свои усилия. Проблема психологизма формулиро-
вана
Гуссерлем
ясно и определенно: логика, как часть философии, никоим
образом не может быть основываема на психологии. Психологические кри-
терии, во-первых, нарушают
самую
сущность логического; во-вторых, они
ведут
неизбежно к антропоморфизму и релятивизму. В сфере логики не
имеют никакого значения идеи развития, экономии, приспособления, нор-
** В его
«Logische
Untersuchungen» I (1900), первый том которых переведен на рус-
ский
язык
под ред. С.Л.
Франка.
212
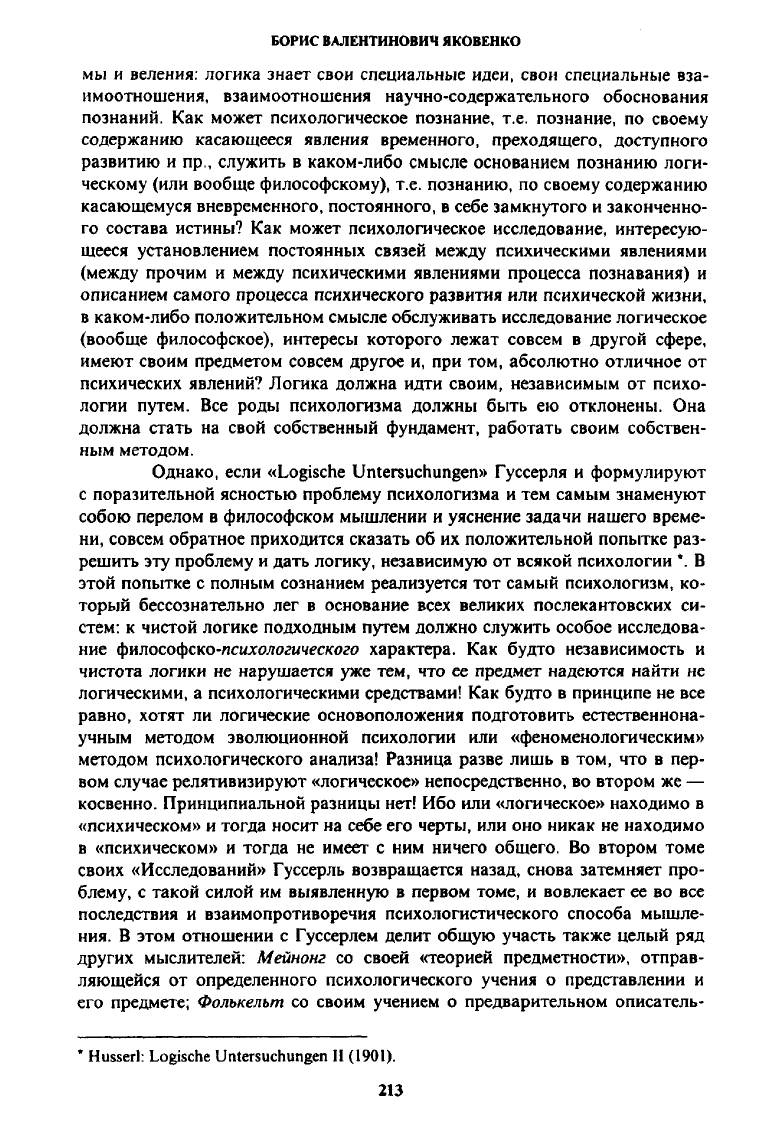
БОРИС
ВАЛЕНТИНОВИЧ
ЯКОВЕНКО
мы
и веления: логика знает свои специальные идеи, свои специальные вза-
имоотношения,
взаимоотношения научно-содержательного обоснования
познаний.
Как может психологическое познание, т.е. познание, по своему
содержанию касающееся явления временного, преходящего, доступного
развитию и пр., служить в каком-либо смысле основанием познанию логи-
ческому (или вообще
философскому),
т.е. познанию, по своему содержанию
касающемуся вневременного, постоянного, в себе замкнутого и законченно-
го состава истины? Как может психологическое исследование, интересую-
щееся
установлением постоянных связей
между
психическими явлениями
(между
прочим и
между
психическими явлениями процесса познавания) и
описанием
самого процесса психического развития или психической жизни,
в
каком-либо положительном смысле обслуживать исследование логическое
(вообще философское), интересы которого
лежат
совсем в
другой
сфере,
имеют своим предметом совсем
другое
и, при том, абсолютно отличное от
психических явлений? Логика должна идти своим, независимым от психо-
логии путем. Все роды психологизма должны быть ею отклонены. Она
должна стать на свой собственный фундамент, работать своим собствен-
ным
методом.
Однако,
если
«Logische
Untersuchungen» Гуссерля и формулируют
с
поразительной ясностью проблему психологизма и тем самым знаменуют
собою перелом в философском мышлении и уяснение задачи нашего време-
ни,
совсем обратное приходится сказать об их положительной попытке раз-
решить эту проблему и
дать
логику, независимую от всякой психологии *. В
этой
попытке с полным сознанием реализуется тот самый психологизм, ко-
торый бессознательно лег в основание
всех
великих послекантовских си-
стем: к чистой логике подходным
путем
должно служить особое исследова-
ние
фипософско-психологического
характера. Как
будто
независимость и
чистота логики не нарушается уже тем, что ее предмет надеются найти не
логическими,
а психологическими средствами! Как
будто
в принципе не все
равно,
хотят
ли логические основоположения подготовить естественнона-
учным методом эволюционной психологии или «феноменологическим»
методом психологического анализа! Разница разве лишь в том, что в пер-
вом
случае
релятивизируют
«логическое»
непосредственно, во втором же —
косвенно.
Принципиальной
разницы нет! Ибо или
«логическое»
находимо в
«психическом» и
тогда
носит на себе его черты, или оно
никак
не находимо
в
«психическом» и
тогда
не имеет с ним ничего общего. Во втором томе
своих «Исследований»
Гуссерль
возвращается назад, снова затемняет про-
блему,
с такой силой им выявленную в первом томе, и вовлекает ее во все
последствия и взаимопротиворечия психологистического способа мышле-
ния.
В этом отношении с
Гуссерлем
делит
общую
участь
также целый ряд
других
мыслителей:
Мейнонг
со своей «теорией предметности», отправ-
ляющейся
от определенного психологического учения о представлении и
его предмете;
Фолькелып
со своим учением о предварительном описатель-
*
Husserl:
Logische
Untersuchungen
II (1901).
213
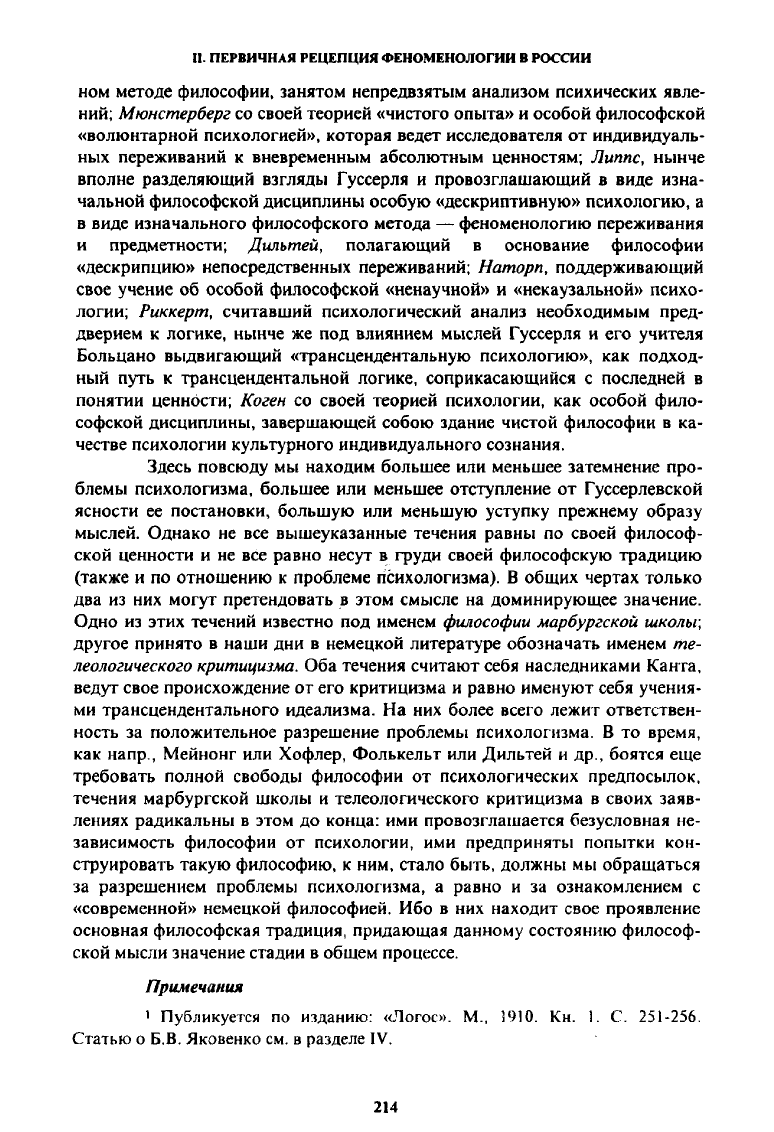
II.
ПЕРВИЧНАЯ
РЕЦЕПЦИЯ ФЕНОМЕНОЛОГИИ В РОССИИ
ном
методе
философии,
занятом непредвзятым анализом психических явле-
ний;
Мюнстерберг
со своей теорией «чистого опыта» и особой философской
«волюнтарной психологией», которая
ведет
исследователя
от
индивидуаль-
ных переживаний
к
вневременным абсолютным ценностям;
Липпс,
нынче
вполне
разделяющий взгляды Гуссерля
и
провозглашающий
в
виде изна-
чальной
философской
дисциплины особую «дескриптивную» психологию,
а
в
виде изначального философского метода
—
феноменологию переживания
и
предметности;
Дильтей,
полагающий
в
основание философии
«дескрипцию» непосредственных переживаний;
Наторп,
поддерживающий
свое учение
об
особой философской «ненаучной»
и
«некаузальной» психо-
логии;
Риккерт, считавший психологический анализ необходимым пред-
дверием
к
логике, нынче
же под
влиянием мыслей Гуссерля
и его
учителя
Больцано
выдвигающий «трансцендентальную психологию»,
как
подход-
ный
путь
к
трансцендентальной логике, соприкасающийся
с
последней
в
понятии
ценности;
Коген со
своей теорией психологии,
как
особой фило-
софской
дисциплины,
завершающей собою здание чистой философии
в ка-
честве психологии культурного индивидуального сознания.
Здесь повсюду
мы
находим большее или меньшее затемнение про-
блемы психологизма, большее
или
меньшее отступление
от
Гуссерлевской
ясности
ее
постановки, большую
или
меньшую
уступку
прежнему образу
мыслей.
Однако
не все
вышеуказанные течения равны
по
своей философ-
ской
ценности
и не все
равно несут
в
груди
своей философскую традицию
(также
и по
отношению
к
проблеме психологизма).
В
общих чертах только
два
из них
могут
претендовать
в
этом смысле
на
доминирующее значение.
Одно
из
этих течений известно
под
именем
философии
марбургской
школы;
другое
принято
в
наши
дни в
немецкой литературе обозначать именем
те-
леологического
критицизма.
Оба
течения считают себя наследниками Канта,
ведут
свое происхождение
от
его критицизма
и
равно именуют себя учения-
ми
трансцендентального идеализма.
На них
более всего лежит ответствен-
ность
за
положительное разрешение проблемы психологизма.
В то
время,
как
напр.,
Мейнонг или Хофлер, Фолькельт или Дильтей
и
др., боятся
еще
требовать полной свободы философии
от
психологических предпосылок,
течения марбургской школы
и
телеологического критицизма
в
своих заяв-
лениях радикальны
в
этом
до
конца:
ими
провозглашается безусловная
не-
зависимость философии
от
психологии,
ими
предприняты попытки
кон-
струировать такую
философию,
к
ним, стало быть, должны
мы
обращаться
за разрешением проблемы психологизма,
а
равно
и за
ознакомлением
с
«современной» немецкой философией.
Ибо в них
находит свое проявление
основная
философская традиция, придающая данному состоянию философ-
ской
мысли значение стадии
в
общем процессе.
Примечания
1
Публикуется
по
изданию:
«Логос».
М., 1910. Кн. I. С.
251-256.
Статью
о
Б.В.
Яковенко
см.
в разделе
IV.
214
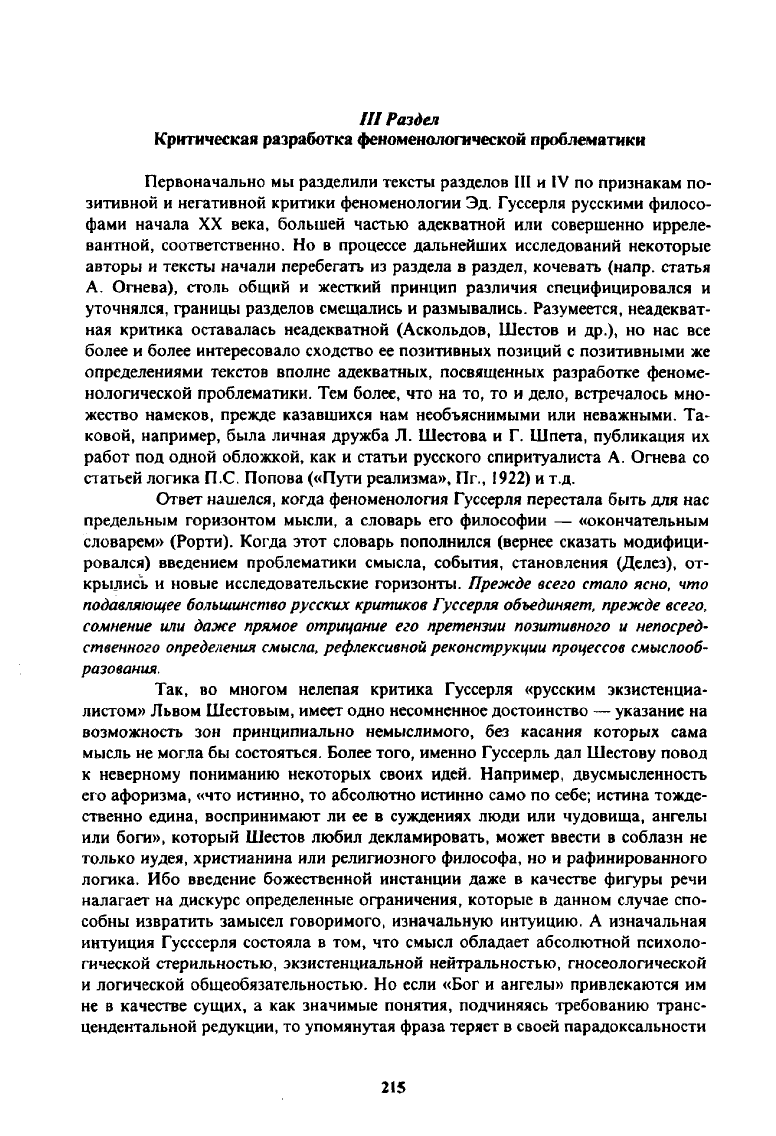
///
Раздел
Критическая
разработка
феноменологической
проблематики
Первоначально мы разделили тексты разделов III и IV по признакам по-
зитивной
и негативной критики феноменологии Эд. Гуссерля русскими филосо-
фами
начала XX века, большей частью адекватной или совершенно ирреле-
вантной,
соответственно. Но в процессе дальнейших исследований некоторые
авторы и тексты начали перебегать из раздела в раздел, кочевать (напр, статья
А. Огнева), столь общий и жесткий принцип различия специфицировался и
уточнялся, границы разделов смещались и размывались. Разумеется, неадекват-
ная
критика оставалась неадекватной (Аскольдов, Шестов и др.), но нас все
более и более интересовало
сходство
ее позитивных позиций с позитивными же
определениями текстов вполне адекватных, посвященных разработке феноме-
нологической проблематики. Тем более, что на то, то и дело, встречалось мно-
жество намеков, прежде казавшихся нам необъяснимыми или неважными. Та-
ковой,
например, была личная
дружба
Л. Шестова и Г. Шпета, публикация их
работ под одной обложкой, как и статьи русского спиритуалиста А. Огнева со
статьей логика П.С. Попова («Пути реализма», Пг., 1922) и т.д.
Ответ нашелся, когда феноменология Гуссерля перестала быть для нас
предельным горизонтом мысли, а словарь его философии — «окончательным
словарем» (Рорти). Когда этот словарь пополнился (вернее сказать модифици-
ровался) введением проблематики смысла, события, становления (Делез), от-
крылись и новые исследовательские горизонты.
Прежде
всего
стало
ясно,
что
подавляющее
большинство
русских
критиков
Гуссерля
объединяет,
прежде
всего,
сомнение
или
даже
прямое
отрицание
его
претензии
позитивного
и
непосред-
ственного
определения
смысла,
рефлексивной
реконструкции
процессов
смыслооб-
разования.
Так,
во многом нелепая критика Гуссерля «русским экзистенциа-
листом» Львом Шестовым, имеет одно несомненное достоинство — указание на
возможность зон принципиально немыслимого, без касания которых сама
мысль не могла бы состояться. Более того, именно Гуссерль дал Шестову повод
к
неверному пониманию некоторых своих идей. Например, двусмысленность
его афоризма,
«что
истинно, то абсолютно истинно само по себе; истина тожде-
ственно едина, воспринимают ли ее в суждениях люди или чудовища, ангелы
или
боги», который Шестов любил декламировать, может ввести в соблазн не
только иудея, христианина или религиозного философа, но и рафинированного
логика. Ибо введение божественной инстанции
даже
в качестве фигуры речи
налагает на дискурс определенные ограничения, которые в данном
случае
спо-
собны извратить замысел говоримого, изначальную интуицию. А изначальная
интуиция
Гусссерля состояла в том, что смысл обладает абсолютной психоло-
гической стерильностью, экзистенциальной нейтральностью, гносеологической
и
логической общеобязательностью. Но если «Бог и
ангелы»
привлекаются им
не
в качестве сущих, а как значимые понятия, подчиняясь требованию транс-
цендентальной редукции, то упомянутая фраза теряет в своей парадоксальности
215
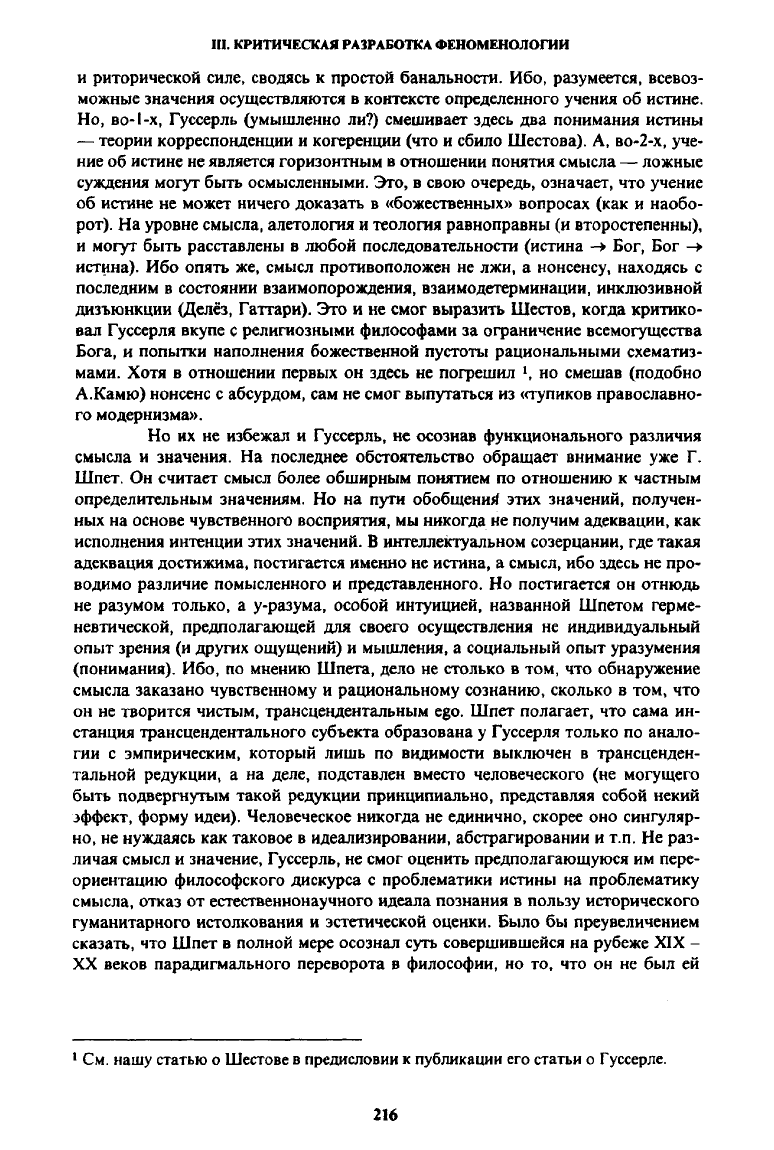
III.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
и
риторической силе, сводясь к простой банальности. Ибо, разумеется, всевоз-
можные значения осуществляются в контексте определенного учения об истине.
Но,
во-1-х,
Гуссерль (умышленно ли?) смешивает здесь два понимания истины
— теории корреспонденции и когеренции (что и сбило Шестова). А,
во-2-х,
уче-
ние
об истине не является горизонтным в отношении понятия смысла — ложные
суждения
могут
быть осмысленными. Это, в свою очередь, означает, что учение
об истине не может ничего доказать в
«божественных»
вопросах (как и наобо-
рот).
На уровне смысла, алетология и теология равноправны (и второстепенны),
и
могут
быть расставлены в любой последовательности (истина -> Бог, Бог -•
истина).
Ибо опять же, смысл противоположен не лжи, а нонсенсу, находясь с
последним в состоянии взаимопорождения, взаимодетерминации, инклюзивной
дизъюнкции (Делёз, Гаттари). Это и не смог выразить Шестов, когда критико-
вал Гуссерля вкупе с религиозными философами за ограничение всемогущества
Бога, и попытки наполнения божественной пустоты рациональными схематиз-
мами.
Хотя в отношении первых он здесь не погрешил ', но смешав (подобно
А.Камю) нонсенс с абсурдом, сам не смог выпутаться из «тупиков православно-
го модернизма».
Но
их не избежал и Гуссерль, не осознав функционального различия
смысла и значения. На последнее обстоятельство обращает внимание уже Г.
Шпет.
Он считает смысл более обширным понятием по отношению к частным
определительным значениям. Но на пути обобщений этих значений, получен-
ных на основе чувственного восприятия, мы никогда не получим адеквации, как
исполнения
интенции этих значений. В интеллектуальном созерцании, где такая
адеквация достижима, постигается именно не истина, а смысл, ибо здесь не про-
водимо различие помысленного и представленного. Но постигается он отнюдь
не
разумом только, а
у-разума,
особой интуицией, названной Шпетом герме-
невтической, предполагающей для своего осуществления не индивидуальный
опыт зрения (и
других
ощущений) и мышления, а социальный опыт уразумения
(понимания).
Ибо, по мнению Шпета, дело не столько в том, что обнаружение
смысла заказано чувственному и рациональному сознанию, сколько в том, что
он
не творится чистым, трансцендентальным ego. Шпет полагает, что сама ин-
станция
трансцендентального субъекта образована у Гуссерля только по анало-
гии с эмпирическим, который лишь по видимости выключен в трансценден-
тальной редукции, а на деле, подставлен вместо человеческого (не могущего
быть подвергнутым такой редукции принципиально, представляя собой некий
эффект,
форму идеи). Человеческое никогда не единично, скорее оно сингуляр-
но,
не нуждаясь как таковое в идеализировании, абстрагировании и т.п. Не раз-
личая смысл и значение, Гуссерль, не смог оценить предполагающуюся им пере-
ориентацию философского дискурса с проблематики истины на проблематику
смысла, отказ от естественнонаучного идеала познания в пользу исторического
гуманитарного истолкования и эстетической оценки. Было бы преувеличением
сказать, что Шпет в полной мере осознал
суть
совершившейся на
рубеже
XIX -
XX веков парадигмального переворота в философии, но то, что он не был ей
1
См. нашу статью о Шестове в предисловии к публикации его статьи о Гуссерле.
216
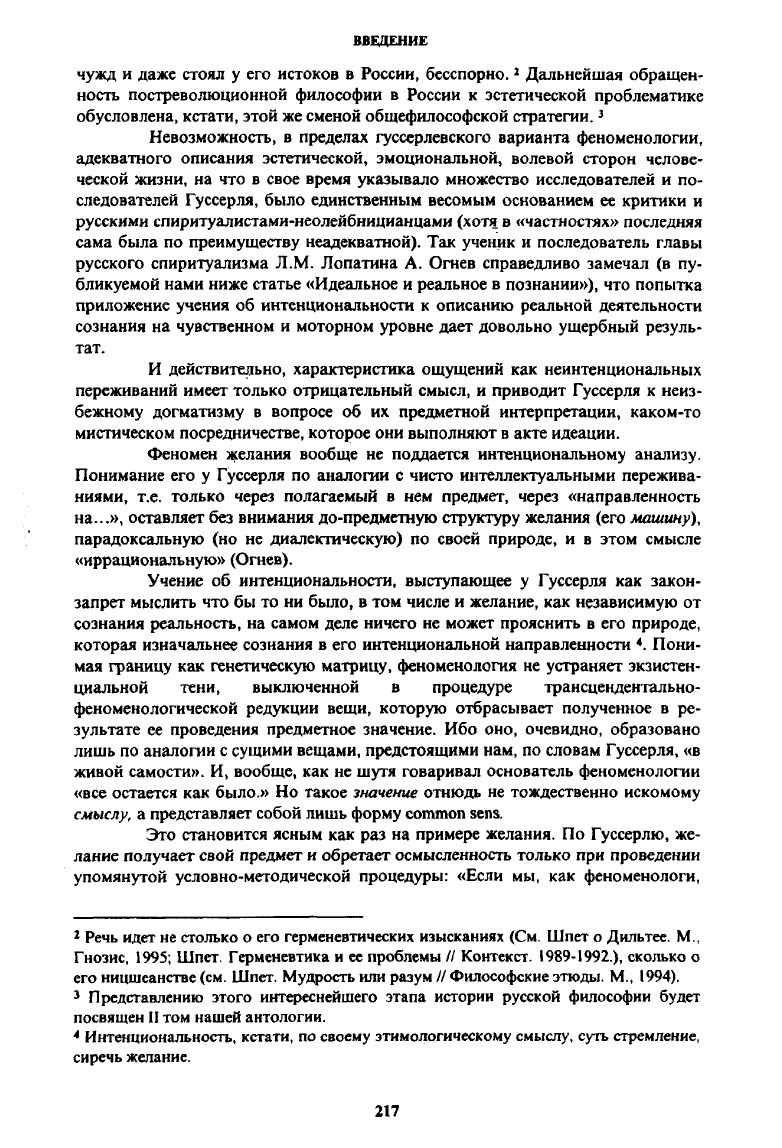
ВВЕДЕНИЕ
чужд
и
даже
стоял у его истоков в России, бесспорно.
2
Дальнейшая обращен-
ность постреволюционной философии в России к эстетической проблематике
обусловлена, кстати, этой же сменой общефилософской стратегии.
3
Невозможность, в пределах гуссерлевского варианта феноменологии,
адекватного описания эстетической, эмоциональной, волевой сторон челове-
ческой жизни, на что в свое время указывало множество исследователей и по-
следователей Гуссерля, было единственным весомым основанием ее критики и
русскими спиритуалистами-неолейбницианцами (хотя в
«частностях»
последняя
сама была по преимуществу неадекватной). Так ученик и последователь главы
русского спиритуализма Л.М. Лопатина А. Огнев справедливо замечал (в пу-
бликуемой нами ниже
статье
«Идеальное и реальное в познании»), что попытка
приложение учения об интенциональности к описанию реальной деятельности
сознания
на чувственном и моторном уровне
дает
довольно ущербный резуль-
тат.
И
действительно, характеристика ощущений как неинтенциональных
переживаний имеет только отрицательный смысл, и приводит Гуссерля к неиз-
бежному догматизму в вопросе об их предметной интерпретации, каком-то
мистическом посредничестве, которое они выполняют в акте идеации.
Феномен
желания вообще не поддается интенциональному анализу.
Понимание
его у Гуссерля по аналогии с чисто интеллектуальными пережива-
ниями,
т.е. только через полагаемый в нем предмет, через «направленность
на...», оставляет без внимания до-предметную
структуру
желания (его
машину),
парадоксальную (но не диалектическую) по своей природе, и в этом смысле
«иррациональную» (Огнев).
Учение об интенциональности, выступающее у Гуссерля как закон-
запрет мыслить что бы то ни было, в том числе и желание, как независимую от
сознания
реальность, на самом
деле
ничего не может прояснить в его природе,
которая изначальнее сознания в его интенциональной направленности
4
.
Пони-
мая
границу как генетическую матрицу, феноменология не устраняет экзистен-
циальной
тени, выключенной в процедуре трансцендентально-
феноменологической редукции вещи, которую отбрасывает полученное в ре-
зультате
ее проведения предметное значение. Ибо оно, очевидно, образовано
лишь по аналогии с сущими вещами, предстоящими нам, по словам Гуссерля, «в
живой самости». И, вообще, как не шутя говаривал основатель феноменологии
«все
остается как
было.»
Но такое
значение
отнюдь не тождественно искомому
смыслу,
а представляет собой лишь форму common
sens.
Это становится ясным как раз на примере желания. По Гуссерлю, же-
лание получает свой предмет и обретает осмысленность только при проведении
упомянутой условно-методической процедуры: «Если мы, как феноменологи,
2
Речь идет не столько о его герменевтических изысканиях (См. Шпет о Дильтее. М.,
Гнозис,
1995; Шпет. Герменевтика и ее проблемы // Контекст.
1989-1992),
сколько о
его ницшеанстве
(см.
Шпет. Мудрость или разум //
Философские
этюды. М.,
1994).
3
Представлению этого интереснейшего этапа истории русской философии
будет
посвящен
II
том нашей антологии.
4
Интенциональность, кстати, по своему этимологическому смыслу,
суть
стремление,
сиречь желание.
217
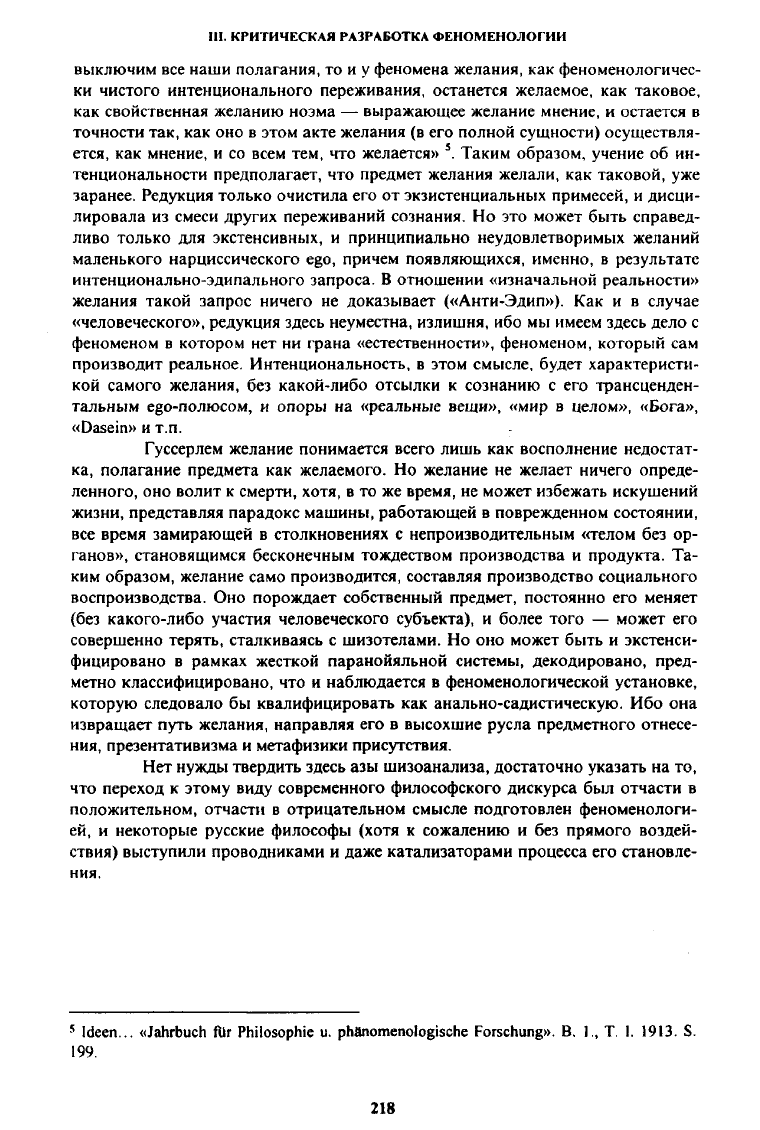
III.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
выключим все наши полагания, то и у феномена желания, как феноменологичес-
ки
чистого интенционального переживания, останется желаемое, как таковое,
как
свойственная желанию ноэма — выражающее желание мнение, и остается в
точности так, как оно в этом акте желания (в его полной сущности) осуществля-
ется, как мнение, и со всем тем, что
желается»
5
. Таким образом, учение об ин-
тенциональности предполагает, что предмет желания желали, как таковой, уже
заранее. Редукция только очистила его от экзистенциальных примесей, и дисци-
лировала из смеси
других
переживаний сознания. Но это может быть справед-
ливо только для экстенсивных, и принципиально неудовлетворимых желаний
маленького нарциссического ego, причем появляющихся, именно, в
результате
интенционально-эдипального
запроса. В отношении «изначальной реальности»
желания такой запрос ничего не доказывает («Анти-Эдип»). Как и в
случае
«человеческого», редукция здесь неуместна, излишня, ибо мы имеем здесь дело с
феноменом
в котором нет ни грана «естественности», феноменом, который сам
производит реальное. Интенциональность, в этом смысле,
будет
характеристи-
кой
самого желания, без какой-либо отсылки к сознанию с его трансценден-
тальным ego-полюсом, и опоры на «реальные вещи», «мир в целом»,
«Бога»,
«Dasein»
и т.п.
Гуссерлем желание понимается всего лишь как восполнение недостат-
ка,
полагание предмета как желаемого. Но желание не желает ничего опреде-
ленного,
оно волит к смерти, хотя, в то же время, не может избежать искушений
жизни,
представляя парадокс машины, работающей в поврежденном состоянии,
все время замирающей в столкновениях с непроизводительным
«телом
без ор-
ганов», становящимся бесконечным тождеством производства и продукта. Та-
ким
образом, желание само производится, составляя производство социального
воспроизводства. Оно порождает собственный предмет, постоянно его меняет
(без какого-либо участия человеческого субъекта), и более того — может его
совершенно терять, сталкиваясь с шизотелами. Но оно может быть и экстенси-
фицировано
в рамках жесткой паранойяльной системы, декодировано, пред-
метно классифицировано, что и наблюдается в феноменологической установке,
которую следовало бы квалифицировать как анально-садистическую. Ибо она
извращает путь желания, направляя его в высохшие
русла
предметного отнесе-
ния,
презентативизма и метафизики присутствия.
Нет
нужды твердить здесь азы шизоанализа, достаточно указать на то,
что переход к этому виду современного философского дискурса был отчасти в
положительном, отчасти в отрицательном смысле подготовлен феноменологи-
ей,
и некоторые русские философы (хотя к сожалению и без прямого воздей-
ствия) выступили проводниками и
даже
катализаторами процесса его становле-
ния.
5
Ideen... «Jahrbuch für
Philosophie
u.
phänomenologische
Forschung».
B. 1., T. I. 1913. S.
199.
218
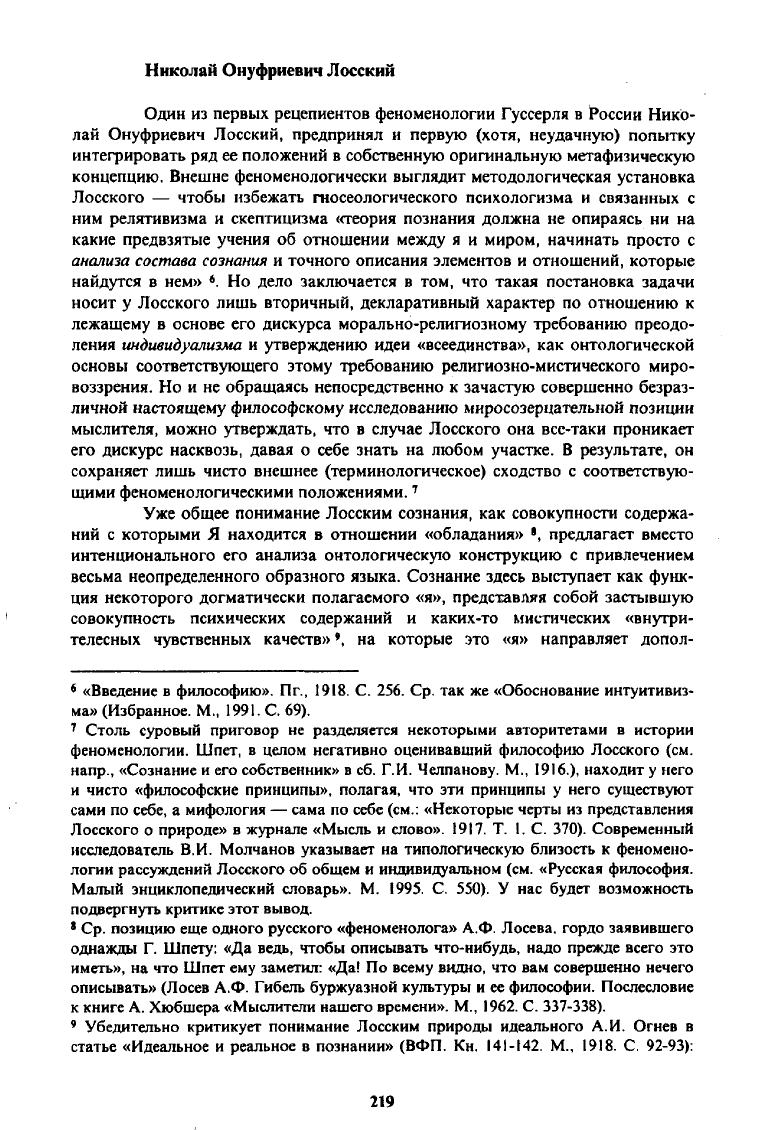
Николай
Онуфриевич
Лососий
Один из первых рецепиентов феноменологии Гуссерля в России
Нико-
лай Онуфриевич Лосский, предпринял и первую (хотя,
неудачную)
попытку
интегрировать ряд ее положений в собственную оригинальную метафизическую
концепцию.
Внешне феноменологически выглядит методологическая установка
Лосского — чтобы избежать гносеологического психологизма и связанных с
ним
релятивизма и скептицизма «теория познания должна не опираясь ни на
какие
предвзятые учения об отношении
между
я и миром, начинать просто с
анализа
состава
сознания
и точного описания элементов и отношений, которые
найдутся в
нем»
6
. Но дело заключается в том, что такая постановка задачи
носит у Лосского лишь вторичный, декларативный характер по отношению к
лежащему в основе его дискурса морально-религиозному требованию преодо-
ления
индивидуализма
и утверждению идеи «всеединства», как онтологической
основы соответствующего этому требованию религиозно-мистического миро-
воззрения.
Но и не обращаясь непосредственно к
зачастую
совершенно безраз-
личной
настоящему философскому исследованию миросозерцательной позиции
мыслителя, можно
утверждать,
что в
случае
Лосского она все-таки проникает
его дискурс насквозь, давая о себе знать на любом участке. В результате, он
сохраняет лишь чисто внешнее (терминологическое)
сходство
с соответствую-
щими
феноменологическими положениями.
7
Уже общее понимание Лосским сознания, как совокупности содержа-
ний
с которыми Я находится в отношении «обладания» », предлагает вместо
интенционального его анализа онтологическую конструкцию с привлечением
весьма неопределенного образного языка. Сознание здесь выступает как функ-
ция
некоторого догматически полагаемого «я», представляя собой застывшую
совокупность психических содержаний и каких-то мистических «внутри-
телесных чувственных
качеств»
', на которые это «я» направляет допол-
6
«Введение
в философию». Пг., 1918. С. 256. Ср. так же «Обоснование интуитивиз-
ма»
(Избранное.
М., 1991. С. 69).
7
Столь суровый приговор не разделяется некоторыми авторитетами в истории
феноменологии.
Шпет, в целом негативно оценивавший философию Лосского (см.
напр.,
«Сознание и его собственник» в сб. Г.И. Челпанову. M., I916.), находит у него
и
чисто «философские принципы», полагая, что эти принципы у него
существуют
сами по себе, а мифология — сама по себе (см.: «Некоторые черты из представления
Лосского о природе» в журнале «Мысль и слово». 1917. Т. 1. С. 370). Современный
исследователь В.И. Молчанов указывает на типологическую близость к феномено-
логии рассуждений Лосского об общем и индивидуальном (см. «Русская философия.
Малый энциклопедический словарь». M. I995. С. 550). У нас
будет
возможность
подвергнуть критике этот вывод.
8
Ср. позицию еще одного русского «феноменолога» А.Ф. Лосева, гордо заявившего
однажды Г. Шпету: «Да ведь, чтобы описывать что-нибудь, надо прежде всего это
иметь», на что Шпет ему заметил: «Да! По всему видно, что вам совершенно нечего
описывать» (Лосев А.Ф. Гибель буржуазной
культуры
и ее
философии.
Послесловие
к
книге А. Хюбшера «Мыслители нашего времени». М., 1962. С.
337-338).
9
Убедительно критикует понимание Лосским природы идеального А.И. Огнев в
статье
«Идеальное и реальное в познании» (ВФП. Кн.
141-142.
М., 1918. С. 92-93):
219
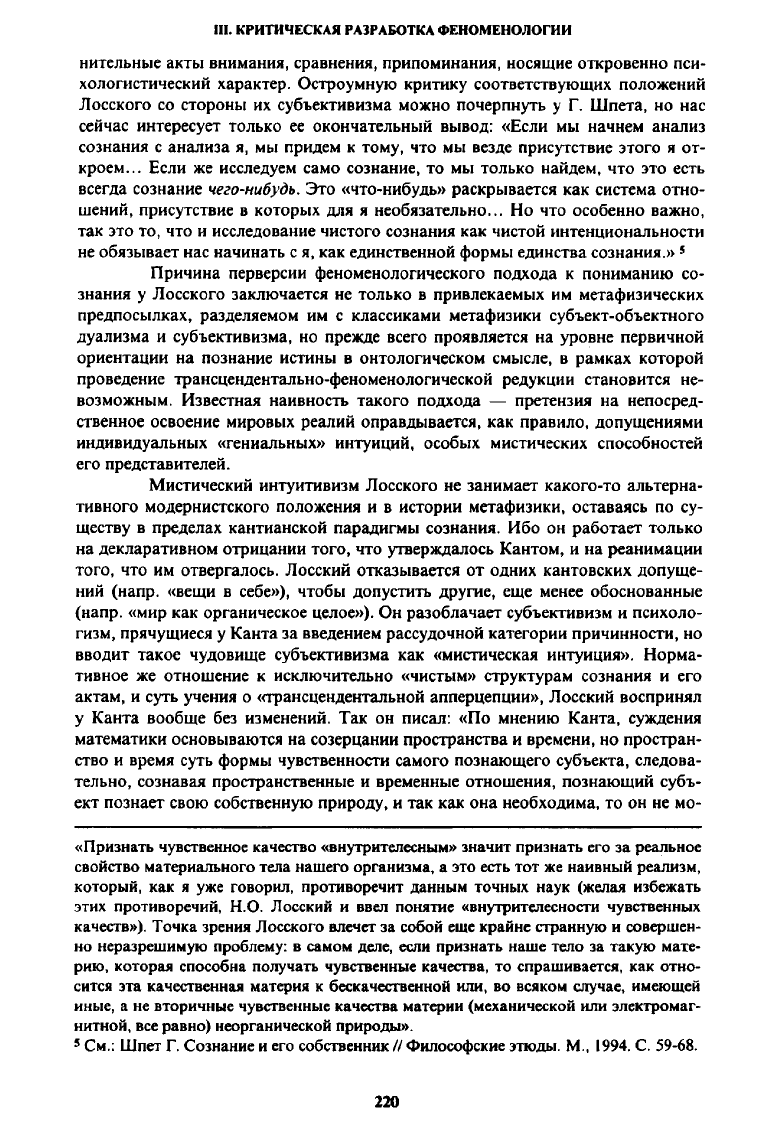
HI.
КРИТИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
ФЕНОМЕНОЛОГИИ
нительные акты внимания, сравнения,
припоминания,
носящие откровенно пси-
хологистический характер. Остроумную критику соответствующих положений
Лосского со стороны их субъективизма можно почерпнуть у Г. Шпета, но нас
сейчас интересует только ее окончательный вывод: «Если мы начнем анализ
сознания
с анализа я, мы придем к
тому,
что мы везде присутствие этого я от-
кроем...
Если же исследуем само сознание, то мы только найдем, что это есть
всегда
сознание
чего-нибудь.
Это
«что-нибудь»
раскрывается как система отно-
шений,
присутствие в которых для я необязательно... Но что особенно важно,
так
это то, что и исследование чистого сознания как чистой интенциональности
не
обязывает нас начинать с я, как единственной формы единства сознания.»
5
Причина
перверсии феноменологического
подхода
к пониманию со-
знания
у Лосского заключается не только в привлекаемых им метафизических
предпосылках, разделяемом им с классиками метафизики субъект-объектного
дуализма и субъективизма, но прежде всего проявляется на уровне первичной
ориентации
на познание истины в онтологическом смысле, в рамках которой
проведение трансцендентально-феноменологической редукции становится не-
возможным. Известная наивность такого
подхода
— претензия на непосред-
ственное освоение мировых реалий оправдывается, как правило, допущениями
индивидуальных
«гениальных»
интуиции, особых мистических способностей
его представителей.
Мистический
интуитивизм Лосского не занимает какого-то альтерна-
тивного модернистского положения и в истории метафизики, оставаясь по су-
ществу в пределах кантианской парадигмы сознания. Ибо он работает только
на
декларативном отрицании того, что утверждалось Кантом, и на реанимации
того, что им отвергалось. Лосский отказывается от одних кантовских допуще-
ний
(напр, «вещи в себе»), чтобы допустить другие, еще менее обоснованные
(напр,
«мир как органическое целое»). Он разоблачает субъективизм и психоло-
гизм, прячущиеся у Канта за введением рассудочной категории причинности, но
вводит такое чудовище субъективизма как «мистическая интуиция». Норма-
тивное же отношение к исключительно
«чистым»
структурам сознания и его
актам, и
суть
учения о «трансцендентальной апперцепции», Лосский воспринял
у Канта вообще без изменений. Так он писал: «По мнению Канта, суждения
математики основываются на созерцании пространства и времени, но простран-
ство и время
суть
формы чувственности самого познающего субъекта, следова-
тельно, сознавая пространственные и временные отношения, познающий
субъ-
ект познает свою собственную природу, и так как она необходима, то он не мо-
«Признать чувственное качество «внутрителесным» значит признать его за реальное
свойство материального тела нашего организма, а это есть тот же наивный реализм,
который,
как я уже говорил, противоречит данным точных наук (желая избежать
этих противоречий, Н.О. Лосский и ввел понятие «внутрителесности чувственных
качеств»). Точка зрения Лосского влечет за собой еще крайне странную и совершен-
но
неразрешимую проблему: в самом деле, если признать наше тело за
такую
мате-
рию,
которая способна получать чувственные качества, то спрашивается, как отно-
сится эта качественная материя к бескачественной или, во всяком случае, имеющей
иные,
а не вторичные чувственные качества материи (механической или электромаг-
нитной,
все равно) неорганической природы».
5
См.:
Шпет Г. Сознание
и
его собственник //
Философские
этюды. М., 1994. С.
59-68.
220
