Чернец Л.В. Литературные жанры
Подождите немного. Документ загружается.

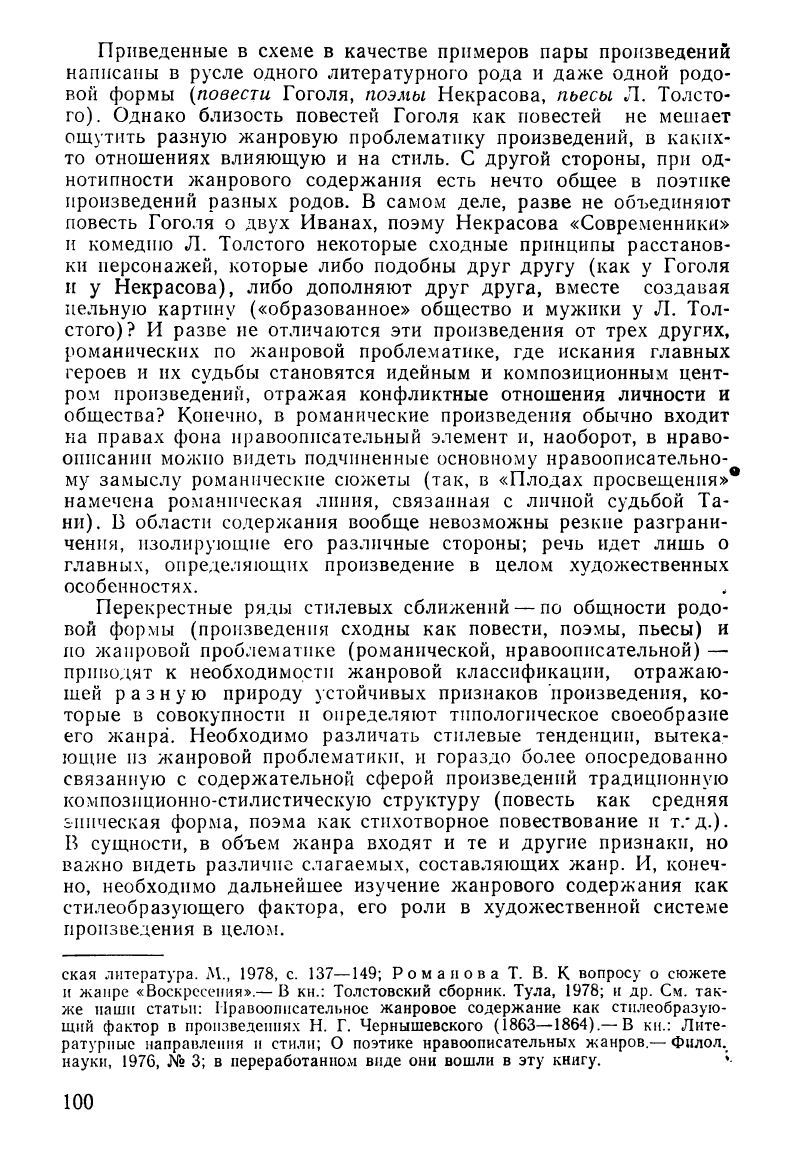
Приведенные в схеме в качестве примеров пары произведений
написаны в русле одного литературного рода и даже одной родо-
вой формы (повести Гоголя, поэмы Некрасова, пьесы Л. Толсто-
го).
Однако близость повестей Гоголя как повестей не мешает
ощутить разную жанровую проблематику произведений, в каких-
то отношениях влияющую и на стиль. С другой стороны, при од-
нотипности жанрового содержания есть нечто общее в поэтике
произведений разных родов. В самом деле, разве не объединяют
повесть Гоголя о двух Иванах, поэму Некрасова «Современники»
и комедию Л. Толстого некоторые сходные принципы расстанов-
ки персонажей, которые либо подобны друг другу (как у Гоголя
и у Некрасова), либо дополняют друг друга, вместе создавая
цельную картину («образованное» общество и мужики у Л. Тол-
стого)? И разве не отличаются эти произведения от трех других,
романических по жанровой проблематике, где искания главных
героев и их судьбы становятся идейным и композиционным цент-
ром произведений, отражая конфликтные отношения личности и
общества? Конечно, в романические произведения обычно входит
на правах фона нравоописательный элемент и, наоборот, в нраво-
описании можно видеть подчиненные основному нравоописательно-
му замыслу романические сюжеты (так, в «Плодах просвещения»
1
намечена романическая линия, связанная с личной судьбой Та-
ни).
В области содержания вообще невозможны резкие разграни-
чения, изолирующие его различные стороны; речь идет лишь о
главных, определяющих произведение в целом художественных
особенностях.
Перекрестные ряды стилевых сближений — по общности родо-
вой формы (произведения сходны как повести, поэмы, пьесы) и
по жанровой проблематике (романической, нравоописательной) —
приводят к необходимости жанровой классификации, отражаю-
щей разную природу устойчивых признаков произведения, ко-
торые в совокупности и определяют типологическое своеобразие
его жанра. Необходимо различать стилевые тенденции, вытека-
ющие из жанровой проблематики, и гораздо более опосредованно
связанную с содержательной сферой произведений традиционную
композиционно-стилистическую структуру (повесть как средняя
эпическая форма, поэма как стихотворное повествование и т.*д.).
В сущности, в объем жанра входят и те и другие признаки, но
важно видеть различие слагаемых, составляющих жанр. И, конеч-
но,
необходимо дальнейшее изучение жанрового содержания как
стилеобразующего фактора, его роли в художественной системе
произведения в целом.
екая литература. М., 1978, с. 137—149; Романова Т. В. К вопросу о сюжете
и жанре «Воскресения».— В кн.: Толстовский сборник. Тула, 1978; и др. См. так-
же наши статьи: Нравоописательное жанровое содержание как стилеобразую-
щий фактор в произведениях Н. Г. Чернышевского (1863—1864).— В кн.: Лите-
ратурные направления и стили; О поэтике нравоописательных жанров.— Филол
%
науки, 1976, № 3; в переработанном виде они вошли в эту книгу. *
100
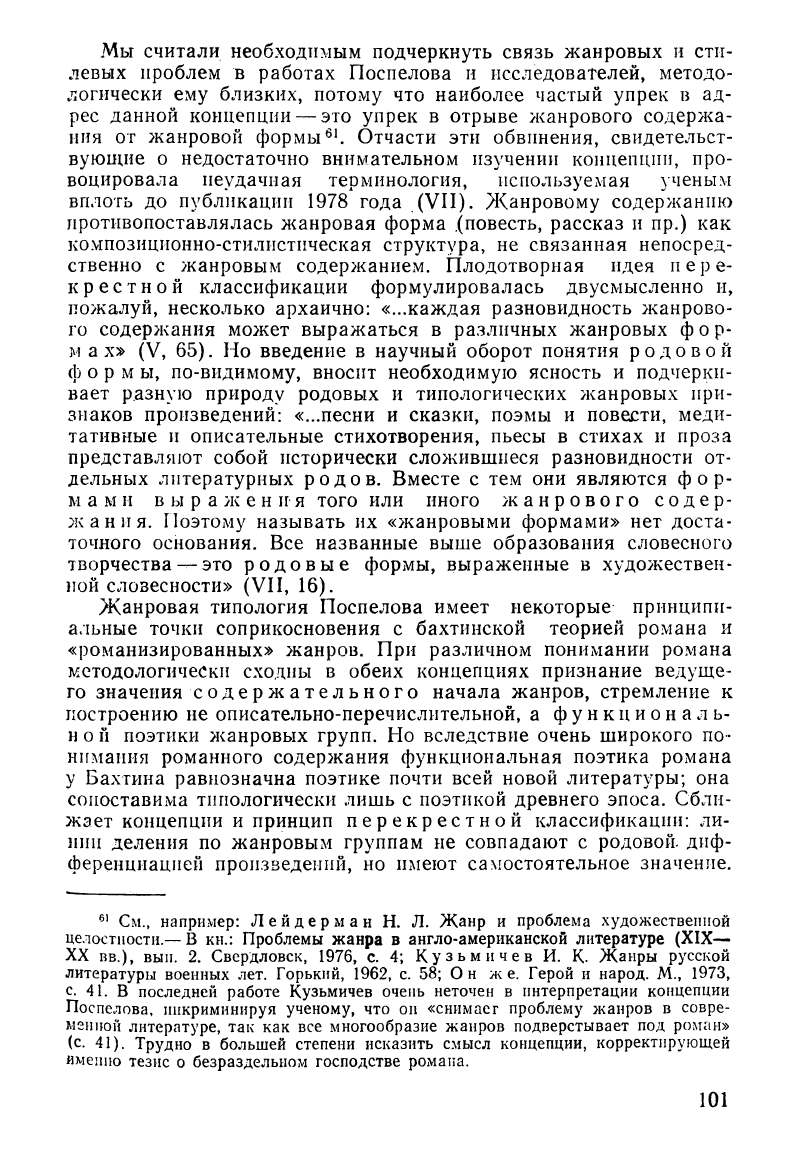
Мы считали необходимым подчеркнуть связь жанровых и сти-
левых проблем в работах Поспелова и исследователей, методо-
логически ему близких, потому что наиболее частый упрек в ад-
рес данной концепции
—
это упрек в отрыве жанрового содержа-
ния от жанровой формы
61
. Отчасти эти обвинения, свидетельст-
вующие о недостаточно внимательном изучении концепции, про-
воцировала неудачная терминология, используемая ученым
вплоть до публикации 1978 года (VII). Жанровому содержанию
противопоставлялась жанровая форма .(повесть, рассказ и пр.) как
композиционно-стилистическая структура, не связанная непосред-
ственно с жанровым содержанием. Плодотворная идея пере-
крестной классификации формулировалась двусмысленно и,
пожалуй, несколько архаично: «...каждая разновидность жанрово-
го содержания может выражаться в различных жанровых фор-
м ах» (V, 65). Но введение в научный оборот понятия родовой
ф о р м ы, по-видимому, вносит необходимую ясность и подчерки-
вает разную природу родовых и типологических жанровых при-
знаков произведений: «...песни и сказки, поэмы и повести, меди-
тативные и описательные стихотворения, пьесы в стихах и проза
представляют собой исторически сложившиеся разновидности от-
дельных литературных родов. Вместе с тем они являются ф о р-
м а м н в ы р а ж е н и я того или иного жанрового содер-
жания. Поэтому называть их «жанровыми формами» нет доста-
точного основания. Все названные выше образования словесного
творчества
—
это родовые формы, выраженные в художествен-
ной словесности» (VII, 16).
Жанровая типология Поспелова имеет некоторые принципи-
альные точки соприкосновения с бахтинской теорией романа и
«романизированных» жанров. При различном понимании романа
методологически сходны в обеих концепциях признание ведуще-
го значения со держател ьного начала жанров, стремление к
построению не описательно-перечислительной, а ф у
н
к ц
и
о н а л ь-
н о й поэтики жанровых групп. Но вследствие очень широкого по-
нимания романного содержания функциональная поэтика романа
у Бахтина равнозначна поэтике почти всей новой литературы; она
сопоставима типологически лишь с поэтикой древнего эпоса. Сбли-
жает концепции и принцип перекрестной классификации: ли-
нии деления по жанровым группам не совпадают с родовой, диф-
ференциацией произведений, но имеют самостоятельное значение.
61
См., например: Лейдерман Н. Л. Жанр и проблема художественной
целостности.— В кн.: Проблемы жанра в англо-американской литературе (XIX—
XX вв.), вып. 2. Свердловск, 1976, с. 4; Кузьмичев И. К. Жанры русской
литературы военных лет. Горький, 1962, с. 58; Он же. Герой и народ. М., 1973,
с 41. В последней работе Кузьмичев очень неточен в интерпретации концепции
Поспелова, инкриминируя ученому, что он «снимает проблему жанров в совре-
менной литературе, так как все многообразие жанров подверстывает под роман»
(с 41). Трудно в большей степени исказить смысл концепции, корректирующей
именно тезис о безраздельном господстве романа.
101
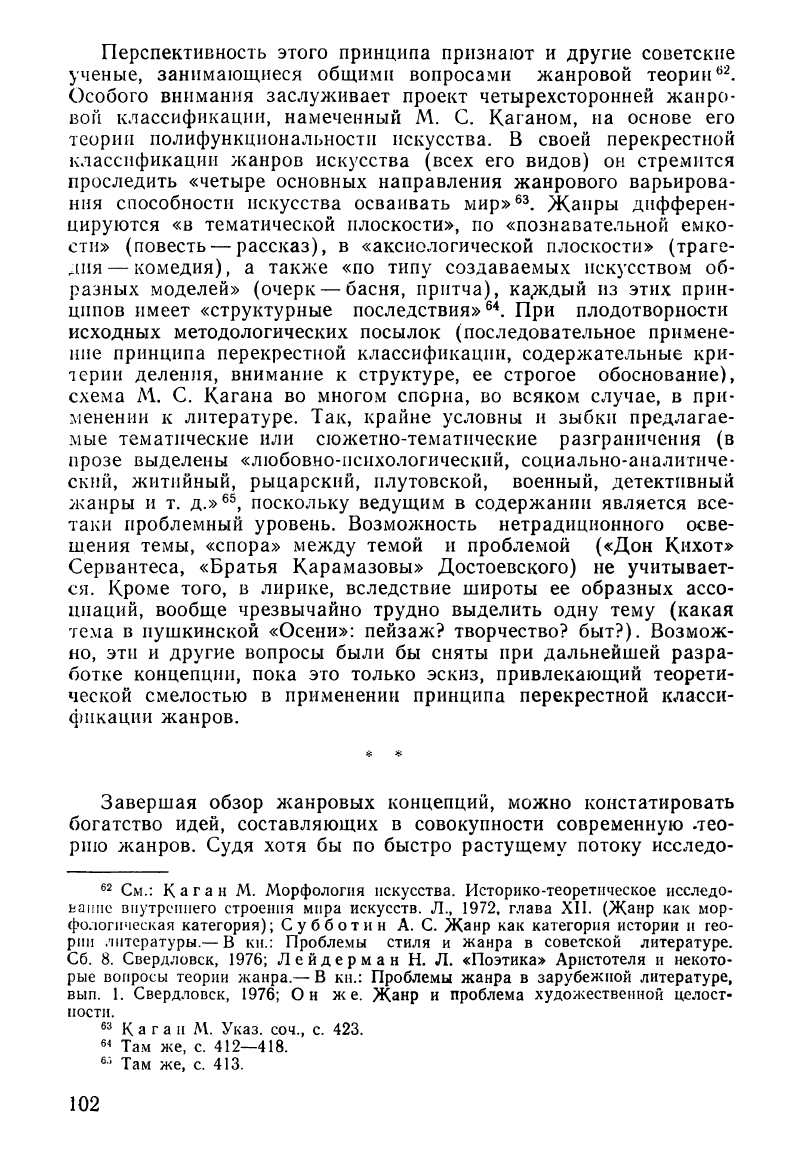
Перспективность этого принципа признают и другие советские
ученые, занимающиеся общими вопросами жанровой теории
62
.
Особого внимания заслуживает проект четырехсторонней жанро-
вой классификации, намеченный М. С. Каганом, на основе его
теории полифункциональности искусства. В своей перекрестной
классификации жанров искусства (всех его видов) он стремится
проследить «четыре основных направления жанрового варьирова-
ния способности искусства осваивать мир»
63
. Жанры дифферен-
цируются «в тематической плоскости», по «познавательной емко-
сти» (повесть
—
рассказ), в «аксиологической плоскости» (траге-
дия— комедия), а также «по типу создаваемых искусством об-
разных моделей» (очерк
—
басня, притча), ка^кдый из этих прин-
ципов имеет «структурные последствия»
64
. При плодотворности
исходных методологических посылок (последовательное примене-
ние принципа перекрестной классификации, содержательные кри-
терии деления, внимание к структуре, ее строгое обоснование),
схема М. С. Кагана во многом спорна, во всяком случае, в при-
менении к литературе. Так, крайне условны и зыбки предлагае-
мые тематические или сюжетно-тематнческие разграничения (в
прозе выделены «любовно-психологический, социально-аналитиче-
ский, житийный, рыцарский, плутовской, военный, детективный
жанры и т. д.»
65
, поскольку ведущим в содержании является все-
таки проблемный уровень. Возможность нетрадиционного осве-
щения темы, «спора» между темой и проблемой («Дон Кихот»
Сервантеса, «Братья Карамазовы» Достоевского) не учитывает-
ся.
Кроме того, в лирике, вследствие широты ее образных ассо-
циаций, вообще чрезвычайно трудно выделить одну тему (какая
тема в пушкинской «Осени»: пейзаж? творчество? быт?). Возмож-
но,
эти и другие вопросы были бы сняты при дальнейшей разра-
ботке концепции, пока это только эскиз, привлекающий теорети-
ческой смелостью в применении принципа перекрестной класси-
фикации жанров.
Завершая обзор жанровых концепций, можно констатировать
богатство идей, составляющих в совокупности современную .тео-
рию жанров. Судя хотя бы по быстро растущему потоку исследо-
62
См.: Каган М. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследо-
вание внутреннего строения мира искусств. Л., 1972, глава XII. (Жанр как мор-
фологическая категория); Субботин А. С. Жанр как категория истории и тео-
рии литературы.— В кн.: Проблемы стиля и жанра в советской литературе.
Сб.
8. Свердловск, 1976; Лейдерман Н. Л. «Поэтика» Аристотеля и некото-
рые вопросы теории жанра.— В кн.: Проблемы жанра в зарубежной литературе,
вып. 1. Свердловск, 1976; Он же. Жанр и проблема художественной целост-
ности.
63
К а г а н М. Указ. соч., с. 423.
64
Там же, с. 412—418.
63
Там же, с. 413.
102
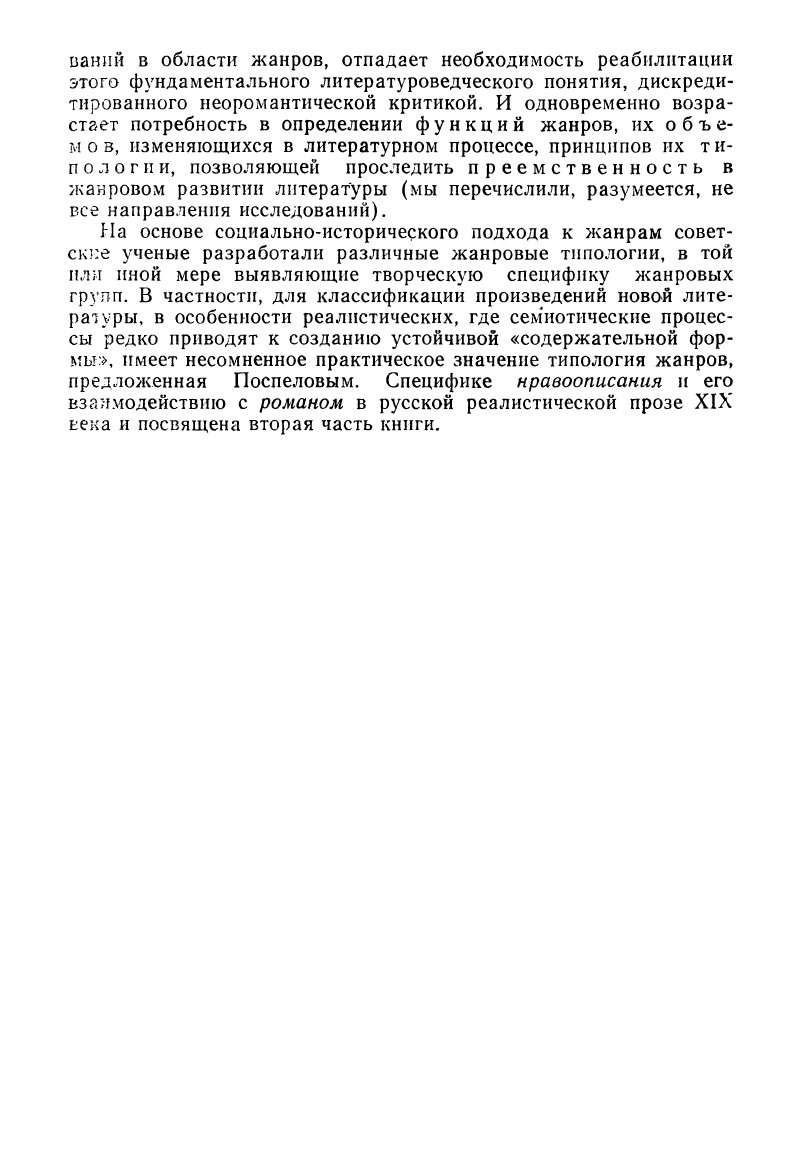
ваний в области жанров, отпадает необходимость реабилитации
этого фундаментального литературоведческого понятия, дискреди-
тированного неоромантической критикой. И одновременно возра-
стает потребность в определении функций жанров, их объе-
мов,
изменяющихся в литературном процессе, принципов их ти-
пологи и, позволяющей проследить преемственность в
жанровом развитии литературы (мы перечислили, разумеется, не
все направления исследований).
На основе социально-исторического подхода к жанрам совет-
ские ученые разработали различные жанровые типологии, в той
или иной мере выявляющие творческую специфику жанровых
групп. В частности, для классификации произведений новой лите-
ратуры, в особенности реалистических, где семиотические процес-
сы редко приводят к созданию устойчивой «содержательной фор-
мы:»,
имеет несомненное практическое значение типология жанров,
предложенная Поспеловым. Специфике нравоописания и его
взаимодействию с романом в русской реалистической прозе XIX
века и посвящена вторая часть книги.
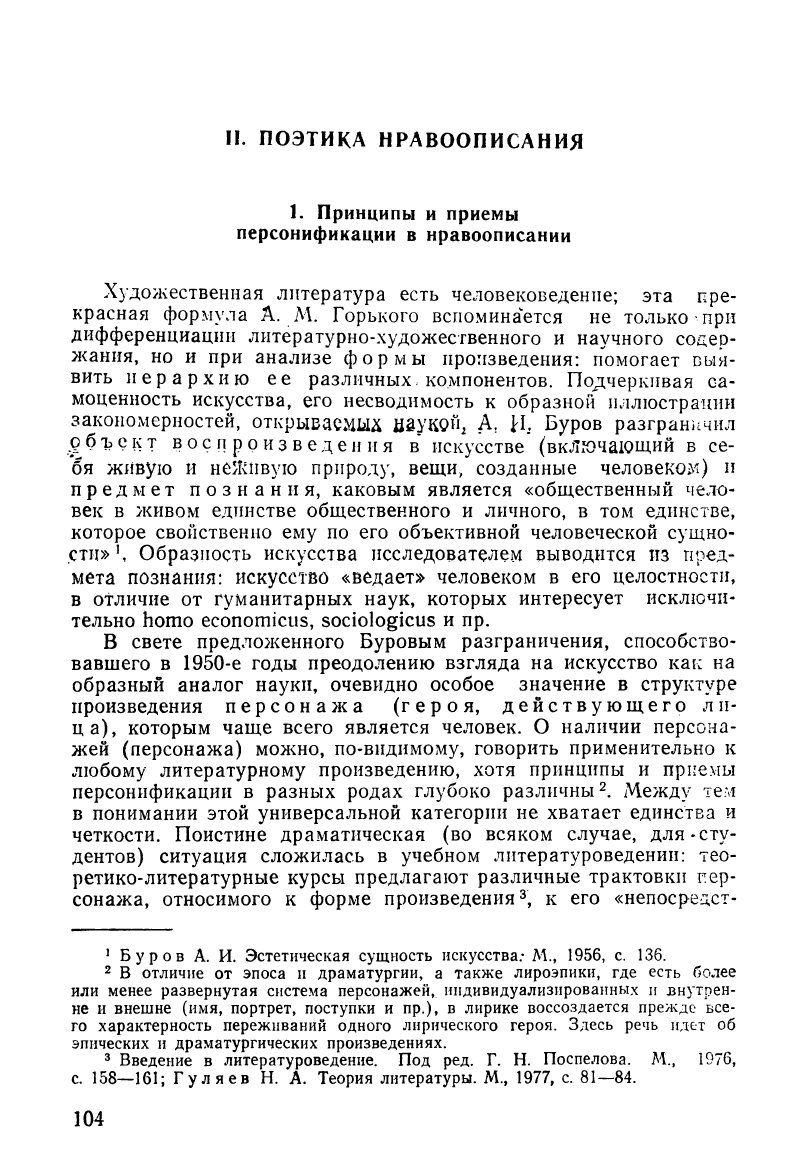
II.
ПОЭТИКА НРАВООПИСАНИЯ
1.
Принципы и приемы
персонификации в нравоописании
Художественная литература есть человековедение; эта пре-
красная формула А. М. Горького вспоминается не только при
дифференциации литературно-художественного и научного содер-
жания, но и при анализе формы произведения: помогает выя-
вить иерархию ее различных, компонентов. Подчеркивая са-
моценность искусства, его несводимость к образной иллюстрации
закономерностей, открываемых НЗУКФЙ
2
А, И. Буров разграничил
р
б
ъ е к т воспроизведения в искусстве (включающий в се-
бя живую и неживую природу, вещи, созданные человеком) и
предмет познания, каковым является «общественный чело-
век в живом единстве общественного и личного, в том единстве,
которое свойственно ему по его объективной человеческой сущно-
сти»
1
,
Образность искусства исследователем выводится из пред-
мета познания: искусство «ведает» человеком в его целостности,
в отличие от гуманитарных наук, которых интересует исключи-
тельно homo economicus, sociologicus и пр.
В свете предложенного Буровым разграничения, способство-
вавшего в 1950-е годы преодолению взгляда на искусство как на
образный аналог науки, очевидно особое значение в структуре
произведения персонажа (героя, действующего ли-
ца),
которым чаще всего является человек. О наличии персона-
жей (персонажа) можно, по-видимому, говорить применительно к
любому литературному произведению, хотя принципы и приемы
персонификации в разных родах глубоко различны
2
. Между тем
в понимании этой универсальной категории не хватает единства и
четкости. Поистине драматическая (во всяком случае, для-сту-
дентов) ситуация сложилась в учебном литературоведении: тео-
ретико-литературные курсы предлагают различные трактовки пер-
сонажа, относимого к форме произведения
3
, к его «непосредст-
1
Буров А. И. Эстетическая сущность искусства: М., 1956, с. 136.
2
В отличие от эпоса и драматургии, а также лироэпики, где есть более
или менее развернутая система персонажей, индивидуализированных и внутрен-
не и внешне (имя, портрет, поступки и пр.), в лирике воссоздается прежде все-
го характерность переживаний одного лирического героя. Здесь речь идет об
эпических и драматургических произведениях.
3
Введение в литературоведение. Под ред. Г. Н. Поспелова. М., 1976,
с.
158—161;
Гуляев Н. А. Теория литературы. М., 1977, с. 81—84.
104
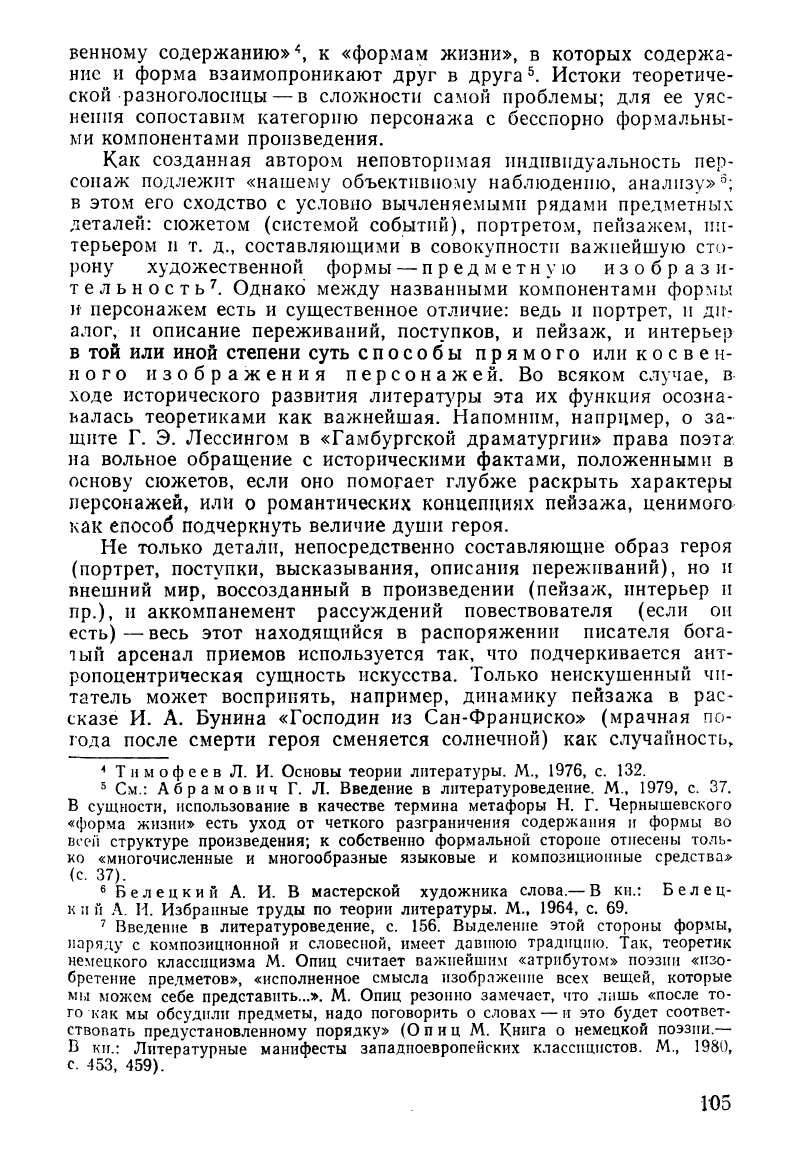
венному содержанию»
4
, к «формам жизни», в которых содержа-
ние и форма взаимопроникают друг в друга
5
. Истоки теоретиче-
ской разноголосицы— в сложности самой проблемы; для ее уяс-
нения сопоставим категорию персонажа с бесспорно формальны-
ми компонентами произведения.
Как созданная автором неповторимая индивидуальность пер-
сонаж подлежит «нашему объективному наблюдению, анализу»
3
;
в этом его сходство с условно вычленяемыми рядами предметных
деталей: сюжетом (системой событий), портретом, пейзажем, ин-
терьером и т. д., составляющими в совокупности важнейшую сто-
рону художественной формы — предметную изобрази-
тельность
7
. Однако между названными компонентами формы
и персонажем есть и существенное отличие: ведь и портрет, и ди-
алог, и описание переживаний, поступков, и пейзаж, и интерьер
в той или иной степени суть способы прямого или косвен-
ного изображения персонажей. Во всяком случае, в
ходе исторического развития литературы эта их функция осозна-
валась теоретиками как важнейшая. Напомним, например, о за-
щите Г. Э. Лессингом в «Гамбургской драматургии» права поэта
на вольное обращение с историческими фактами, положенными в
основу сюжетов, если оно помогает глубже раскрыть характеры
персонажей, или о романтических концепциях пейзажа, ценимого
как способ подчеркнуть величие души героя.
Не только детали, непосредственно составляющие образ героя
(портрет, поступки, высказывания, описания переживаний), но и
внешний мир, воссозданный в произведении (пейзаж, интерьер и
пр.),
и аккомпанемент рассуждений повествователя (если он
есть)
—
весь этот находящийся в распоряжении писателя бога-
тый арсенал приемов используется так, что подчеркивается ант-
ропоцентрическая сущность искусства. Только неискушенный чи-
татель может воспринять, например, динамику пейзажа в рас-
сказе И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» (мрачная по-
года после смерти героя сменяется солнечной) как случайность,
4
Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М., 1976, с. 132.
5
См.: Абрамович Г. Л. Введение в литературоведение. М., 1979, с. 37.
В сущности, использование в качестве термина метафоры Н. Г. Чернышевского
«форма жизни» есть уход от четкого разграничения содержания и формы во
всей структуре произведения; к собственно формальной стороне отнесены толь-
ко «многочисленные и многообразные языковые и композиционные средства»
(с.
37).
6
Белецкий А. И. В мастерской художника слова.— В кн.: Белец-
к и й А. И. Избранные труды по теории литературы. М., 1964, с. 69.
7
Введение в литературоведение, с. 156. Выделение этой стороны формы,
наряду с композиционной и словесной, имеет давнюю традицию. Так, теоретик
немецкого классицизма М. Опиц считает важнейшим «атрибутом» поэзии «изо-
бретение предметов», «исполненное смысла изображение всех вещей, которые
мы можем себе представить...». М. Опиц резонно замечает, что лишь «после то-
го как мы обсудили предметы, надо поговорить о словах — и это будет соответ-
ствовать предустановленному порядку» (Опиц М. Книга о немецкой поэзии.—
В кн.: Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980,
с 453, 459).
105
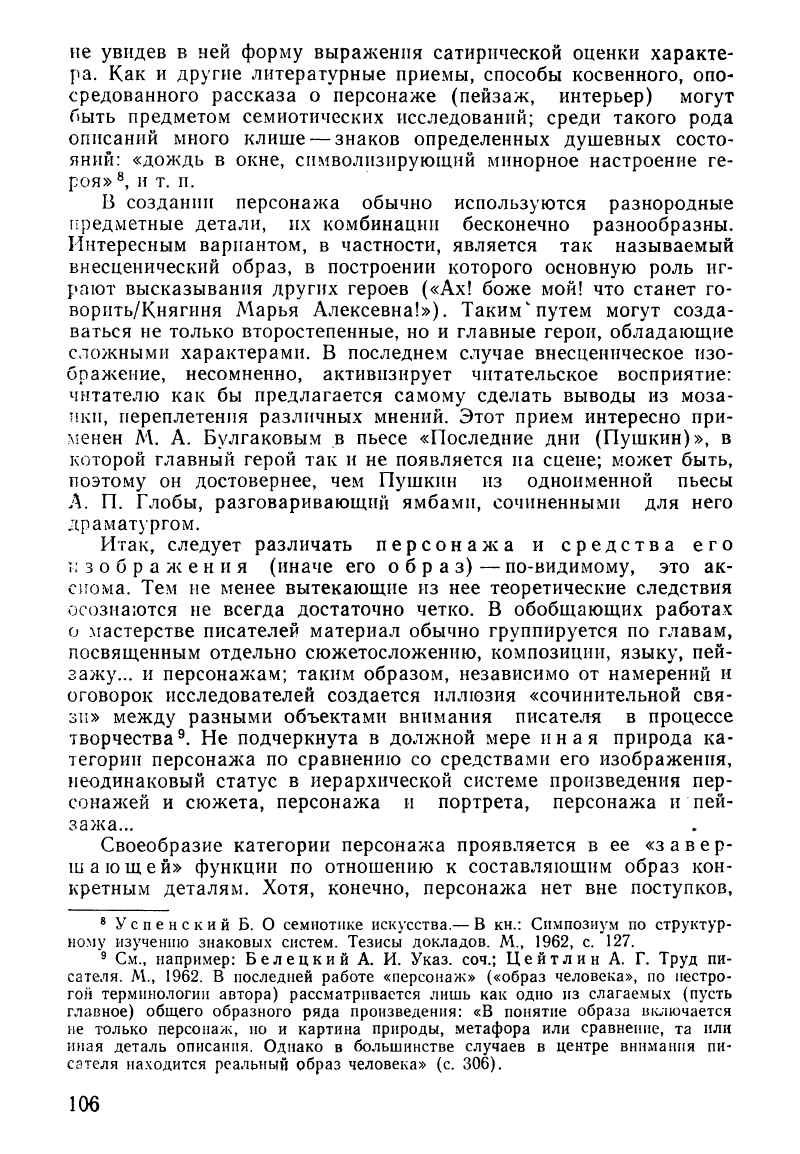
не увидев в ней форму выражения сатирической оценки характе-
ра. Как и другие литературные приемы, способы косвенного, опо-
средованного рассказа о персонаже (пейзаж, интерьер) могут
быть предметом семиотических исследований; среди такого рода
описаний много клише — знаков определенных душевных состо-
яний: «дождь в окне, символизирующий минорное настроение ге-
роя»
8
,
и т. п.
В создании персонажа обычно используются разнородные
предметные детали, их комбинации бесконечно разнообразны.
Интересным вариантом, в частности, является так называемый
внесценический образ, в построении которого основную роль иг-
рают высказывания других героев («Ах! боже мой! что станет го-
ворить/Княгиня Марья Алексевна!»). Таким "путем могут созда-
ваться не только второстепенные, но и главные герои, обладающие
сложными характерами. В последнем случае внесценическое изо-
бражение, несомненно, активизирует читательское восприятие:
читателю как бы предлагается самому сделать выводы из моза-
ики, переплетения различных мнений. Этот прием интересно при-
менен М. А. Булгаковым в пьесе «Последние дни (Пушкин)», в
которой главный герой так и не появляется на сцене; может быть,
поэтому он достовернее, чем Пушкин из одноименной пьесы
А. П. Глобы, разговаривающий ямбами, сочиненными для него
драматургом.
Итак, следует различать персонажа и средства его
изображения (иначе его образ)—по-видимому, это ак-
сиома. Тем не менее вытекающие из нее теоретические следствия
осознаются не всегда достаточно четко. В обобщающих работах
о мастерстве писателей материал обычно группируется по главам,
посвященным отдельно сюжетосложению, композиции, языку, пей-
зажу... и персонажам; таким образом, независимо от намерений и
оговорок исследователей создается иллюзия «сочинительной свя-
зи» между разными объектами внимания писателя в процессе
творчества
9
. Не подчеркнута в должной мере иная природа ка-
тегории персонажа по сравнению со средствами его изображения,
неодинаковый статус в иерархической системе произведения пер-
сонажей и сюжета, персонажа и портрета, персонажа и пей-
зажа...
Своеобразие категории персонажа проявляется в ее «завер-
шающей» функции по отношению к составляющим образ кон-
кретным деталям. Хотя, конечно, персонажа нет вне поступков,
8
Успенский Б. О семиотике искусства.— В кн.: Симпозиум по структур-
ному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М., 1962, с. 127.
9
См., например: Белецкий А. И. Указ. соч.; Цейтлин А. Г. Труд пи-
сателя. М., 1962. В последней работе «персонаж» («образ человека», по нестро-
гой терминологии автора) рассматривается лишь как одно из слагаемых (пусть
главное) общего образного ряда произведения: «В понятие образа включается
не только персонаж, но и картина природы, метафора или сравнение, та или
иная деталь описания. Однако в большинстве случаев в центре внимания пи-
сателя находится реальный образ человека» (с. 306).
106
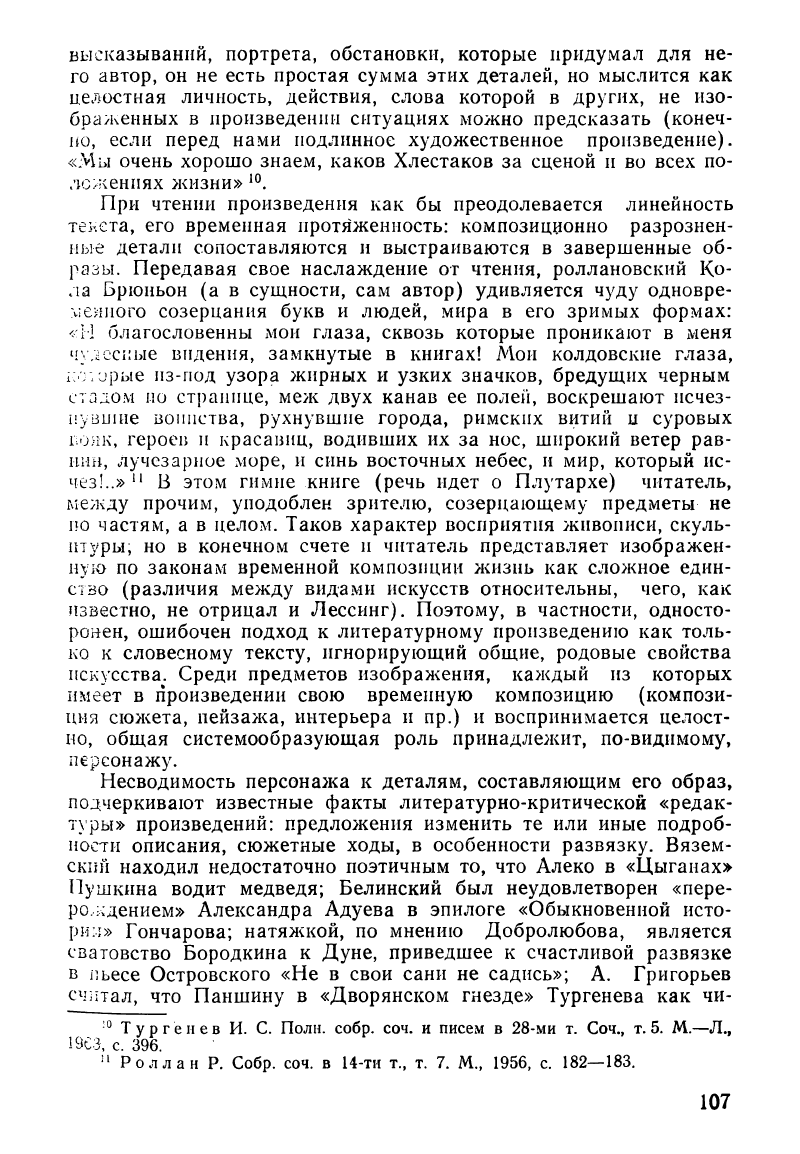
высказываний, портрета, обстановки, которые придумал для не-
го автор, он не есть простая сумма этих деталей, но мыслится как
целостная личность, действия, слова которой в других, не изо-
браженных в произведении ситуациях можно предсказать (конеч-
но,
если перед нами подлинное художественное произведение).
«Мы очень хорошо знаем, каков Хлестаков за сценой и во всех по-
ложениях жизни»
10
.
При чтении произведения как бы преодолевается линейность
текста, его временная протяженность: композиционно разрознен-
ные детали сопоставляются и выстраиваются в завершенные об-
разы. Передавая свое наслаждение от чтения, роллановский Ко-
ла Брюньон (а в сущности, сам автор) удивляется чуду одновре-
менного созерцания букв и людей, мира в его зримых формах:
< 11
благословенны мои глаза, сквозь которые проникают в меня
чудесные видения, замкнутые в книгах! Мои колдовские глаза,
1-;о;ирые
из-под узора жирных и узких значков, бредущих черным
стадом по странице, меж двух канав ее полей, воскрешают исчез-
нувшие воинства, рухнувшие города, римских витий и суровых
гюнк, героев п красавиц, водивших их за нос, широкий ветер рав-
нин, лучезарное море, и синь восточных небес, и мир, который ис-
чез!..»
11
В этом гимне .книге (речь идет о Плутархе) читатель,
между прочим, уподоблен зрителю, созерцающему предметы не
по частям, а в целом. Таков характер восприятия живописи, скуль-
птуры; но в конечном счете и читатель представляет изображен-
ную по законам временной композиции жизнь как сложное един-
ство (различия между видами искусств относительны, чего, как
известно, не отрицал и Лессинг). Поэтому, в частности, односто-
ронен, ошибочен подход к литературному произведению как толь-
ко к словесному тексту, игнорирующий общие, родовые свойства
искусства. Среди предметов изображения, каждый из которых
имеет в произведении свою временную композицию (компози-
ция сюжета, пейзажа, интерьера и пр.) и воспринимается целост-
но,
общая системообразующая роль принадлежит, по-видимому,
персонажу.
Несводимость персонажа к деталям, составляющим его образ,
подчеркивают известные факты литературно-критической «редак-
туры» произведений: предложения изменить те или иные подроб-
ности описания, сюжетные ходы, в особенности развязку. Вязем-
ский находил недостаточно поэтичным то, что Алеко в «Цыганах»
Пушкина водит медведя; Белинский был неудовлетворен «пере-
рождением» Александра Адуева в эпилоге «Обыкновенной исто-
рии» Гончарова; натяжкой, по мнению Добролюбова, является
сватовство Бородкина к Дуне, приведшее к счастливой развязке
в пьесе Островского «Не в свои сани не садись»; А. Григорьев
считал, что Паншину в «Дворянском гнезде» Тургенева как чи-
0
Т у р г е
и
ев И. С. Поли. собр. соч. и писем в 28-ми т. Соч., т. 5. М.—Л.,
19СЗ,
с. 396.
11
Роллан Р. Собр. соч. в 14-ти т., т. 7. М., 1956, с. 182—183.
107
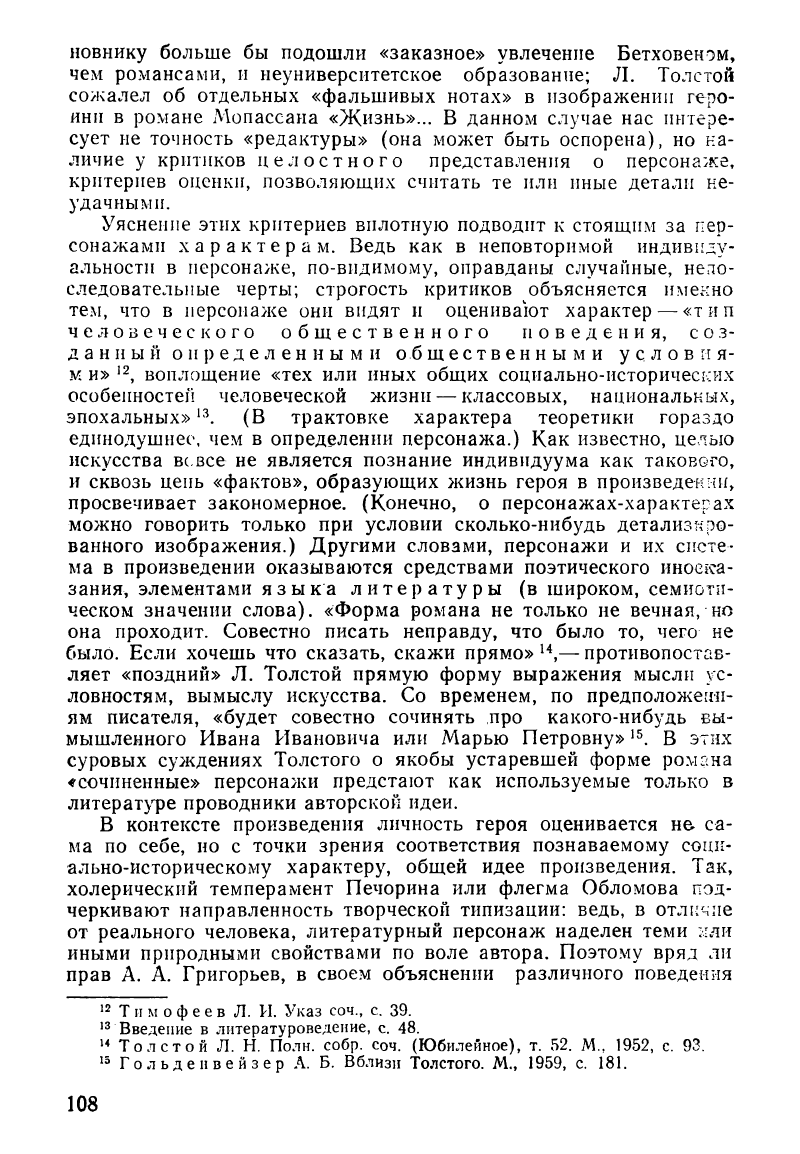
новнику больше бы подошли «заказное» увлечение Бетховеном,
чем романсами, и неуниверситетское образование; Л. Толстой
сожалел об отдельных «фальшивых нотах» в изображении геро-
ини в романе Мопассана «Жизнь»... В данном случае нас интере-
сует не точность «редактуры» (она может быть оспорена), но на-
личие у критиков целостного представления о персонаже,
критериев оценки, позволяющих считать те или иные детали не-
удачными.
Уяснение этих критериев вплотную подводит к стоящим за пер-
сонажами характерам. Ведь как в неповторимой индивиду-
альности в персонаже, по-видимому, оправданы случайные, непо-
следовательные черты; строгость критиков объясняется имекно
тем, что в персонаже они видят и оценивают характер — «тип
человеческого общественного поведения, соз-
данный определенными общественными условия-
м и»
12
, воплощение «тех или иных общих социально-исторических
особенностей человеческой жизни — классовых, национальных,
эпохальных»
13
. (В трактовке характера теоретики гораздо
едннодушнес, чем в определении персонажа.) Как известно, целью
искусства вс.все не является познание индивидуума как такового,
и сквозь цепь «фактов», образующих жизнь героя в произведении,
просвечивает закономерное. (Конечно, о персонажах-характерах
можно говорить только при условии сколько-нибудь детализиро-
ванного изображения.) Другими словами, персонажи и их систе-
ма в произведении оказываются средствами поэтического иноска-
зания, элементами языка литературы (в широком, семиоти-
ческом значении слова). «Форма романа не только не вечная, но
она проходит. Совестно писать неправду, что было то, чего не
было.
Если хочешь что сказать, скажи прямо»
14
,— противопостав-
ляет «поздний» Л. Толстой прямую форму выражения мысли ус-
ловностям, вымыслу искусства. Со временем, по предположени-
ям писателя, «будет совестно сочинять про какого-нибудь вы-
мышленного Ивана Ивановича или Марью Петровну»
15
. В этих
суровых суждениях Толстого о якобы устаревшей форме романа
«сочиненные» персонажи предстают как используемые только в
литературе проводники авторской идеи.
В контексте произведения личность героя оценивается не- са-
ма по себе, но с точки зрения соответствия познаваемому соци-
ально-историческому характеру, общей идее произведения. Так,
холерический темперамент Печорина или флегма Обломова под-
черкивают направленность творческой типизации: ведь, в отлмчпе
от реального человека, литературный персонаж наделен теми ;:ли
иными природными свойствами по воле автора. Поэтому вряд ли
прав А. А. Григорьев, в своем объяснении различного поведения
12
Тимофеев Л. И. Указ соч., с. 39.
13
Введение в литературоведение, с. 48.
14
Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. (Юбилейное), т. 52. М., 1952, с. 93.
15
Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959, с. 181.
108
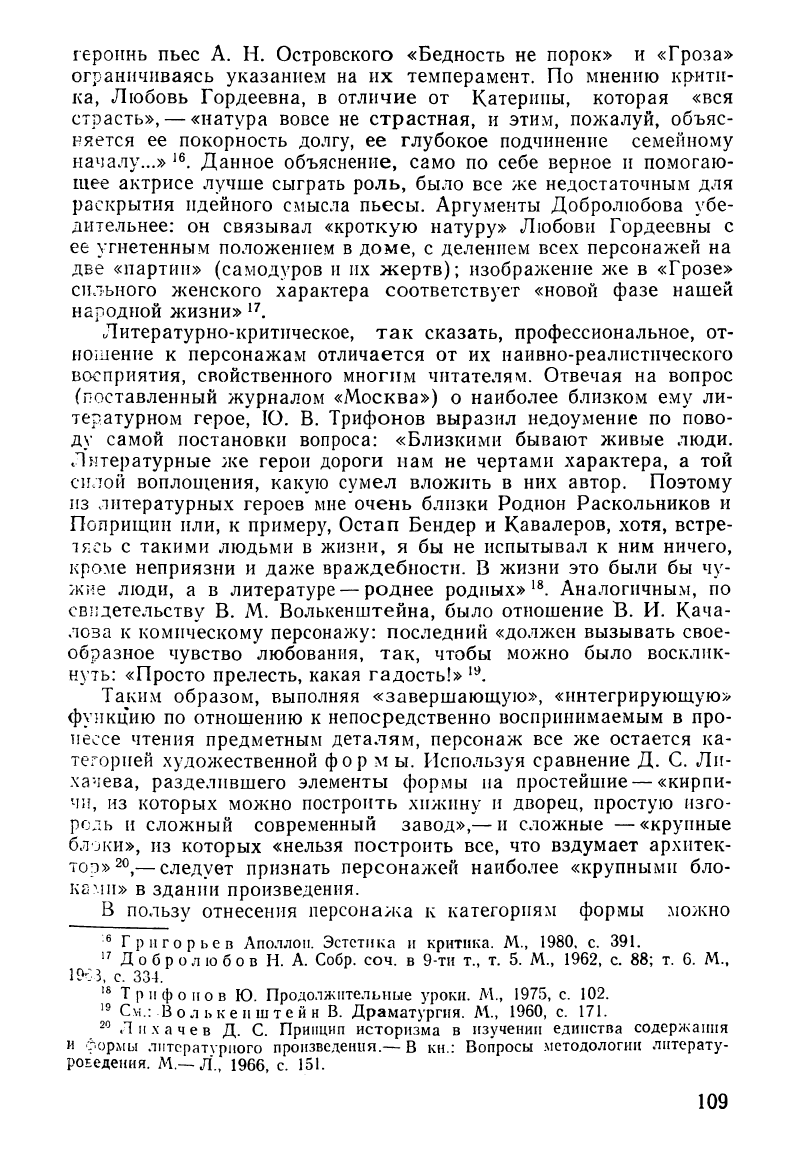
героинь пьес А. Н. Островского «Бедность не порок» и «Гроза»
ограничиваясь указанием на их темперамент. По мнению крити-
ка, Любовь Гордеевна, в отличие от Катерины, которая «вся
страсть», — «натура вовсе не страстная, и этим, пожалуй, объяс-
няется ее покорность долгу, ее глубокое подчинение семейному
началу...»
16
. Данное объяснение, само по себе верное и помогаю-
щее актрисе лучше сыграть роль, было все же недостаточным для
раскрытия идейного смысла пьесы. Аргументы Добролюбова убе-
дительнее: он связывал «кроткую натуру» Любови Гордеевны с
ее угнетенным положением в доме, с делением всех персонажей на
две «партии» (самодуров и их жертв); изображение же в «Грозе»
сильного женского характера соответствует «новой фазе нашей
народной жизни»
17
.
Литературно-критическое, так сказать, профессиональное, от-
ношение к персонажам отличается от их наивно-реалистического
восприятия, свойственного многим читателям. Отвечая на вопрос
{поставленный журналом «Москва») о наиболее близком ему ли-
тературном герое, Ю. В. Трифонов выразил недоумение по пово-
ду самой постановки вопроса: «Близкими бывают живые люди.
Литературные же герои дороги нам не чертами характера, а той
силой воплощения, какую сумел вложить в них автор. Поэтому
из литературных героев мне очень близки Родион Раскольников и
Поприщин или, к примеру, Остап Бендер и Кавалеров, хотя, встре-
тясь с такими людьми в жизни, я бы не испытывал к ним ничего,
кроме неприязни и даже враждебности. В жизни это были бы чу-
жие люди, а в литературе
—
роднее родных»
18
. Аналогичным, по
свидетельству В. М. Волькенштейна, было отношение В. И. Кача-
лоза к комическому персонажу: последний «должен вызывать свое-
образное чувство любования, так, чтобы можно было восклик-
нуть:
«Просто прелесть, какая гадость!»
19
.
Таким образом, выполняя «завершающую», «интегрирующую»
функцию по отношению к непосредственно воспринимаемым в про-
цессе чтения предметным деталям, персонаж все же остается ка-
тегорией художественной форм ы. Используя сравнение Д. С. Ли-
хачева, разделившего элементы формы на простейшие
—
«кирпи-
чи,
из которых можно построить хижину и дворец, простую изго-
родь и сложный современный завод»,— и сложные —«крупные
блоки», из которых «нельзя построить все, что вздумает архитек-
тор»
20
,—
следует признать персонажей наиболее «крупными бло-
ками» в здании произведения.
В пользу отнесения персонажа к категориям формы можно
6
Григорьев Аполлон. Эстетика и критика. М., 1980, с. 391.
17
Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти т., т. 5. М., 1962, с. 88; т. 6. М.,
Н£3,
е. 334.
18
Трифонов Ю. Продолжительные уроки. М., 1975, с. 102.
19
См.: Волькенштейн В. Драматургия. М., 1960, с. 171.
20
Лихачев Д. С. Принцип историзма в изучении единства содержания
и формы литературного произведения.— В кн.: Вопросы методологии литерату-
роведения. М.—Л\, 1966, с. 151.
109
