Алешина Л.С., Воронина Т.С. и др. Европейская живопись XIII-XX вв. Энциклопедический словарь
Подождите немного. Документ загружается.

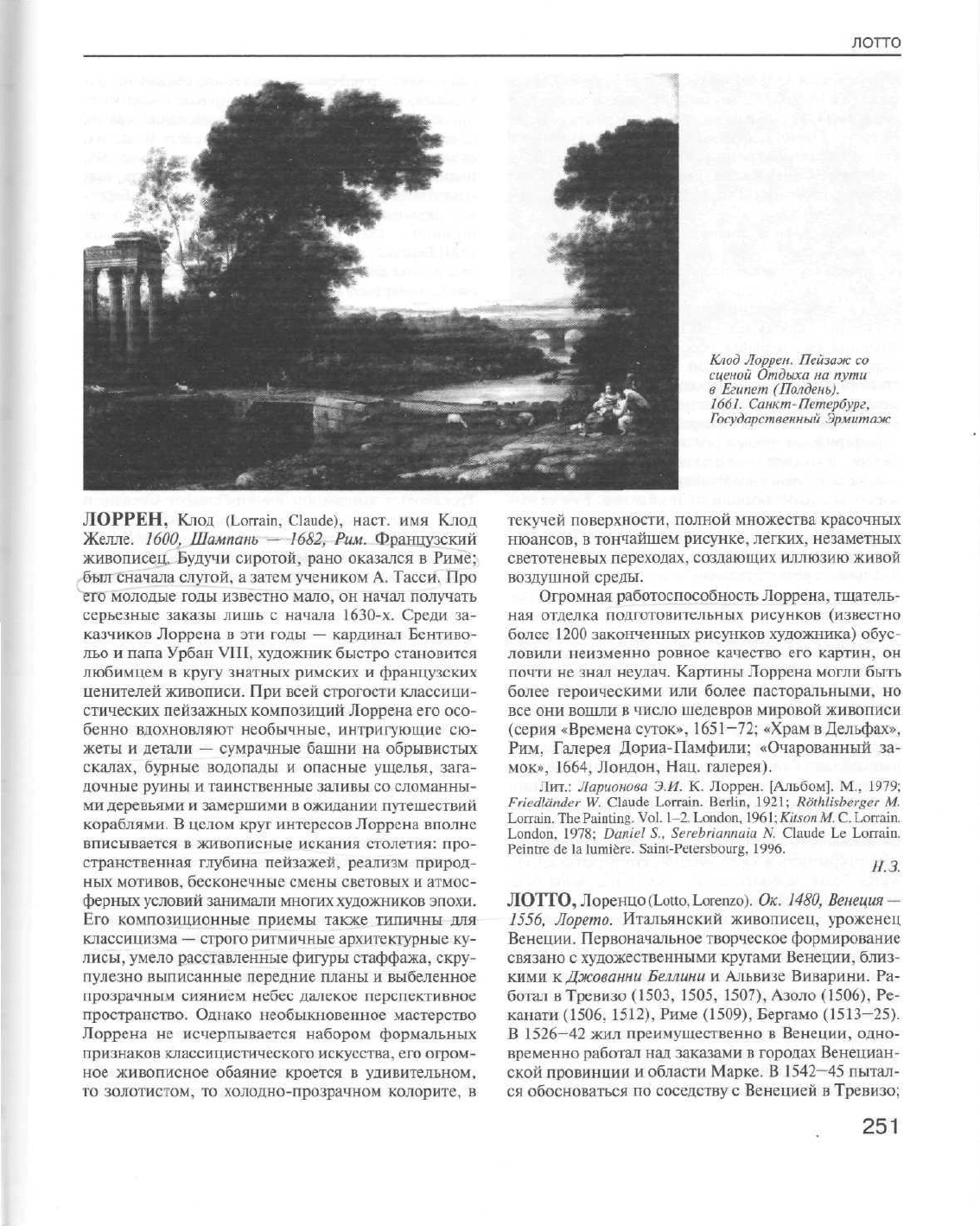
л отто
Клод
Лоррен.
Пейзаж
со
сценой
Отдыха
на
пути
в
Египет
(Полдень).
1661.
Санкт-Петербург,
Государственный
Эрмитаж
ЛОРРЕН,
Клод (Lorrain, Claude), наст, имя Клод
Желле. 1600,
Шампань
— 1682, Рим. Французский
живописец. Будучи сиротой, рано оказался в Риме;
был сначала слугой, а затем учеником А. Тасси. Про
его молодые годы известно мало, он начал получать
серьезные заказы лишь с начала
1630-х.
Среди за-
казчиков
Лоррена в эти годы — кардинал Бентиво-
льо и папа Урбан VIII, художник быстро становится
любимцем в
кругу
знатных римских и французских
ценителей живописи. При всей строгости классици-
стических пейзажных композиций Лоррена его осо-
бенно вдохновляют необычные, интригующие сю-
жеты и детали — сумрачные башни на обрывистых
скалах, бурные водопады и опасные ущелья, зага-
дочные руины и таинственные заливы со сломанны-
ми
деревьями и замершими в ожидании путешествий
кораблями. В целом круг интересов Лоррена вполне
вписывается в живописные искания столетия: про-
странственная глубина пейзажей, реализм природ-
ных мотивов, бесконечные смены световых и атмос-
ферных условий занимали многих художников эпохи.
Его композиционные приемы также типичны для
классицизма — строго ритмичные архитектурные ку-
лисы, умело расставленные фигуры стаффажа, скру-
пулезно выписанные передние планы и выбеленное
прозрачным сиянием небес далекое перспективное
пространство. Однако необыкновенное мастерство
Лоррена не исчерпывается набором формальных
признаков
классицистического искусства, его огром-
ное живописное обаяние кроется в удивительном,
то золотистом, то холодно-прозрачном колорите, в
текучей поверхности, полной множества красочных
нюансов,
в тончайшем рисунке, легких, незаметных
светотеневых переходах, создающих иллюзию живой
воздушной среды.
Огромная работоспособность Лоррена, тщатель-
ная
отделка подготовительных рисунков (известно
более 1200 законченных рисунков художника) обус-
ловили неизменно ровное качество его картин, он
почти не знал неудач. Картины Лоррена могли быть
более героическими или более пасторальными, но
все они вошли в число шедевров мировой живописи
(серия
«Времена суток»,
1651—72;
«Храм
в Дельфах»,
Рим,
Галерея Дориа-Памфили; «Очарованный за-
мок», 1664, Лондон, Нац. галерея).
Лит.:
Ларионова
Э.И. К. Лоррен. [Альбом]. М., 1979;
Friedlander
W. Claude Lorrain. Berlin, 1921:
Rothlisberger
M.
Lorrain. The Painting. Vol. 1-2. London,
\96l\KitsonM.
C. Lorrain.
London, 1978;
Daniel
S.,
Serebriannaia
N. Claude Le Lorrain.
Peintre de la lumiere. Saint-Petersbourg, 1996.
H.3.
ЛОТТО,
Лоренцо (Lotto, Lorenzo). Ок. 1480,
Венеция
—
1556,
Лорето.
Итальянский живописец, уроженец
Венеции. Первоначальное творческое формирование
связано с художественными кругами Венеции, близ-
кими
к
Джованни
Беллини и Альвизе Виварини. Ра-
ботал в Тревизо (1503, 1505, 1507), Азоло (1506), Ре-
канати
(1506, 1512), Риме (1509), Бергамо (1513-25).
В
1526—42
жил преимущественно в Венеции, одно-
временно работал над заказами в городах Венециан-
ской
провинции и области Марке. В
1542-45
пытал-
ся
обосноваться по соседству с Венецией в Тревизо;
251
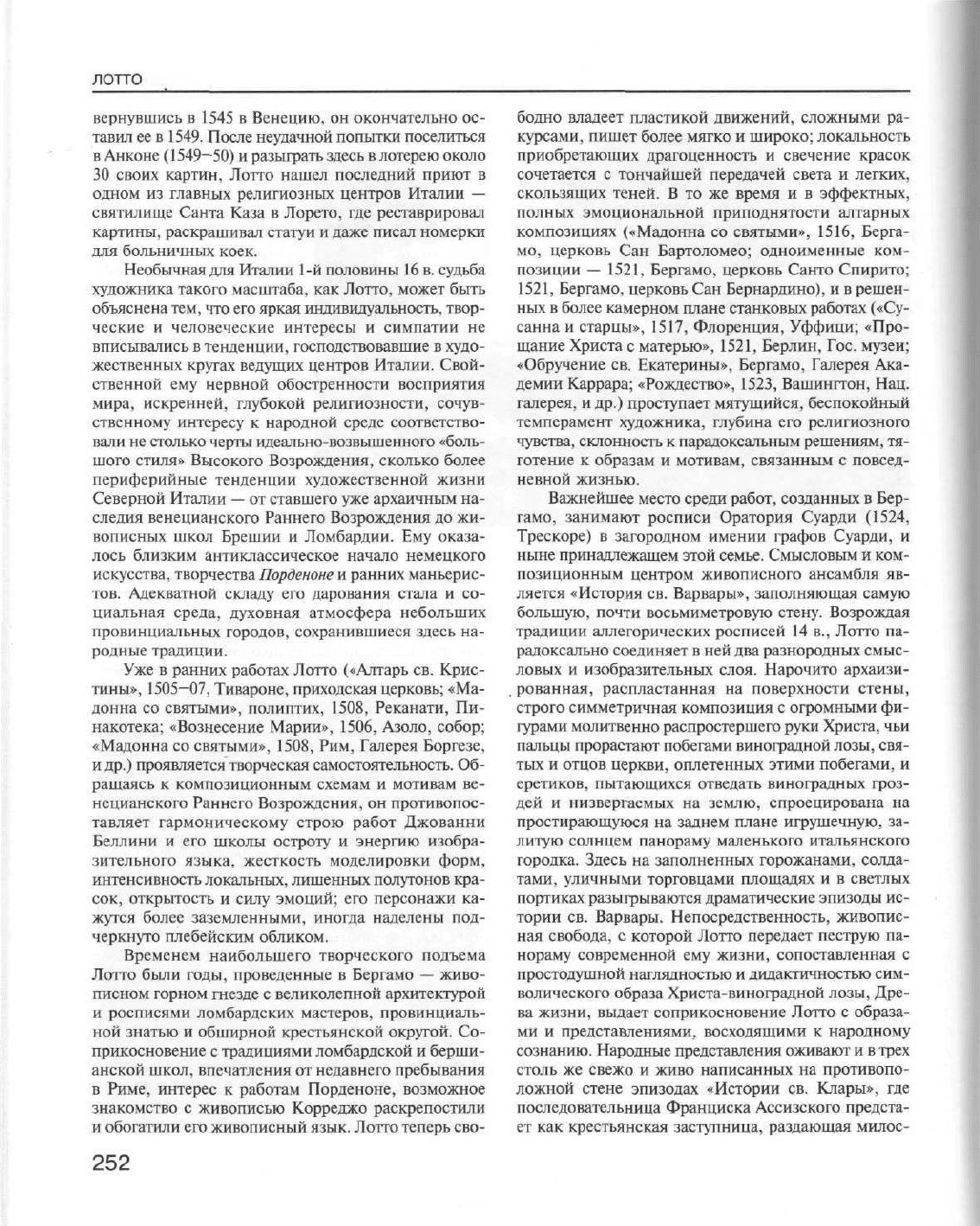
лотто
вернувшись в 1545 в Венецию, он окончательно ос-
тавил ее в 1549. После неудачной попытки поселиться
в
Анконе
{1549—50)
и разыграть здесь в лотерею около
30 своих картин,
Лотто
нашел последний приют в
одном из главных религиозных центров Италии —
святилище Санта Каза в Лорето, где реставрировал
картины,
раскрашивал
статуи
и
даже
писал номерки
для больничных коек.
Необычная для Италии 1-й половины 16 в.
судьба
художника такого масштаба, как Лотто, может быть
объяснена тем, что его яркая индивидуальность, твор-
ческие и человеческие интересы и симпатии не
вписывались в тенденции, господствовавшие в
худо-
жественных
кругах
ведущих
центров Италии. Свой-
ственной ему нервной обостренности восприятия
мира, искренней, глубокой религиозности, сочув-
ственному интересу к народной
среде
соответство-
вали не столько черты идеально-возвышенного
«боль-
шого
стиля»
Высокого Возрождения, сколько более
периферийные тенденции художественной жизни
Северной Италии — от ставшего уже архаичным на-
следия венецианского Раннего Возрождения до жи-
вописных школ Брешии и Ломбардии. Ему оказа-
лось близким антиклассическое начало немецкого
искусства, творчества
Порденоне
и ранних маньерис-
тов. Адекватной складу его дарования стала и со-
циальная среда,
духовная
атмосфера небольших
провинциальных городов, сохранившиеся здесь на-
родные традиции.
Уже в ранних
работах
Лотто
(«Алтарь
св.
Крис-
тины»,
1505—07,
Тивароне, приходская церковь; «Ма-
донна со святыми», полиптих, 1508, Реканати, Пи-
накотека; «Вознесение Марии», 1506, Азоло, собор;
«Мадонна со святыми», 1508, Рим, Галерея Боргезе,
и
др.) проявляется творческая самостоятельность. Об-
ращаясь к композиционным схемам и мотивам ве-
нецианского Раннего Возрождения, он противопос-
тавляет гармоническому строю работ Джованни
Беллини
и его школы остроту и энергию изобра-
зительного языка, жесткость моделировки форм,
интенсивность локальных, лишенных полутонов кра-
сок,
открытость и силу эмоций; его персонажи ка-
жутся
более заземленными, иногда наделены под-
черкнуто плебейским обликом.
Временем наибольшего творческого подъема
Лотто
были годы, проведенные в Бергамо — живо-
писном
горном гнезде с великолепной архитектурой
и
росписями ломбардских мастеров, провинциаль-
ной
знатью и обширной крестьянской округой. Со-
прикосновение
с традициями ломбардской и берши-
анской
школ, впечатления от недавнего пребывания
в
Риме, интерес к работам Порденоне, возможное
знакомство с живописью Корреджо раскрепостили
и
обогатили его живописный язык.
Лотто
теперь сво-
бодно
владеет
пластикой движений, сложными ра-
курсами, пишет более мягко и широко; локальность
приобретаюших драгоценность и свечение красок
сочетается с тончайшей передачей света и легких,
скользящих теней. В то же время и в эффектных,
полных эмоциональной приподнятости алтарных
композициях
(«Мадонна со святыми», 1516, Берга-
мо,
церковь Сан Бартоломео; одноименные ком-
позиции
— 1521, Бергамо, церковь Санто Спирито;
1521, Бергамо, церковь Сан Бернардино), и в решен-
ных в более камерном плане станковых
работах
(«Су-
санна
и старцы», 1517, Флоренция, Уффици; «Про-
щание Христа с
матерью»,
1521, Берлин, Гос. музеи;
«Обручение
св. Екатерины», Бергамо, Галерея Ака-
демии Каррара;
«Рождество»,
1523, Вашингтон, Нац.
галерея, и др.) проступает мятущийся, беспокойный
темперамент художника, глубина его религиозного
чувства,
склонность к парадоксальным решениям, тя-
готение к образам и мотивам, связанным с повсед-
невной
жизнью.
Важнейшее место среди работ, созданных в Бер-
гамо, занимают росписи Оратория Суарди
(1524,
Трескоре) в загородном имении графов Суарди, и
ныне
принадлежащем этой семье. Смысловым и ком-
позиционным
центром живописного ансамбля яв-
ляется «История св. Варвары», заполняющая
самую
большую, почти восьмиметровую стену. Возрождая
традиции аллегорических росписей 14 в.,
Лотто
па-
радоксально соединяет в ней два разнородных смыс-
ловых и изобразительных слоя. Нарочито архаизи-
. рованная, распластанная на поверхности стены,
строго симметричная композиция с огромными фи-
гурами молитвенно распростершего руки Христа, чьи
пальцы прорастают побегами виноградной лозы, свя-
тых и отцов церкви, оплетенных этими побегами, и
еретиков, пытающихся отведать виноградных гроз-
дей и низвергаемых на землю, спроецирована на
простирающуюся на заднем плане игрушечную, за-
литую
солнцем панораму маленького итальянского
городка. Здесь на заполненных горожанами, солда-
тами, уличными торговцами площадях и в
светлых
портиках разыгрываются драматические эпизоды ис-
тории св. Варвары. Непосредственность, живопис-
ная
свобода, с которой
Лотто
передает
пеструю
па-
нораму современной ему жизни, сопоставленная с
простодушной наглядностью и дидактичностью сим-
волического образа Христа-виноградной лозы, Дре-
ва жизни,
выдает
соприкосновение
Лотто
с образа-
ми
и представлениями, восходящими к народному
сознанию.
Народные представления оживают и в
трех
столь же свежо и живо написанных на противопо-
ложной стене эпизодах «Истории св. Клары», где
последовательница Франциска Ассизского предста-
ет как крестьянская заступница, раздающая милое-
252
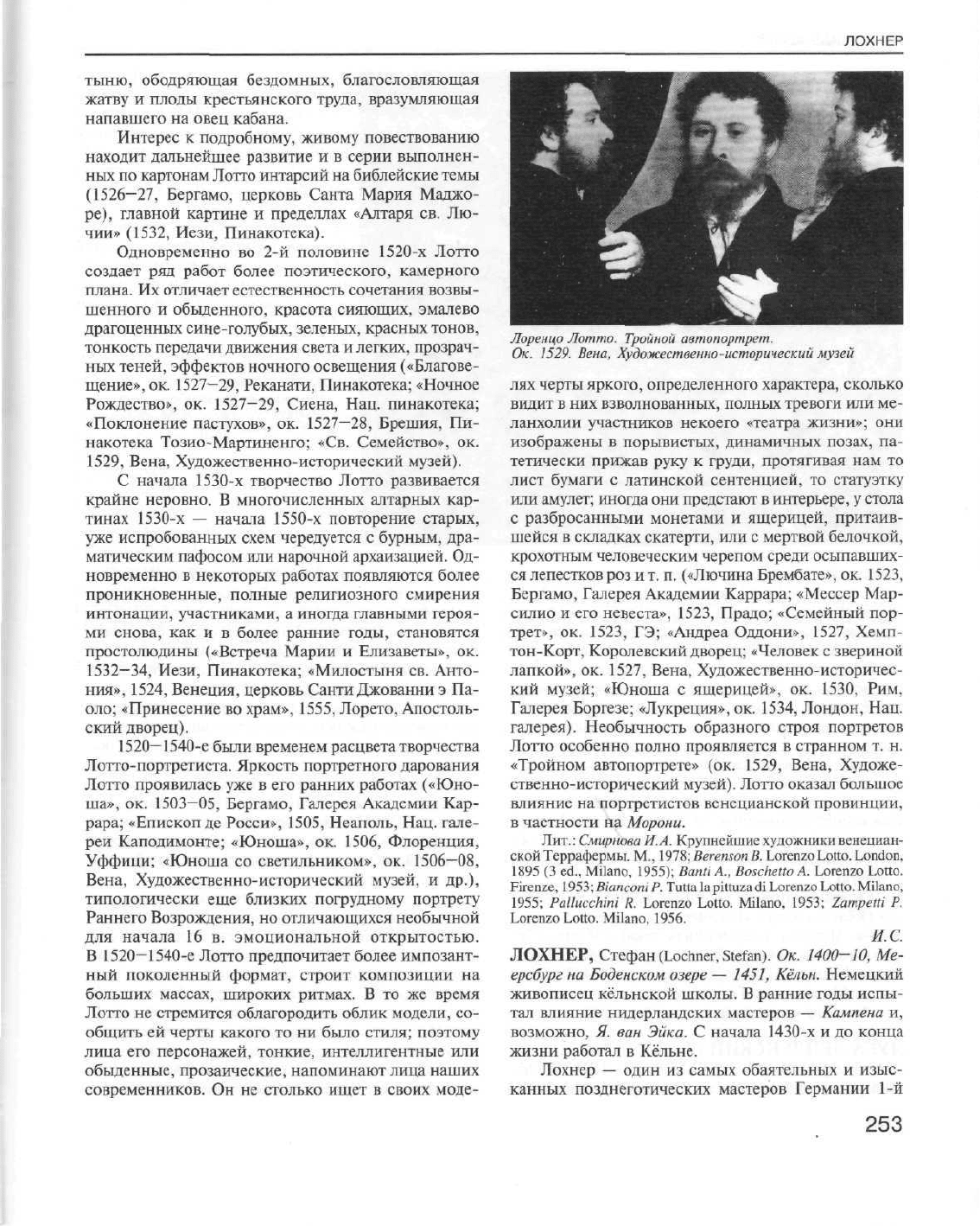
ЛОХНЕР
тыню, ободряющая бездомных, благословляющая
жатву
и плоды крестьянского
труда,
вразумляющая
напавшего на овец кабана.
Интерес к подробному, живому повествованию
находит дальнейшее развитие и в серии выполнен-
ных по картонам Лотто интарсии на библейские темы
(1526—27,
Бергамо, церковь Санта Мария Маджо-
ре),
главной картине и пределлах
«Алтаря
св. Лю-
чии» (1532, Иези, Пинакотека).
Одновременно во 2-й половине
1520-х
Лотто
создает ряд работ более поэтического, камерного
плана. Их отличает естественность сочетания возвы-
шенного и обыденного, красота сияющих, эмалево
драгоценных сине-голубых, зеленых, красных тонов,
тонкость передачи движения света и легких, прозрач-
ных теней, эффектов ночного освещения («Благове-
щение», ок.
1527—29,
Реканати, Пинакотека; «Ночное
Рождество», ок.
1527—29,
Сиена, Нац. пинакотека;
«Поклонение
пастухов»,
ок.
1527-28,
Брешия, Пи-
накотека Тозио-Мартиненго; «Св. Семейство», ок.
1529, Вена, Художественно-исторический музей).
С
начала
1530-х
творчество Лотто развивается
крайне
неровно. В многочисленных алтарных кар-
тинах
1530-х
— начала
1550-х
повторение старых,
уже испробованных схем чередуется с бурным, дра-
матическим пафосом или нарочной архаизацией. Од-
новременно в некоторых работах появляются более
проникновенные,
полные религиозного смирения
интонации,
участниками, а иногда главными героя-
ми
снова, как и в более ранние годы, становятся
простолюдины («Встреча Марии и Елизаветы», ок.
1532—34,
Иези, Пинакотека; «Милостыня св. Анто-
ния»,
1524, Венеция, церковь Санти Джованни э Па-
оло;
«Принесение во
храм»,
1555, Лорето, Апостоль-
ский
дворец).
1520—
1540-е
были временем расцвета творчества
Лотто-портретиста. Яркость портретного дарования
Лотто проявилась уже в его ранних работах («Юно-
ша», ок.
1503—05,
Бергамо, Галерея Академии Кар-
рара; «Епископ де Росси», 1505, Неаполь, Нац. гале-
реи Каподимонте; «Юноша», ок. 1506, Флоренция,
Уффици;
«Юноша со светильником», ок.
1506—08,
Вена, Художественно-исторический музей, и др.),
типологически еще близких погрудному портрету
Раннего
Возрождения, но отличающихся необычной
для начала 16 в. эмоциональной открытостью.
В
1520—1540-е
Лотто предпочитает более импозант-
ный
поколенный формат, строит композиции на
больших массах, широких ритмах. В то же время
Лотто не стремится облагородить облик модели, со-
общить ей черты какого то ни было стиля; поэтому
лица его персонажей, тонкие, интеллигентные или
обыденные, прозаические, напоминают лица наших
современников.
Он не столько ищет в своих моде-
Лоренцо
Лотто.
Тройной
автопортрет.
Ок. 1529.
Вена,
Художественно-исторический
музей
лях черты яркого, определенного характера, сколько
видит в них взволнованных, полных тревоги или ме-
ланхолии участников некоего
«театра
жизни»; они
изображены в порывистых, динамичных позах, па-
тетически прижав руку к груди, протягивая нам то
лист бумаги с латинской сентенцией, то статуэтку
или
амулет; иногда они предстают в интерьере, у стола
с разбросанными монетами и ящерицей, притаив-
шейся
в складках скатерти, или с мертвой белочкой,
крохотным человеческим черепом среди осыпавших-
ся
лепестков роз и т. п. («Лючина Брембате», ок. 1523,
Бергамо, Галерея Академии Каррара; «Мессер Мар-
силио и его невеста», 1523, Прадо; «Семейный пор-
трет»,
ок. 1523, ГЭ;
«Андреа
Оддони», 1527, Хемп-
тон-Корт, Королевский дворец; «Человек с звериной
лапкой», ок. 1527, Вена, Художественно-историчес-
кий
музей; «Юноша с ящерицей», ок. 1530, Рим,
Галерея Боргезе; «Лукреция», ок. 1534, Лондон, Нац.
галерея). Необычность образного строя портретов
Лотто особенно полно проявляется в странном т. н.
«Тройном автопортрете» (ок. 1529, Вена,
Художе-
ственно-исторический музей). Лотто оказал большое
влияние
на портретистов венецианской провинции,
в
частности на
Морони.
Лит.:
Смирнова
И.
А. Крупнейшие художники венециан-
ской
Террафермы. М., 1978;
Berenson
В. Lorenzo Lotto. London,
1895 (3 ed., Milano, 1955);
Banli
A.,
Boschetto
A. Lorenzo Lotto.
Firenze, 1953;
Bianconi
P. Tutta ia pittuza di Lorenzo Lotto. Milano,
1955;
Pallucchini
R. Lorenzo Lotto. Milano, 1953;
Zampetti
P.
Lorenzo Lotto. Milano, 1956.
И.С.
ЛОХНЕР,
Стефан {Lochner, Stefan). Ок.
1400-Ю,
Ме-
ерсбург
на
Боденском
озере
— 1451,
Кёльн.
Немецкий
живописец кёльнской школы. В ранние годы испы-
тал влияние нидерландских мастеров —
Кампена
и,
возможно, Я. ван Эйка. С начала
1430-х
и до конца
жизни
работал в Кёльне.
Лохнер — один из самых обаятельных и изыс-
канных поздне готических мастеров Германии 1-й
253
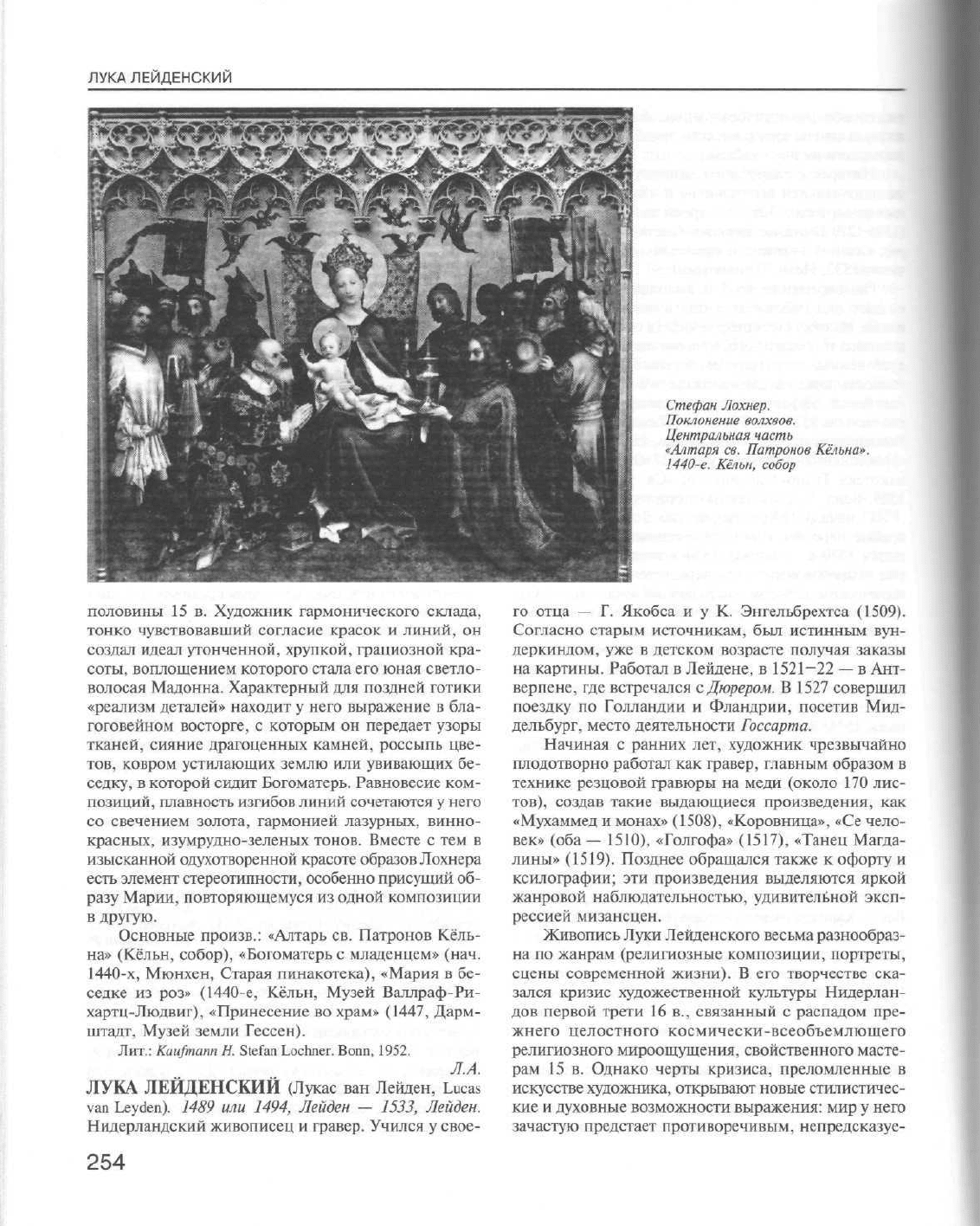
ЛУКА
ЛЕЙДЕНСКИЙ
Стефан
Лохнер.
Поклонение волхвов.
Центральная
часть
«Антаря
св.
Патронов
Кёльна».
1440-е.
Кёльн,
собор
половины 15 в. Художник гармонического склада,
тонко
чувствовавший согласие красок и линий, он
создал идеал утонченной, хрупкой, грациозной кра-
соты, воплощением которого стала его юная светло-
волосая Мадонна. Характерный для поздней готики
«реализм
деталей»
находит у него выражение в бла-
гоговейном восторге, с которым он передает узоры
тканей,
сияние драгоценных камней, россыпь цве-
тов, ковром устилающих землю или увивающих бе-
седку, в которой сидит Богоматерь. Равновесие ком-
позиций,
плавность изгибов линий сочетаются у него
со свечением золота, гармонией лазурных, винно-
красных, изумрудно-зеленых тонов. Вместе с тем в
изысканной
одухотворенной красоте образов Лохнера
есть элемент стереотипности, особенно присущий об-
разу Марии, повторяющемуся из одной композиции
в
другую.
Основные произв.:
«Алтарь
св. Патронов Кёль-
на» (Кёльн, собор), «Богоматерь с младенцем» (нач.
1440-х,
Мюнхен, Старая пинакотека), «Мария в бе-
седке из
роз»
(1440-е, Кёльн, Музей Валлраф-Ри-
хартц-Людвиг), «Принесение во
храм»
(1447, Дарм-
штадт, Музей земли Гессен).
Лит.: Kaufinann H. Stefan Lochner. Bonn, 1952.
Л.А.
ЛУКА
ЛЕЙДЕНСКИЙ
(Лукас ван Лейден, Lucas
van Leyden). 1489 или 1494,
Лейден
— 1533,
Лейден.
Нидерландский живописец и гравер. Учился у свое-
го отца — Г. Якобса и у К. Энгельбрехтса (1509).
Согласно старым источникам, был истинным вун-
деркиндом, уже в детском возрасте получая заказы
на
картины. Работал в Лейдене, в
1521—22
— в Ант-
верпене, где встречался с
Дюрером.
В 1527 совершил
поездку по Голландии и Фландрии, посетив Мид-
дельбург,
место деятельности
Госсарта.
Начиная
с ранних лет, художник чрезвычайно
плодотворно работал как гравер, главным образом в
технике резцовой гравюры на меди (около 170 лис-
тов),
создав такие выдающиеся произведения, как
«Мухаммед
и
монах»
(1508), «Коровница», «Се чело-
век»
(оба — 1510),
«Голгофа»
(1517), «Танец Магда-
лины» (1519). Позднее обращался также к офорту и
ксилографии; эти произведения выделяются яркой
жанровой наблюдательностью, удивительной
эксп-
рессией мизансцен.
Живопись Луки Лейденского весьма разнообраз-
на
по жанрам (религиозные композиции, портреты,
сцены современной жизни). В его творчестве ска-
зался кризис художественной культуры Нидерлан-
дов первой трети 16 в., связанный с распадом пре-
жнего целостного космически-всеобъемлющего
религиозного мироощущения, свойственного масте-
рам 15 в. Однако черты кризиса, преломленные в
искусстве художника, открывают новые стилистичес-
кие
и духовные возможности выражения: мир у него
зачастую предстает противоречивым, непредсказуе-
254
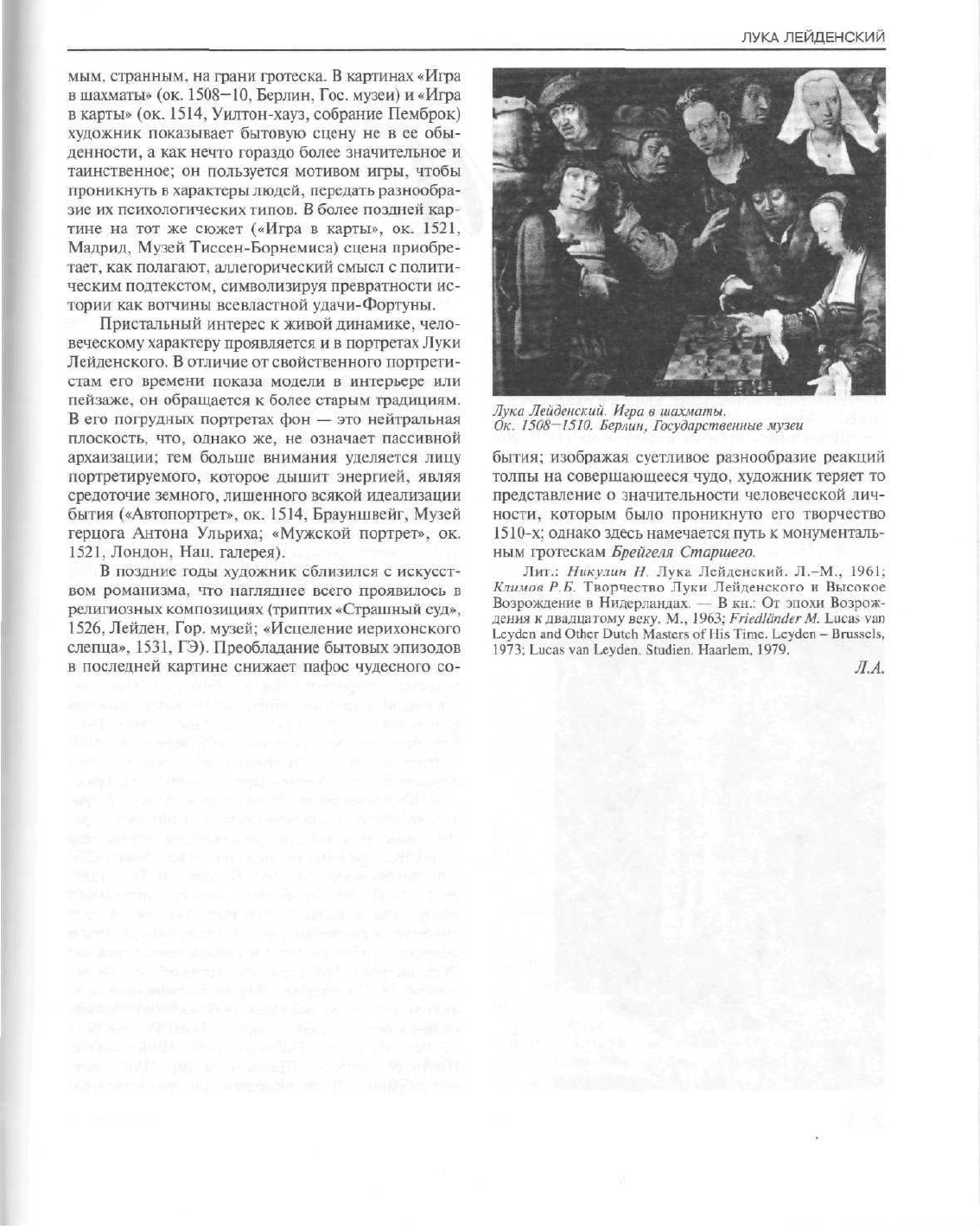
ЛУКА
ЛЕЙДЕНСКИЙ
мым, странным, на грани гротеска. В картинах «Игра
в
шахматы»
(ок.
1508—10,
Берлин, Гос. музеи) и «Игра
в
карты» (ок. 1514, Уилтон-хауз, собрание Пемброк)
художник показывает бытовую сцену не в ее обы-
денности, а как нечто гораздо более значительное и
таинственное; он пользуется мотивом игры, чтобы
проникнуть в характеры людей, передать разнообра-
зие их психологических типов. В более поздней кар-
тине на тот же сюжет («Игра в карты», ок. 1521,
Мадрид, Музей Тиссен-Борнемиса) сцена приобре-
тает, как полагают, аллегорический смысл с полити-
ческим подтекстом, символизируя превратности ис-
тории как вотчины всевластной удачи-Фортуны.
Пристальный интерес к живой динамике, чело-
веческому характеру проявляется и в портретах Луки
Лейденского. В отличие от свойственного портрети-
стам его времени показа модели в интерьере или
пейзаже, он обращается к более старым традициям.
В его погрудных портретах фон — это нейтральная
плоскость, что, однако же, не означает пассивной
архаизации; тем больше внимания уделяется лицу
портретируемого, которое дышит энергией, являя
средоточие земного, лишенного всякой идеализации
бытия
(«Автопортрет»,
ок. 1514, Брауншвейг, Музей
герцога Антона
Ульриха;
«Мужской портрет», ок.
1521, Лондон, Нац. галерея).
В поздние годы художник сблизился с искусст-
вом романизма, что нагляднее всего проявилось в
религиозных композициях (триптих «Страшный
суд»,
1526, Лейден, Гор. музей; «Исцеление иерихонского
слепца», 1531, ГЭ). Преобладание бытовых эпизодов
в
последней картине снижает пафос чудесного со-
Лука Лейденский.
Игра
в
шахматы.
Ок.
1508—1510.
Берлин,
Государственные
музеи
бытия; изображая суетливое разнообразие реакций
толпы на совершающееся
чудо,
художник теряет то
представление о значительности человеческой лич-
ности,
которым было проникнуто его творчество
1510-х;
однако здесь намечается путь к монументаль-
ным
гротескам
Брейгеля
Старшего.
Лит.: Никулин
И.
Лука Лейденский. Л.-М.,
1961;
Климов
Р.
Б. Творчество Луки Лейденского
и
Высокое
Возрождение
в
Нидерландах.
— В кн.: От
эпохи Возрож-
дения
к
двадцатому веку.
М.,
1963;
Friedlander
M. Lucas
van
Leyden
and
Other
Dutch
Masters
of His
Time. Leyden
-
Brussels.
1973; Lucas
van
Leyden. Studien. Haarlem,
1979.
Л.А.

МАГРИТ,
Рене (Magritte, Rene). 1898,
Лессин,
провин-
ция Эно — 1967,
Брюссель.
Бельгийский художник.
Представитель сюрреализма. Учился в Академии ху-
дожеств Брюсселя (1916—18). Ранняя живопись от-
мечена влиянием кубизма и футуризма (1918—20),
затем пуристов
пЛеже.
В 1925, сблизившись с груп-
пой
дадаистов, сотрудничал в основанном ими жур-
нале «Эзопаж» («Пищевод»). Знакомство с живопи-
сью Де Кирико и поэзией сюрреалистов изменило
творческие ориентации Магрита. В 1926 он создал
свою первую сюрреалистическую картину «Заблудив-
шийся
жокей» (Нью-Йорк, частное собрание).
Рене
Магрит.
Философия
будуара.
1948.
Нью-Йорк,
частное
собрание
В
1927-30
жил во Франции, где включился в
деятельность объединения сюрреалистов. Здесь сло-
жилась система концептуальной живописи Магри-
та, которая оставалась почти неизменной до конца
жизни
художника. Живописная манера, намеренно
безличная, сухая, обнаруживает парадоксальную спо-
собность к правдоподобному изображению немыс-
лимой,
невозможной реальности. Серия работ кон-
ца
1920-х
— начала
1930-х,
в которых элементарная
картинка,
имитирующая иллюстрации к азбуке, со-
провождается противоречащей ей надписью, демон-
стрирует условно-знаковый характер визуального
образа («Пустая маска», 1926, Дюссельдорф,
Худо-
жественное собрание земли Северный Рейн-Вестфа-
лия;
«Предательство образов»,
1928—29,
Лос-Андже-
лес, Музей искусств; «Ключ к сновидениям», 1930,
Париж,
частное собрание). В картинах Магрита
объекты, морфологически подобные, но относящи-
еся к разным классам, обмениваются качествами или
сливаются в гибриды («Компаньоны
страха»,
1942,
Брюссель, частное собрание; «Объяснение», 1954,
частное собрание). Ночной пейзаж мерцает под
куполом дневного неба («Царство света», 1954, Брюс-
сель, Королевский музей изящных искусств). В пра-
вильно построенной перспективе возникают пара-
доксальные пересечения, уравнивающие твердые тела
и
пространственные промежутки
между
ними («До-
стоверность пробела», 1965, Вашингтон, Нац. гале-
рея).
Раскрывая проблематичность зрительного
восприятия
и иллюзорного изображения, Магрит
прибегает к символам зеркала, глаза, окна, сцены и
занавеса, картины в картине («Фальшивое зеркало»,
1935, частное собрание; «Недопустимое воспроизве-
дение», 1937, Роттердам, Музей Бойманс-ван Бей-
нинген;
«Человеческий
удел»,
1933, частное собрание;
«Ключ к полям», 1936, Мадрид, Музей Тиссен-Бор-
немиса; «Прогулка Евклида», 1955, Миннеаполис,
Институт искусств; «Прекрасный мир», 1962, част-
ное собрание). В возникающей при этом игре отра-
256
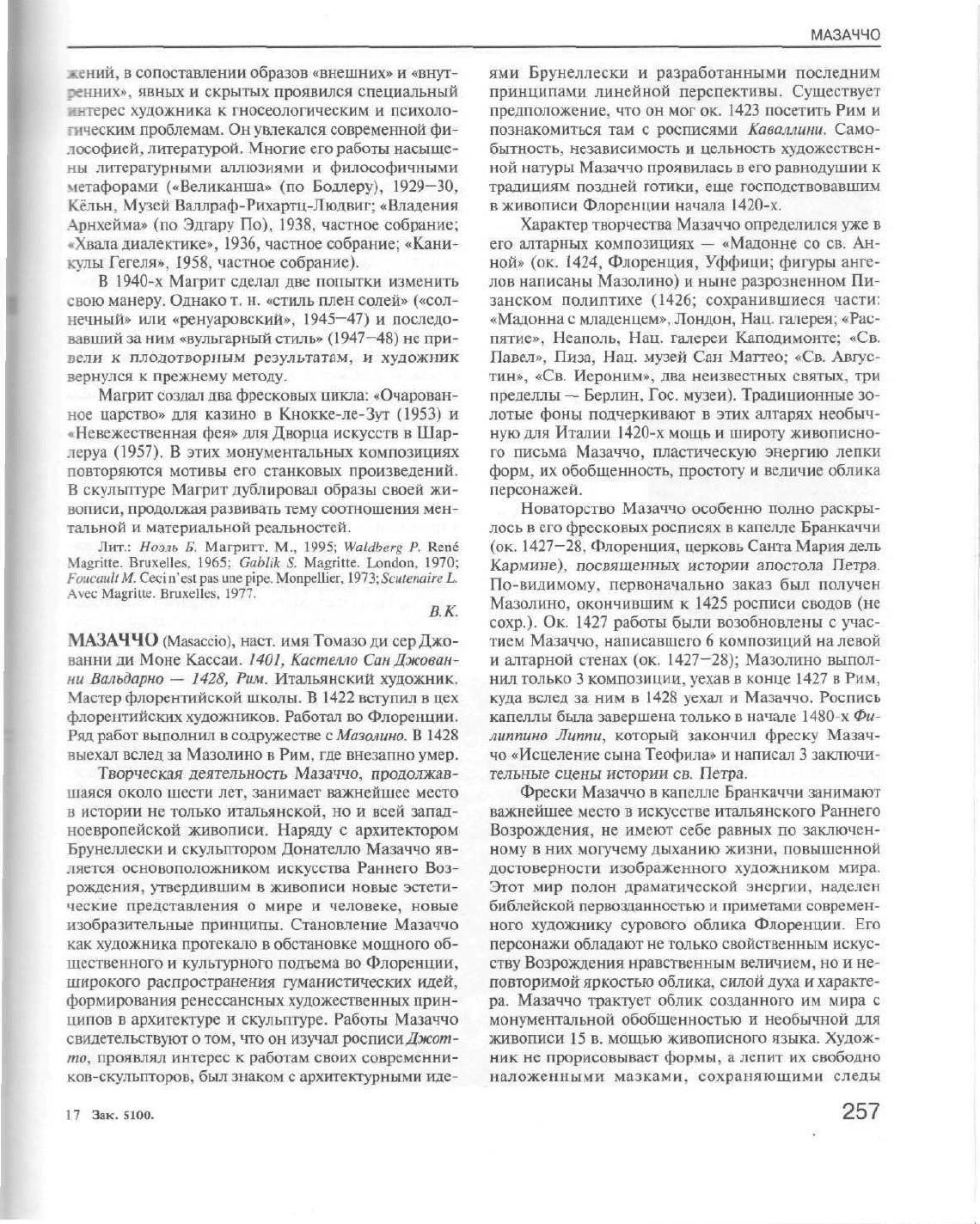
МАЗАЧЧО
жений,
в сопоставлении образов «внешних» и
«внут-
ренних», явных и скрытых проявился специальный
интерес художника к гносеологическим и психоло-
гическим проблемам. Он увлекался современной фи-
лософией,
литературой. Многие его работы насыще-
ны
литературными аллюзиями и философичными
метафорами («Великанша» (по Бодлеру),
1929—30,
Кельн,
Музей Валлраф-Рихартц-Людвиг; «Владения
Арнхейма»
(по Эдгару По), 1938, частное собрание;
«Хвала
диалектике», 1936, частное собрание; «Кани-
кулы Гегеля», 1958, частное собрание).
В
1940-х
Магрит сделал две попытки изменить
свою манеру. Однако т. н. «стиль плен солей» («сол-
нечный» или «ренуаровский»,
1945—47)
и последо-
вавший за ним «вульгарный
стиль»
(1947—48)
не при-
вели к плодотворным результатам, и художник
вернулся к прежнему
методу.
Магрит создал два фресковых цикла: «Очарован-
ное царство» для казино в Кнокке-ле-Зут
(1953)
и
-Невежественная фея» для Дворца искусств в Шар-
леруа
(1957). В этих монументальных композициях
повторяются мотивы его станковых произведений.
В скульптуре Магрит дублировал образы своей жи-
вописи,
продолжая развивать
тему
соотношения мен-
тальной и материальной реальностей.
Лит.:
Ноэль
Б. Магритт. М., 1995;
Waldberg
P. Rene
Magritte.
Bruxelles, 1965;
Gablik
S. Magritte. London, 1970;
FoucaultM.
Ceci n'estpasunepipe. Monpellier,
l913\Scutenaire
L.
Avec
Magritte. Bruxelles, 1977.
B.K.
МАЗАЧЧО
(Masaccio), наст, имя Томазо ди сер Джо-
ванни
ди Моне Кассаи. 1401,
Кастелло
Сан
Джован-
ни
Валъдарно
— 1428, Рим. Итальянский художник.
Мастер флорентийской школы. В 1422 вступил в цех
флорентийских художников. Работал во Флоренции.
Ряд
работ выполнил в содружестве с
Мазолино.
В 1428
выехал вслед за Мазолино в Рим, где внезапно умер.
Творческая деятельность Мазаччо, продолжав-
шаяся
около шести лет, занимает важнейшее место
в
истории не только итальянской, но и всей запад-
ноевропейской живописи. Наряду с архитектором
Брунеллески и скульптором Донателло Мазаччо яв-
ляется основоположником искусства Раннего Воз-
рождения, утвердившим в живописи новые эстети-
ческие представления о мире и человеке, новые
изобразительные принципы. Становление Мазаччо
как
художника протекало в обстановке мощного об-
щественного и культурного подъема во Флоренции,
широкого распространения гуманистических идей,
формирования
ренессансных художественных
прин-
ципов
в архитектуре и скульптуре. Работы Мазаччо
свидетельствуют о том, что он изучал росписи
Джот-
то, проявлял интерес к работам своих современни-
ков-скульпторов, был знаком с архитектурными иде-
ями
Брунеллески и разработанными последним
принципами
линейной перспективы. Существует
предположение, что он мог ок. 1423 посетить Рим и
познакомиться там с росписями Каваллини. Само-
бытность, независимость и цельность художествен-
ной
натуры Мазаччо проявилась в его равнодушии к
традициям поздней готики, еще господствовавшим
в
живописи Флоренции начала
1420-х.
Характер творчества Мазаччо определился уже в
его алтарных композициях — «Мадонне со св. Ан-
ной» (ок. 1424, Флоренция, Уффици; фигуры анге-
лов написаны Мазолино) и ныне разрозненном Пи-
занском
полиптихе (1426; сохранившиеся части:
«Мадонна с младенцем», Лондон, Нац. галерея; «Рас-
пятие», Неаполь, Нац. галереи Каподимонте; «Св.
Павел», Пиза, Нац. музей Сан Маттео; «Св.
Авгус-
тин», «Св. Иероним», два неизвестных святых, три
пределлы — Берлин, Гос. музеи). Традиционные зо-
лотые фоны подчеркивают в этих алтарях необыч-
ную для Италии
1420-х
мощь и широту живописно-
го письма Мазаччо, пластическую энергию лепки
форм,
их обобщенность, простоту и величие облика
персонажей.
Новаторство Мазаччо особенно полно раскры-
лось в его фресковых росписях в капелле Бранкаччи
(ок.
1427—28,
Флоренция, церковь Санта Мария дель
Кармине),
посвященных истории апостола Петра.
По-видимому, первоначально заказ был получен
Мазолино,
окончившим к 1425 росписи сводов (не
сохр.). Ок. 1427 работы были возобновлены с учас-
тием Мазаччо, написавшего 6 композиций на левой
и
алтарной стенах (ок.
1427—28);
Мазолино выпол-
нил
только 3 композиции,
уехав
в конце 1427 в Рим,
куда
вслед за ним в 1428
уехал
и Мазаччо. Роспись
капеллы была завершена только в начале
1480-х
Фи-
липпино
Липпи, который закончил фреску Мазач-
чо «Исцеление сына Теофила» и написал 3 заключи-
тельные сцены истории св. Петра.
Фрески
Мазаччо в капелле Бранкаччи занимают
важнейшее место в искусстве итальянского Раннего
Возрождения, не имеют себе равных по заключен-
ному в них
могучему
дыханию жизни, повышенной
достоверности изображенного художником мира.
Этот мир полон драматической энергии, наделен
библейской первозданностью и приметами современ-
ного художнику сурового облика Флоренции. Его
персонажи обладают не только свойственным искус-
ству
Возрождения нравственным величием, но и не-
повторимой яркостью облика, силой
духа
и характе-
ра. Мазаччо трактует облик созданного им мира с
монументальной обобщенностью и необычной для
живописи 15 в. мощью живописного языка.
Худож-
ник
не прорисовывает формы, а лепит их свободно
наложенными мазками, сохраняющими следы
17 Зак. 5100.
257
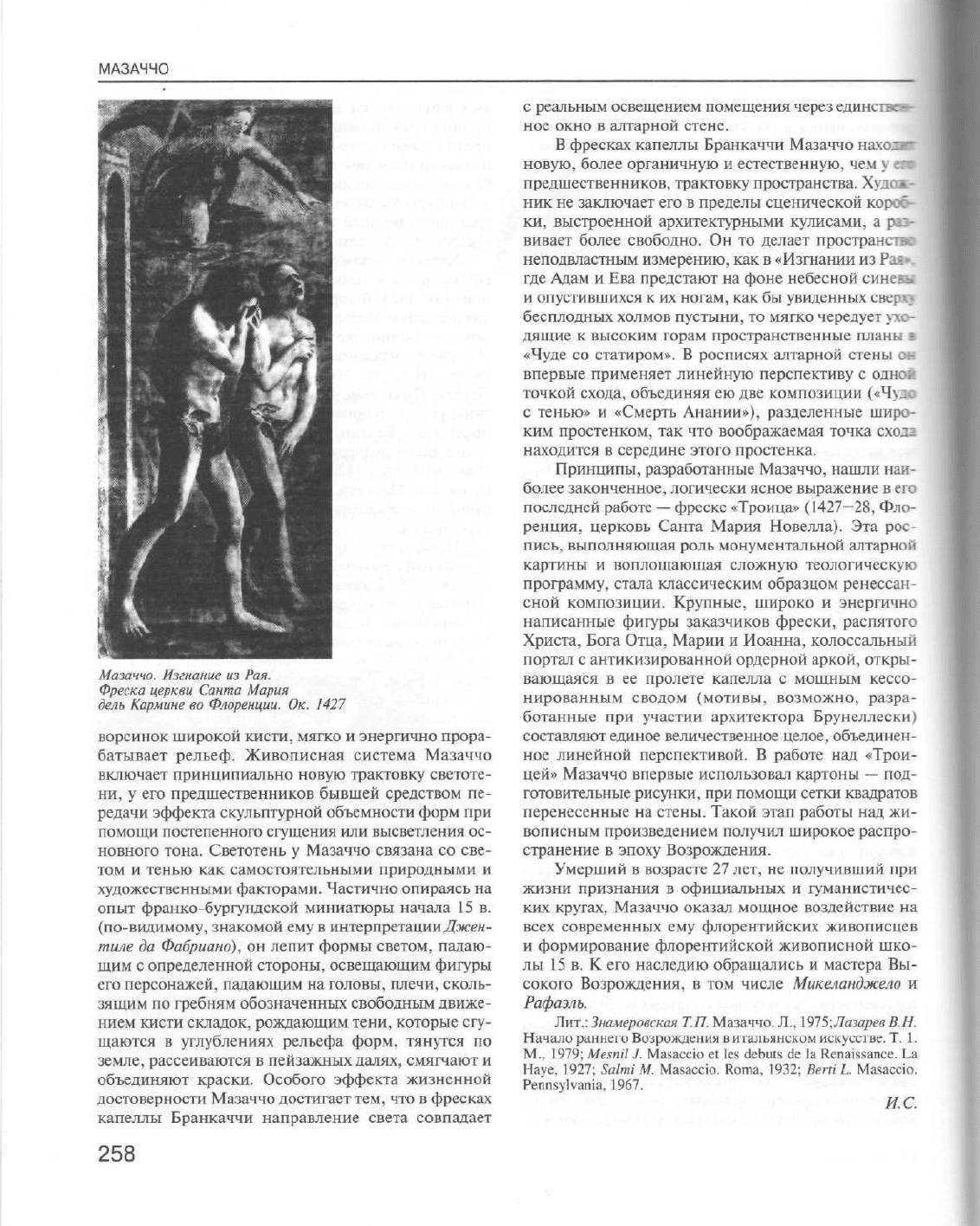
МАЗАЧЧО
Мазаччо.
Изгнание
из Рая.
Фреска
церкви
Санта
Мария
дель
Кармине
во
Флоренции.
Ок. 1427
ворсинок
широкой кисти, мягко и энергично прора-
батывает рельеф. Живописная система Мазаччо
включает принципиально новую трактовку светоте-
ни,
у его предшественников бывшей средством пе-
редачи эффекта скульптурной объемности форм при
помощи
постепенного сгущения или высветления ос-
новного тона. Светотень у Мазаччо связана со све-
том и тенью как самостоятельными природными и
художественными факторами. Частично опираясь на
опыт франко-бургундской миниатюры начала 15 в.
(по-видимому, знакомой ему в интерпретации
Джен-
тиле
да
Фабриано),
он лепит формы светом, падаю-
щим
с определенной стороны, освешающим фигуры
его персонажей, падающим на головы, плечи, сколь-
зящим
по гребням обозначенных свободным движе-
нием
кисти складок, рождающим тени, которые сгу-
щаются в
углублениях
рельефа форм, тянутся по
земле, рассеиваются в пейзажных
далях,
смягчают и
объединяют краски. Особого эффекта жизненной
достоверности Мазаччо достигает тем, что в фресках
капеллы Бранкаччи направление света совпадает
с реальным освещением помещения через единстве-
ное окно в алтарной стене.
В фресках капеллы Бранкаччи Мазаччо нахо.
новую, более органичную и естественную, чем у егт
предшественников, трактовку пространства.
Худож-
ник
не заключает его в пределы сценической короб-
ки,
выстроенной архитектурными кулисами, а раз-
вивает более свободно. Он то
делает
пространств:
неподвластным измерению, как в «Изгнании из Рая».
где
Адам
и Ева предстают на фоне небесной синева
и
опустившихся к их ногам, как бы увиденных
сверх?
бесплодных холмов пустыни, то мягко
чередует
ухо-
дящие к высоким горам пространственные планы ъ
«Чуде
со статиром». В росписях алтарной стены он
впервые применяет линейную перспективу с одно*
точкой
схода,
объединяя ею две композиции
(«Чуде
с
тенью»
и «Смерть Анании»), разделенные широ-
ким
простенком, так что воображаемая точка
схол^
находится в середине этого простенка.
Принципы,
разработанные Мазаччо, нашли наи-
более законченное, логически ясное выражение в его
последней работе — фреске
«Троица»
(1427—28,
Фло-
ренция,
церковь Санта Мария Новелла). Эта рос-
пись,
выполняющая роль монументальной алтарной
картины и воплощающая сложную теологическую
программу, стала классическим образцом ренессан-
сной
композиции. Крупные, широко и энергично
написанные
фигуры заказчиков фрески, распятого
Христа, Бога Отца, Марии и Иоанна, колоссальный
портал с антикизированной ордерной аркой, откры-
вающаяся в ее пролете капелла с мощным кессо-
нированным
сводом (мотивы, возможно, разра-
ботанные при участии архитектора Брунеллески)
составляют единое величественное целое, объединен-
ное линейной перспективой. В работе над «Трои-
цей»
Мазаччо впервые использовал картоны —- под-
готовительные рисунки, при помощи сетки квадратов
перенесенные на стены. Такой этап работы над жи-
вописным произведением получил широкое распро-
странение в эпоху Возрождения.
Умерший в возрасте 27 лет, не получивший при
жизни
признания в официальных и гуманистичес-
ких
кругах,
Мазаччо оказал мощное воздействие на
всех
современных ему флорентийских живописцев
и
формирование флорентийской живописной шко-
лы 15 в. К его наследию обращались и мастера Вы-
сокого Возрождения, в том числе
Микеланджело
и
Рафаэль.
Лит..3намеровская
Т.П. Мазаччо. Л.,
1975\ЛазаревВ.Я.
Начало
раннего Возрождения в итальянском искусстве. Т. 1.
М., 1979;
Mesnil
J. Masaccio et les debuts de la Renaissance. La
Haye, 1927; Salmi M. Masaccio. Roma, 1932;
Bern
L. Masaccio.
Pennsylvania, 1967.
И.С.
258
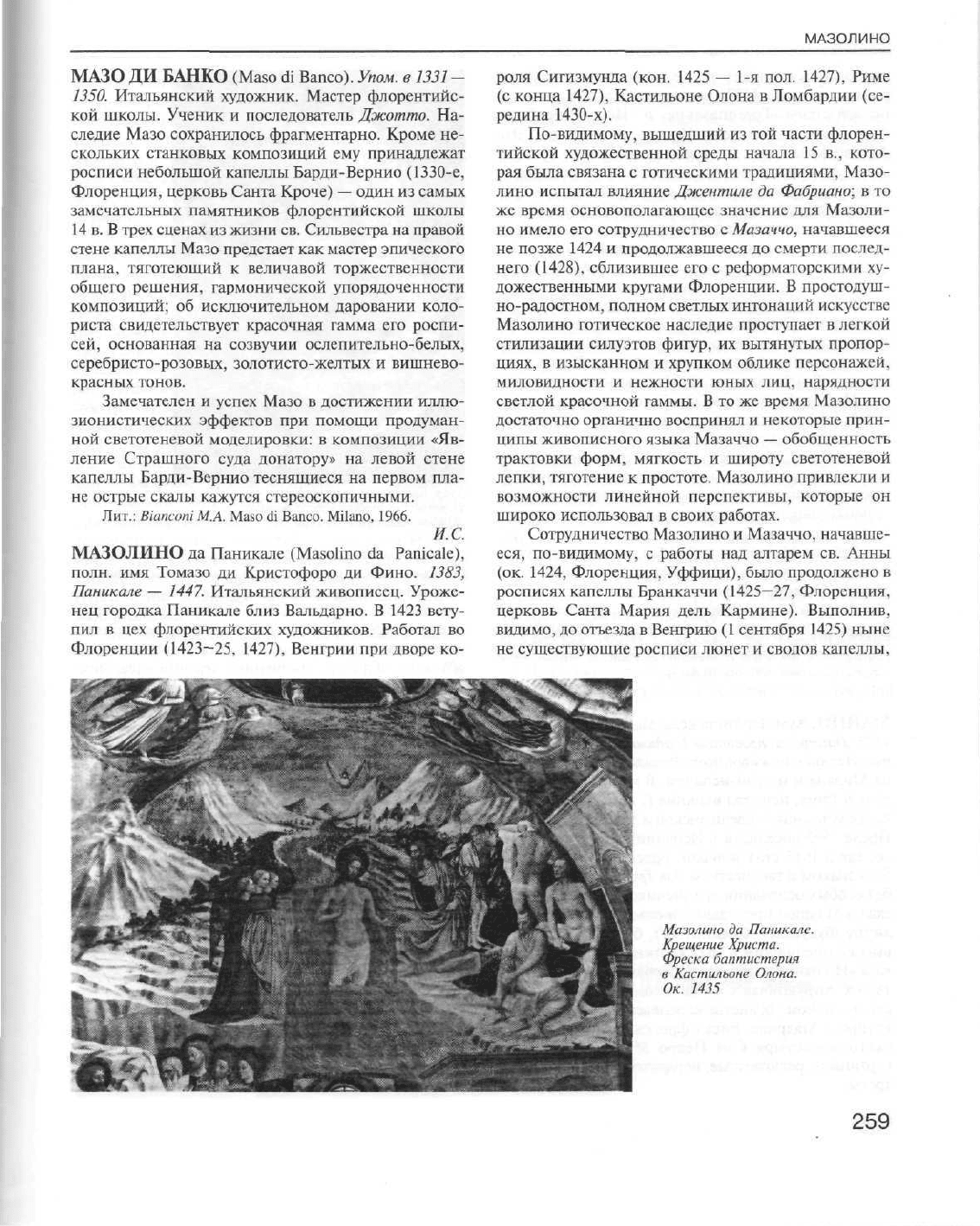
МАЗОЛИНО
МАЗО
ДИ
БАНКО
(Maso di Banco).
Упом.
в 1331-
1350. Итальянский художник. Мастер флорентийс-
кой
школы. Ученик и последователь
Джотто.
На-
следие Мазо сохранилось фрагментарно. Кроме не-
скольких станковых композиций ему принадлежат
росписи небольшой капеллы Барди-Вернио (1330-е,
Флоренция,
церковь Санта Кроче) — один из самых
замечательных памятников флорентийской школы
14 в. В
трех
сценах из жизни св. Сильвестра на правой
стене капеллы Мазо предстает как мастер эпического
плана, тяготеющий к величавой торжественности
общего решения, гармонической упорядоченности
композиций;
об исключительном даровании коло-
риста свидетельствует красочная гамма его роспи-
сей,
основанная на созвучии ослепительно-белых,
серебристо-розовых, золоти сто-желтых и вишнево-
красных тонов.
Замечателен и
успех
Мазо в достижении иллю-
зионистических эффектов при помощи продуман-
ной
светотеневой моделировки: в композиции «Яв-
ление Страшного
суда
донатору»
на левой стене
капеллы Барди-Вернио теснящиеся на первом пла-
не
острые скалы кажутся стереоскопичными.
Лит.:
Bianconi
M.A. Maso di Banco. Milano, 1966.
КС.
МАЗОЛИНО
да Паникале (Masolino da Panicale),
полн.
имя Томазо ди Кристофоро ди
Фино.
1383,
Паникале — 1447. Итальянский живописец. Уроже-
нец
городка Паникале близ Вальдарно. В 1423
всту-
пил
в цех флорентийских художников. Работал во
Флоренции
(1423-25, 1427), Венгрии при дворе ко-
роля Сигизмунда (кон. 1425 — 1-я пол. 1427), Риме
(с
конца 1427), Кастильоне Олона в Ломбардии (се-
редина
1430-х).
По-видимому, вышедший из той части флорен-
тийской
художественной среды начала 15 в., кото-
рая была связана с готическими традициями, Мазо-
лино
испытал влияние
Джентше
да
Фабриано;
в то
же время основополагающее значение для Мазоли-
но
имело его сотрудничество с
Мазаччо,
начавшееся
не
позже 1424 и продолжавшееся до смерти послед-
него (1428), сблизившее его с реформаторскими ху-
дожественными кругами Флоренции. В простодуш-
но-радостном, полном светлых интонаций искусстве
Мазолино готическое наследие проступает в легкой
стилизации силуэтов фигур, их вытянутых пропор-
циях, в изысканном и хрупком облике персонажей,
миловидности и нежности юных лиц, нарядности
светлой красочной гаммы. В то же время Мазолино
достаточно органично воспринял и некоторые прин-
ципы
живописного языка Мазаччо — обобщенность
трактовки форм, мягкость и широту светотеневой
лепки,
тяготение к простоте. Мазолино привлекли и
возможности линейной перспективы, которые он
широко
использовал в своих работах.
Сотрудничество Мазолино и Мазаччо, начавше-
еся,
по-видимому, с работы над алтарем св. Анны
(ок.
1424, Флоренция, Уффици), было продолжено в
росписях капеллы Бранкаччи
(1425-27,
Флоренция,
церковь Санта Мария дель Кармине). Выполнив,
видимо, до отъезда в Венгрию (1 сентября 1425) ныне
не
существующие росписи люнет и сводов капеллы,
Мазолино да Паникале.
Крещение
Христа.
Фреска
баптистерия
в
Кастильоне
Олона.
Ок. 1435
259
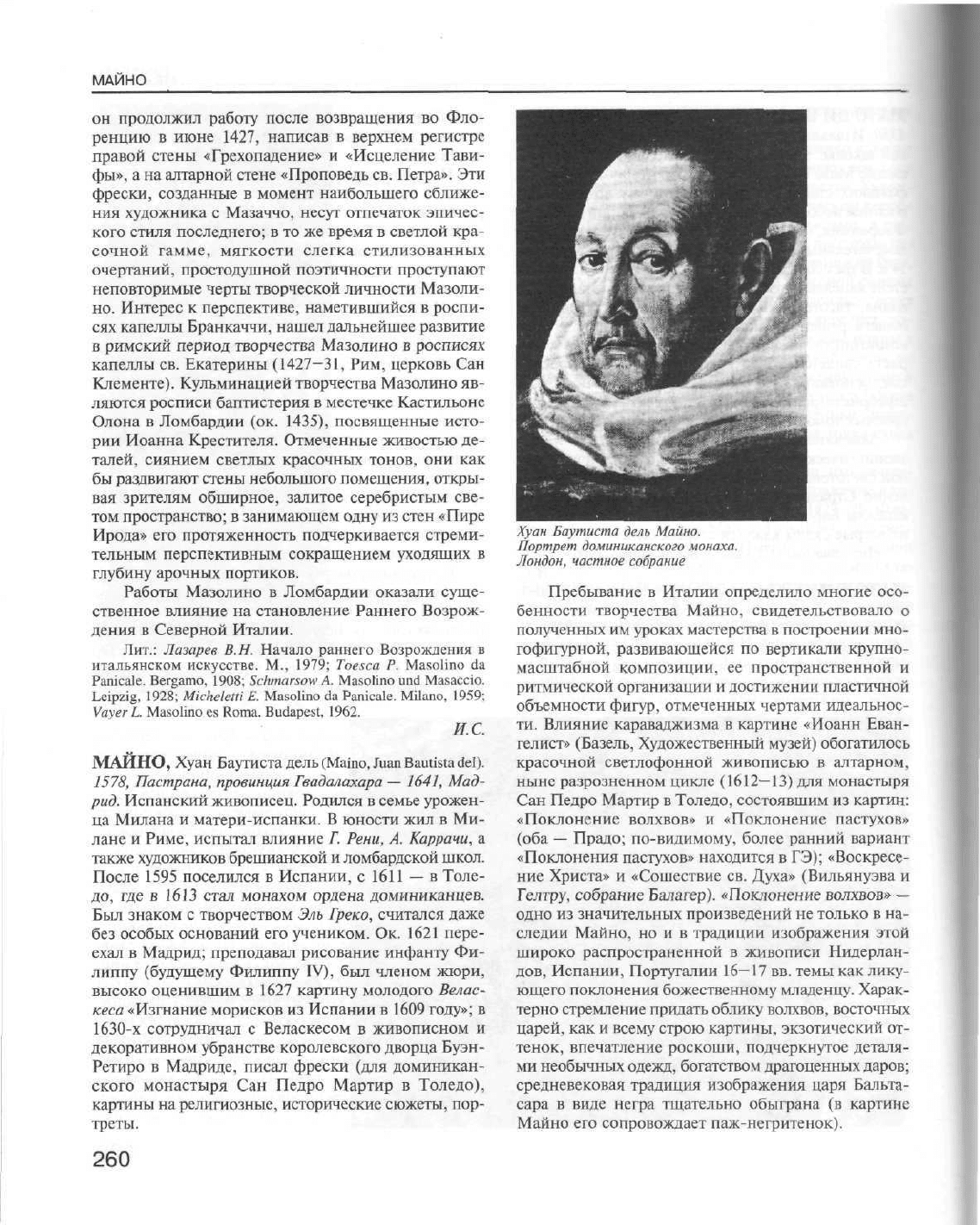
МАЙНО
он
продолжил работу после возвращения во Фло-
ренцию в июне 1427, написав в верхнем регистре
правой стены
«Грехопадение»
и «Исцеление Тави-
фы», а на алтарной стене «Проповедь св. Петра». Эти
фрески,
созданные в момент наибольшего сближе-
ния
художника с Мазаччо, несут отпечаток эпичес-
кого стиля последнего; в то же время в светлой кра-
сочной гамме, мягкости слегка стилизованных
очертаний, простодушной поэтичности проступают
неповторимые черты творческой личности Мазоли-
но.
Интерес к перспективе, наметившийся в роспи-
сях капеллы Бранкаччи, нашел дальнейшее развитие
в
римский период творчества Мазолино в росписях
капеллы св. Екатерины (1427—31, Рим, церковь Сан
Клементе).
Кульминацией творчества Мазолино яв-
ляются росписи баптистерия в местечке Кастильоне
Олона в Ломбардии (ок. 1435), посвященные исто-
рии
Иоанна Крестителя. Отмеченные живостью де-
талей, сиянием светлых красочных тонов, они как
бы раздвигают стены небольшого помещения, откры-
вая зрителям обширное, залитое серебристым све-
том пространство; в занимающем одну из стен «Пире
Ирода» его протяженность подчеркивается стреми-
тельным перспективным сокращением уходящих в
глубину арочных портиков.
Работы Мазолино в Ломбардии оказали суще-
ственное влияние на становление Раннего Возрож-
дения в Северной Италии.
Лит.:
Лазарев
В.Н. Начало раннего Возрождения в
итальянском
искусстве. М., 1979;
Toesca
P. Masolino da
Panicale.
Bergamo, 1908;
Schmarsow
A. Masotino und Masaccio.
Leipzig, 1928;
Micheletti
E. Masoiino da Panicale. Milano, 1959:
Vayer
L.
Masolino es Roma. Budapest, 1962.
И.С.
МАИНО,
Хуан
Баутиста дель
(Maino,
Juan Bautista del).
1578,
Пастрана,
провинция
Гвадалахара
— 1641, Мад-
рид. Испанский живописец. Родился в семье урожен-
ца Милана и матери-испанки. В юности жил в Ми-
лане и Риме, испытал влияние Г.
Рени,
А.
Каррачи,
а
также художников брешианской и ломбардской школ.
После 1595 поселился в Испании, с 1611 — в Толе-
до, где в 1613 стал монахом ордена доминиканцев.
Был
знаком с творчеством Эль
Греко,
считался
даже
без особых оснований его учеником. Ок. 1621 пере-
ехал
в Мадрид; преподавал рисование инфанту Фи-
липпу
(будущему
Филиппу IV), был членом жюри,
высоко оценившим в 1627 картину молодого
Велас-
кеса
«Изгнание морисков из Испании в 1609
году»;
в
1630-х
сотрудничал с Веласкесом в живописном и
декоративном убранстве королевского дворца Буэн-
Ретиро в Мадриде, писал фрески (для доминикан-
ского монастыря Сан Педро Мартир в Толедо),
картины на религиозные, исторические сюжеты, пор-
треты.
Хуан
Баутиста
дель
Майно.
Портрет
доминиканского
монаха.
Лондон,
частное
собрание
Пребывание в Италии определило многие осо-
бенности творчества Майно, свидетельствовало о
полученных им уроках мастерства в построении мно-
гофигурной, развивающейся по вертикали крупно-
масштабной композиции, ее пространственной и
ритмической организации и достижении пластичной
объемности фигур, отмеченных чертами идеальнос-
ти.
Влияние караваджизма в картине «Иоанн Еван-
гелист»
(Базель, Художественный музей) обогатилось
красочной светлофонной живописью в алтарном,
ныне
разрозненном цикле
(1612—13)
для монастыря
Сан
Педро Мартир в Толедо, состоявшим из картин:
«Поклонение
волхвов»
и «Поклонение
пастухов»
(оба — Прадо; по-видимому, более ранний вариант
«Поклонения
пастухов»
находится в ГЭ); «Воскресе-
ние
Христа»
и «Сошествие св.
Духа»
(Вильянуэва и
Гелтру,
собрание Балагер). «Поклонение
волхвов»
—
одно из значительных произведений не только в на-
следии Майно, но и в традиции изображения этой
широко
распространенной в живописи Нидерлан-
дов, Испании, Португалии 16—17 вв. темы как лику-
ющего поклонения божественному младенцу. Харак-
терно стремление придать облику волхвов, восточных
царей, как и всему строю картины, экзотический от-
тенок, впечатление роскоши, подчеркнутое деталя-
ми
необычных одежд, богатством драгоценных даров;
средневековая традиция изображения царя Бальта-
сара в виде негра тщательно обыграна (в картине
Майно
его сопровождает паж-негритенок).
260
