Тузов Д.О. Теория недействительности сделок. Опыт российского права в контексте европейской правовой традиции
Подождите немного. Документ загружается.

Исходным пунктом данной теории, подобно тому как это было в теории Шлоссмана,
стала критика главной идеи, на которую опиралась традиционная доктрина, - идеи
порочности акта как его объективного свойства. Эта идея как бы уподобляла сделку
живому организму, перенося на нее естественные качества последнего: действительная
сделка считалась здоровым организмом, ничтожная - мертворожденным, а оспоримая
рассматривалась как больной организм, которому суждено либо погибнуть (в случае
эффективного оспаривания), либо выздороветь, исцелиться (при отпадении права
оспаривания вследствие подтверждения сделки или истечения давности) <241>.
--------------------------------
<241> Изображение форм порочности юридической сделки в подобных
"медицинских" терминах см., напр.: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М.:
Бек, 2000. С. 80 и сл.
По мнению критиков классического учения, идея акта-организма не имеет под собой
реальной почвы, поскольку распространяет на правовой порядок понятия, к нему
неприменимые, такие, как жизнь, смерть, болезнь, выздоровление <242>. Отвергая в связи
с этим традиционное представление о порочности как объективном качестве сделки,
Жапьо и Годэмэ предлагали рассматривать ее как санкцию за нарушение закона,
выражающуюся в реализации предоставленного тем или иным лицам права оспаривания.
Характер этой санкции зависит от того, какую цель преследует нарушенная сделкой
правовая норма. Если она направлена на защиту общего интереса, то право оспаривания
предоставляется любому заинтересованному лицу, если же частного - только тому, чей
интерес нормой охраняется <243>.
--------------------------------
<242> См.: Годэмэ Е. Указ. соч. С. 153.
<243> См.: Там же. С. 154, 175. Но в обоих случаях круг управомоченных лиц
колеблется в зависимости от конкретного основания оспаривания. По этому признаку
Годэмэ выделял десять разновидностей недействительности - по пять для каждого из двух
ее видов (Там же. С. 175 - 178).
Однако если бы теория права оспаривания ограничивалась только этим, она бы мало
чем отличалась от классического учения, согласно которому круг лиц, имеющих право
ссылаться на ничтожность, также не совпадает с кругом лиц, управомоченных требовать
аннулирования оспоримой сделки. Все дело в том, что круг субъектов права оспаривания
рассматривался в данной теории как единственное различие двух видов порочных сделок -
абсолютно недействительных и относительно недействительных, согласно используемой
авторами терминологии <244>. Никакой другой разницы между этими сделками не
проводилось: "...нет различия a priori между двумя категориями недействительности", -
подчеркивал Годэмэ <245>.
--------------------------------
<244> Следуя этой терминологии, далее сохраняются используемые авторами
термины "недействительный", "недействительность" вместо "порочный", "порочность".
<245> Там же. С. 155.
Таким образом, вопрос о необходимости оспаривания, центральный в традиционной
доктрине, с точки зрения Жапьо и Годэмэ не имеет классификационного значения:
оспаривание любых сделок, по их мнению, осуществляется одинаково. Но в чем состоит
юридическое значение оспаривания и каков его механизм - в этом взгляды авторов
разделились.
По мнению Жапьо, недействительность акта, как абсолютная, так и относительная,
означает, что в отношениях между заинтересованными лицами акта просто нет, что он -
юридический "нуль" и, следовательно, не вызывает никаких правовых последствий.
Поэтому какого-либо специального иска о признании такого акта недействительным не
существует. Реализовать право оспаривания, требовать признания акта недействительным
- значит добиваться судебной защиты тех прав, которые данный акт уничтожил бы или
видоизменил, если бы имел юридическую силу. Например, оспаривание
недействительного, но исполненного сторонами договора купли-продажи будет состоять в
предъявлении продавцом виндикационного иска о возврате товара из незаконного
владения покупателя (даже если этот договор является оспоримым согласно
традиционной терминологии). Точно так же оспаривание недействительного прощения
долга будет выражаться в предъявлении основанного на соответствующем обязательстве
иска об уплате этого долга <246>.
--------------------------------
<246> См.: Japiot R. Des nullites en matiere d'actes juridiques. Essai d'une theorie
nouvelle. Paris, 1909. 121 s. (Ввиду недоступности данной работы, здесь и далее она
цитируется по указ. соч. Годэмэ, с. 157 и сл.)
Совершенно по-иному понимал недействительность Годэмэ. Он исходил из того, что
в подавляющем большинстве случаев, как при абсолютной, так и при относительной
недействительности, имеется внешняя видимость акта и его правовых последствий. Но
даже при абсолютной недействительности видимость эта не есть пустая форма, которую
каждый вправе игнорировать. "...Акт существует, по крайней мере, по внешности. Он
ПРОИЗВОДИТ ДЕЙСТВИЕ" <247> (выделено мной. - Д.Т.). Уничтожить это действие, по
мнению Годэмэ, может только суд. "Взять хотя бы акт, недействительный ввиду
незаконности его основания, - рассуждает автор, - в этом случае недействительность
абсолютная. Но допустимо ли, чтобы акт считался несуществующим без судебного
решения? <...> Точно так же, если акту не хватает существенного элемента фактического
состава, но имеется тем не менее внешнее существование... потребуется судебный иск для
того, чтобы эту видимость уничтожить" <248>. Лишь в тех случаях, когда отсутствует
даже видимость акта (например, стороны не пришли к соглашению), иска о
недействительности и судебного решения не требуется. "Таким образом, - заключает
Годэмэ, - мы приходим к необходимости иска, если есть видимость акта... Предъявление
иска вызывается существованием выражения воли" <249>. Иск "необходим не только в
случае порока соглашения и недееспособности <250>, но и во всех случаях абсолютной
недействительности в классическом смысле, где имеется, по крайней мере, видимость
акта, подлежащего уничтожению" <251>.
--------------------------------
<247> Годэмэ Е. Указ. соч. С. 169.
<248> Там же. С. 156 и сл.
<249> Там же. С. 157.
<250> То есть в случаях оспоримости сделок по французскому гражданскому праву
(art. 1117, 1125 Code civil).
<251> Годэмэ Е. Указ. соч. С. 158.
Иными словами, недействительность, с точки зрения Годэмэ, в большинстве случаев
наступает только в результате оспаривания, поэтому иск о недействительности имеет
вполне самостоятельное и притом преобразовательное значение: он направлен "на
уничтожение договора, породившего обязательства" <252>. Но даже при абсолютной
недействительности право оспаривания, как полагал автор, не действует в отношении всех
и каждого: бывают лица, против которых его осуществление невозможно (например,
третьи лица, добросовестно приобретшие имущество у участника недействительной
сделки). Даже при абсолютной недействительности право оспаривания подлежит
давности и может прекратиться подтверждением акта <253>. В этих положениях находит
наиболее рельефное выражение основная идея теории права оспаривания - идея
недействительности как санкции за нарушение правовой нормы, а не как объективного
качества сделки. Эта санкция, по мнению Годэмэ, не действует "автоматически"; для ее
реализации необходимы иск и судебное решение.
--------------------------------
<252> Там же.
<253> Там же. С. 178 - 195.
Анализируя концепции Жапьо и Годэмэ, можно сделать вывод, что главное различие
между ними сводится к неодинаковому пониманию природы недействительности. Обе
концепции в равной мере отрицают классическое деление порочных сделок на ничтожные
и оспоримые, однако если Жапьо представлял недействительность как отсутствие
правового эффекта (по сути, как ничтожность, но действующую иногда в отношении
строго определенных лиц), то Годэмэ, напротив, рассматривал ее как условное
наступление юридических последствий, подлежащих уничтожению в судебном порядке
(т.е. как оспоримость, согласно традиционной терминологии). При этом оба автора имели
в виду недействительность как абсолютную, так и относительную, поскольку это деление,
сохранившееся в теории права оспаривания, теперь имело значение только для
определения круга лиц, управомоченных заявлять требование о недействительности
сделки.
Именно в данном моменте концепция Жапьо представляется наиболее уязвимой.
Получается, что при относительной недействительности сделка имеет полную
юридическую силу для одних лиц и недействительна, причем с момента своего
совершения, для других. Вообще, подобная конструкция известна гражданскому праву,
хотя в современном российском законодательстве не используется. Это относительная
недействительность (или относительная ничтожность) в узком смысле, которую не
следует смешивать с оспоримостью. Оспоримые сделки, будучи вначале
действительными, после аннулирования становятся недействительными абсолютно, в
отношении всех и каждого. Относительно недействительные (ничтожные) сделки
изначально не имеют силы в отношении конкретных заинтересованных лиц, в сделке не
участвовавших; для всех же остальных, в том числе для контрагентов, они полностью
действительны <254>. В германском праве таковы, например, сделки по распоряжению
имуществом в нарушение запрета на его отчуждение, установленного для защиты
интересов определенного лица (§ 135, 136 BGB). По мнению Л. Эннекцеруса, в таких
случаях "закон употребляет юридическую фигуру фикции; но в этом не заключается
никакого логического противоречия..." <255>. Хотя в последней части данное
утверждение представляется достаточно спорным <256>, отрицать существование в
гражданском праве категории относительной недействительности нельзя. Однако одно
дело устанавливать подобную фикцию в отношении третьих лиц, как это имеет место при
относительной недействительности в указанном смысле, и совсем другое - устанавливать
ее в отношении одной из сторон сделки, как следует из теории Жапьо. Трудно
представить, каким образом сделка может быть действительной для одной стороны и в то
же самое время недействительной для другой, а права и обязанности - считаться
возникшими для одного участника и не возникшими для другого.
--------------------------------
<254> См., напр.: Musielak H.-J. Op. cit. § 5(6). S. 124; Эннекцерус Л. Указ. соч. С.
309, сн. 12.
<255> Эннекцерус Л. Указ. соч. С. 309, сн. 12.
<256> Всесторонней критике концепцию относительной ничтожности (relative
Nichtigkeit) подверг в конце XIX в. Л. Миттайс (см.: Mitteis L. Op. cit. S. 107 f., 110 - 114,
116 f.), показывая, что по сути речь здесь должна идти не о ничтожности, а о
квалифицированной оспоримости. "Чистое понятие" ничтожности оказывается
"замутнено до такой степени, - писал он, - что снова и снова под него подводят случаи так
называемой относительной ничтожности, вследствие чего это понятие противоречит
самому себе и в большей части критерии ничтожности становятся неверными по
отношению к представляемому таким образом понятию" (Ibid. S. 107). "Поскольку... эта
(относительно ничтожная. - Д.Т.) сделка до соответствующего изъявления производит
весь свой эффект ex officio и для судьи, она как раз не ничтожна. Поэтому относительная
ничтожность противоречит сама себе..."; в данном случае "до опровержения нет никакого
неопределенного состояния, а сделка производит эффект, который впоследствии лишь
отменяется ex tunc" (S. 108); "до оспаривания и без такового она обладает полной
жизнеспособностью" (S. 114). "Уже беглый взгляд... показывает, что схема ничтожности,
как она сегодня очерчена, не соответствует логическому понятию ничтожности -
единственному существующему здесь прочному стержню, совершенно неподобающим
образом охватывая относительную ничтожность..." (S. 111). Благодаря признанию фигуры
относительной ничтожности учение о порочности сделок "становится бесполезно
сложным" (S. 165). "...Логически более корректным было бы говорить здесь просто об
оспоримости (Anfechtbarkeit). Понятию ничтожности противоречит, когда сделка до
какого-либо определенного момента существует, и только потом - пусть даже и ex tunc -
разрушается" (S. 113). "Полное научное основание имеет лишь такое понимание
ничтожности, которое исключает" всякое действие сделки; если же "в каком-либо
отношении, будь то в субъектном ограничении оспаривания, будь то в необходимости
формального процесса об уничтожении, сделка способна выражать известную реакцию,
она более уже не является ничтожной, против нее должно быть учинено оспаривание" (S.
117). В отечественной цивилистике против идеи относительной недействительности в
изложенном выше общепринятом понимании этого термина высказывался, в частности,
Д.М. Генкин, полагая что относительно недействительные сделки на самом деле
полностью действительны, в том числе и для тех, в отношении кого закон устанавливает
их недействительность, - кредиторов стороны сделки. Другое дело, что у кредитора в
связи с совершением такой сделки появляется, по мнению Д.М. Генкина, особое право
требования, направленное на устранение невыгодных для него последствий
распорядительных действий должника (см.: Генкин Д.М. Указ. соч. С. 227 и сл.). Здесь нет
возможности останавливаться на этом вопросе более подробно. При характеристике
относительной недействительности использован наиболее распространенный взгляд,
основанный на буквальном толковании данного термина.
Не меньшие возражения вызывает концепция Годэмэ, согласно которой любой
недействительный акт, даже явно противоречащий закону, порождает те правовые
последствия, на которые он был направлен, пока какое-нибудь заинтересованное лицо,
будь то частный субъект или орган публичной власти, не воспользуется предоставленным
ему правом оспаривания и не опровергнет этот акт в суде. По существу, данная концепция
связывает правовые последствия исключительно с фактом выражения воли,
безотносительно к тому, были ли соблюдены требования закона. Но закон, очевидно,
вступил бы в противоречие с самим собой, если бы допускал возникновение прав и
обязанностей, несмотря на нарушение условий, им же самим для этого установленных
<257>.
--------------------------------
<257> В современных правопорядках практически не встречается норм, подобных
римским leges minus quam perfectae et imperfectae, нарушение которых не приводило к
недействительности акта, а влекло лишь наказание нарушителей (чаще всего штрафом)
или же вообще оставалось без последствий (подробнее см. ниже, § 29). Современные
законы, напротив, в качестве общего правила объявляют ничтожной всякую сделку,
совершенную с нарушением установленных требований (см., напр.: Art. 1108, 1131, 1133
Code civil, art. 1418 Codice civile, § 134 BGB, ст. 168 ГК РФ).
Правда, Годэмэ говорит лишь о ВИДИМОСТИ акта и его правовых последствий.
Однако эту "внешнюю видимость" он, по сути, приравнивает к реальному
существованию, утверждая, что недействительный акт "ПРОИЗВОДИТ ДЕЙСТВИЕ", что
"к недействительности ПРИХОДЯТ посредством права оспаривания" <258> (выделено
мной. - Д.Т.). Между тем видимость, какую бы иллюзию реальности она ни создавала,
остается только видимостью, не более. Суд может ее рассеять, но он не в состоянии
уничтожить то, чего никогда не было. Поэтому в утверждении, что пороки сделки не
приводят к недействительности без судебного о том решения, по замечанию самого же
Годэмэ, высказанному в связи с критикой учения о несуществующих (несостоявшихся)
актах, "заключается смешение доказательства и основания права: ...договор с точки
зрения закона - мертворожденный; нужно только это доказать" <259>. Целям такого
доказывания и служит декларативный иск о ничтожности сделки (негационный иск),
отличающийся по данному признаку от иска ресциссорного, направленного на
аннулирование оспоримой сделки и имеющего конститутивный характер. Правильно
отмечая самостоятельность исков о недействительности сделок, Годэмэ вместе с тем,
строго следуя своей теории, не разграничивал их и независимо от конкретного основания
недействительности рассматривал в качестве конститутивных.
--------------------------------
<258> Годэмэ Е. Указ. соч. С. 169, 178.
<259> Там же. С. 150 и сл.
Критикуя концепцию Жапьо, отрицавшего существование специальных исков о
недействительности, Годэмэ указывал, в частности, что она противоречит как текстам
закона, так и истории, ибо "иск о признании акта недействительным есть иск
самостоятельный, происходящий из римской restitutio in integrum..." <260>. Вместе с тем
не вполне соответствовала истории и концепция самого Годэмэ. Как уже отмечалось,
сфера действия преторской реституции ограничивалась строго определенными случаями,
когда правовые последствия тех или иных юридических фактов, с учетом конкретных
обстоятельств, противоречили справедливости. Реституция парализовала правовой эффект
таких фактов в плане ius honorarium, не затрагивая их формальной действительности с
точки зрения ius civile. Но некоторые пороки сделок, такие, как, например, незаконность
основания, совершение сделки умалишенным или малолетним, и др., приводили к
недействительности по нормам цивильного права, причем недействительность в этом
случае наступала изначально, без какого-либо преторского вмешательства. Однако для
такого рода сделок, ничтожных согласно традиционной терминологии, в системе Годэмэ
места не нашлось.
--------------------------------
<260> Там же. С. 157.
Что же касается постановлений французского законодательства, то в них, как
представляется, в большей мере отразилась классическая теория порочности. Так,
например, согласно уже цитированному art. 1117 Code civil "соглашение, заключенное
вследствие заблуждения, насилия или обмана, не является ничтожным в силу самого
закона; оно дает лишь основание для иска о ничтожности...". Хотя приведенное
положение имеет в виду только частный случай недействительности, оно не оставляет
сомнений в том, что французский кодекс различает недействительность в силу самого
закона и недействительность в силу судебного решения. Существование же некоторых
норм, необъяснимых с позиций классического учения и дающих почву для его критики,
само по себе еще недостаточно для тех выводов, которые делали Жапьо и Годэмэ,
отрицавшие указанное деление <261>.
--------------------------------
<261> В пользу позиции Годэмэ мог бы свидетельствовать уже упоминавшийся art.
1234 Code civil, называющий недействительность обязательств в числе оснований их
прекращения. Однако это положение обоснованно критиковалось самим автором (Указ.
соч. С. 169 и сл.).
Отечественная цивилистика в целом всегда придерживалась классической доктрины,
четко разграничивая понятия ничтожности и оспоримости <262>. Однако в последнее
время, особенно в связи с новой кодификацией гражданского права в странах бывшего
СССР, у теории "права оспаривания" появляются сторонники. Выступая с критикой
традиционного деления порочных сделок, они зачастую используют именно те
положения, которые были сформулированы в рамках данной теории.
--------------------------------
<262> Взгляды, близкие к изложенной концепции Годэмэ в части
"действительности" и необходимости судебного оспаривания актов, не соответствующих
закону, высказывал в советской доктрине проф. Я.М. Магазинер. Однако, в отличие от
Годэмэ, оспоримость незаконных актов он мыслил лишь как общее правило, из которого
возможны исключения в пользу ничтожности, четко разграничивая эти две формы
порочности (подробно см. ниже, § 29).
Так, например, в комментарии к принятому в 1994 г. Гражданскому кодексу
Республики Казахстан, который, в отличие от Модельного ГК для стран СНГ и ГК РФ,
прямо не закрепляет деление порочных сделок на ничтожные и оспоримые, указывается,
что "это деление имеет практическое значение лишь для определения того, КТО ВПРАВЕ
ТРЕБОВАТЬ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ - участник сделки, другое
заинтересованное частное лицо либо уполномоченный государственный орган. А об этом
специально сказано в статьях, определяющих конкретные основания недействительности"
<263> (выделено мной. - Д.Т.). Таким образом, различие между порочными сделками
проводится исключительно по признаку управомоченных на иск субъектов, в чем нельзя
не увидеть проявления главной идеи теории права оспаривания. "Дело... не в том, - писал
Ю.Г. Басин, - требуется или не требуется судебное признание недействительности сделки,
а в том, чьи интересы (частные или публичные) были нарушены при заключении сделки и,
следовательно, кто вправе обратиться в суд с соответствующим требованием" <264>. При
таком подходе остается, однако, открытым вопрос, какова будет судьба сделки, если
требование о признании ее недействительной никем не заявлено: имеет ли такая сделка
юридическую силу или же она не порождает правовых последствий, недействительна
изначально? Тот или иной вариант ответа на этот вопрос неизбежно приводит, по
существу, к признанию всех порочных сделок либо оспоримыми (Годэмэ), либо
ничтожными (Жапьо), однако ущербность как того, так и другого подхода уже показана
выше <265>.
--------------------------------
<263> Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий: В 2
кн. / Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. Кн. 1. Алматы: Жетi жаргы, 1997. С. 350 и
сл. (автор ком. к ст. 157 - Ю.Г. Басин).
<264> Гражданское право: Учебник для вузов (академический курс) / Отв. ред. М.К.
Сулейменов, Ю.Г. Басин. Т. I. Алматы, 2000. С. 282.
<265> Следует заметить, что на самом деле ГК Республики Казахстан, хотя и не
использует соответствующей терминологии, все же проводит различие между
ничтожными и оспоримыми сделками, поскольку в одних случаях указывает, что сделка
"недействительна" (п. 1 ст. 158, п. 1 - 3, 5 ст. 159, п. 1 ст. 160), а в других - что она "может
быть признана судом недействительной по иску" того или иного лица (п. 4, 6 - 11 ст. 159).
Отсутствие в ГК РК самих терминов "ничтожность" и "оспоримость" не имеет
существенного значения. Гражданские кодексы РСФСР 1922 и 1964 гг. также не знали
этих терминов, хотя деление порочных сделок на ничтожные и оспоримые ни у кого не
вызывало сомнений. Неоднозначно истолкована может быть лишь норма п. 1 ст. 157 ГК
РК, устанавливающая общее правило, согласно которому "при нарушении требований,
предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их
волеизъявления, сделка может быть признана недействительной по иску
заинтересованных лиц, надлежащего государственного органа или прокурора". Данное
положение может навести на мысль, будто все порочные сделки являются по ГК РК
оспоримыми. Такой вывод был бы, однако, ошибочным, ибо специальные нормы,
устанавливающие конкретные основания недействительности, в том числе вследствие
пороков воли, формы, субъектов и содержания, как было замечено, указывают либо на
ничтожность, либо на оспоримость соответствующих сделок.
§ 24. Вопросы терминологии
Негативное отношение к традиционному делению порочных сделок высказывается в
последнее время и в российской юридической литературе, хотя с принятием
Гражданского кодекса 1994 г. классическое учение о ничтожности и оспоримости нашло
официальное признание и достаточно последовательное выражение в нормах
отечественного законодательства.
Одним из главных объектов критики стала ст. 166 ГК, впервые закрепившая
легальное определение ничтожных и оспоримых сделок. Согласно этому определению
"сделка недействительна... в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо
независимо от такого признания (ничтожная сделка)". Данная формулировка, очень точно
и лаконично отразившая существо давно известных теоретических понятий, несмотря на
свою ясность и простоту, вызвала самые противоречивые толкования в юридической
литературе и судебной практике.
Начать с того, что была поставлена под сомнение обоснованность терминологии,
использованной Гражданским кодексом для обозначения двух видов порочных сделок.
Выше уже приводилось высказанное в юридической печати суждение, согласно которому
при формировании понятийного аппарата законодатель якобы отступил от правил
формальной логики и вследствие этого возникло противоречие: "...оспоримые сделки
являются действительными и одновременно одним из видов недействительных сделок"
<266>. Как уже было показано <267>, подобный вывод стал возможным благодаря тому,
что российская цивилистика не восприняла пандектное разграничение
недействительности и порочности сделки, вследствие чего автор цитированного суждения
невольно допустил подмену понятий: на самом деле ничтожность и оспоримость
представляют собой формы порочности, а не недействительности. Кроме того, даже из
буквального толкования п. 1 ст. 166 ГК следует лишь то, что оспоримая сделка может
стать недействительной исключительно в силу признания ее таковой судом, но не сама по
себе. О том, что она является видом недействительных сделок и при отсутствии судебного
решения, здесь не упоминается. Если такая сделка оспорена и аннулирована в судебном
порядке, она становится недействительной, однако при этом не превращается в
ничтожную, ибо ее недействительность наступает вследствие решения суда, а не
автоматически (хотя, как указывалось выше, в данном случае иногда говорят о
последующей ничтожности). Только тогда оспоримую (а точнее, уже оспоренную и
аннулированную) сделку можно рассматривать как разновидность недействительных
сделок.
--------------------------------
<266> Томилин А. Указ. соч. С. 107.
<267> См. выше, § 17.
Вообще, схоластический спор об обоснованности устоявшихся терминов
"ничтожность" и "оспоримость", вызванный исключительно отсутствием в русском
юридическом лексиконе специального технического термина для обозначения
порочности, имеет, как уже отмечалось <268>, давнюю историю, и его содержание до сих
пор традиционно воспроизводится не только в специальных исследованиях, но даже в
учебной литературе <269>. Более полувека назад И.Б. Новицкий указал на
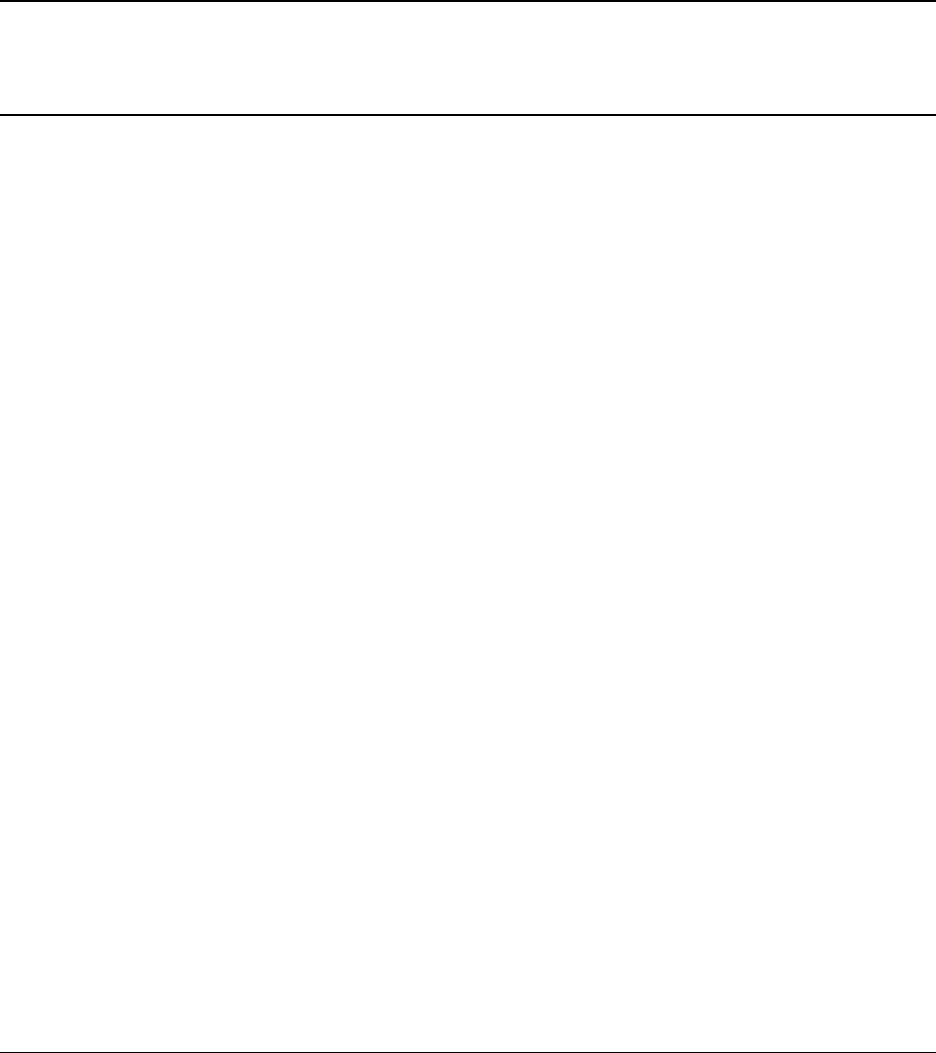
несопоставимость этих понятий: если оспоримость указывает на необходимость
совершения известного действия для устранения правового эффекта, то ничтожность
указывает на результат (недействительность) <270>. "Противопоставление ничтожным
сделкам оспоримых сделок, - писал он, - не покоится на принципиальной основе: если
оспаривание осуществляется, оно приводит к "ничтожности" сделки, притом не с момента
оспаривания, а, по общему правилу, с момента совершения сделки, т.е. с обратной силой"
<271>. Вместо этого Новицкий предлагал именовать ничтожные и оспоримые сделки
соответственно абсолютно недействительными и относительно недействительными
<272>.
--------------------------------
<268> См.: Там же.
КонсультантПлюс: примечание.
Учебник "Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть" (под ред. Е.А. Суханова)
включен в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2008 (издание
третье, переработанное и дополненное).
<269> См., напр.: Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е
изд., перераб. и доп. Т. I: Общая часть М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 481.
<270> См.: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. С. 69 и сл. Впрочем, об этом
еще до революции писал Д.М. Генкин (см.: Генкин Д.М. Указ. соч. С. 215 и сл.).
<271> Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. С. 70.
<272> См.: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. С. 70; Он же.
Недействительные сделки. С. 37.
Эту терминологию, используемую иногда и в современной учебной литературе
<273>, нельзя признать удачной вследствие ее двусмысленности, ибо с ее помощью могут
обозначаться совершенно различные правовые явления. Так, если во французском праве
соответствующие термины (nullite absolue и nullite relative) означают то же самое, что
ничтожность и оспоримость в других правопорядках, то, например, в германском -
указывают на то, является ли сделка недействительной для всех абсолютно или же только
для определенных лиц - относительно <274>. В этом последнем смысле термин
"относительная недействительность" (relative Unwirksamkeit), как уже отмечалось <275>,
означает, что сделка изначально не имеет юридической силы, но только в отношении
конкретных лиц, для всех же остальных она действительна (§ 135, 136 BGB). При
оспоримости ситуация иная: сделка, в зависимости от того, была она аннулирована судом
или нет, либо действительна, либо недействительна, но в обоих случаях действительность
или недействительность является абсолютной в том смысле, что устанавливается в
отношении всех и каждого <276>. Так, даже управомоченное на оспаривание лицо до тех
пор, пока не оспорит сделку, не может сказать, что она в отношении него не имеет
никакой силы, недействительна. Между тем именно это предполагало бы понятие
относительной недействительности, принятое, кстати, не только в германском праве
<277>. Использование в отечественной доктрине терминов "абсолютная
недействительность" и "относительная недействительность", понимаемых во французском
смысле, не только привело бы к бесполезному удвоению общепринятых понятий
ничтожности и оспоримости, но и было бы неправильным по существу, поскольку
наводило бы на мысль, что оспоримая сделка недействительна (пусть и относительно)
независимо от аннулирования ее судом. По этой же причине неправильно было бы
именовать оспоримые сделки и относительно действительными, как предлагал В.А.
Рясенцев <278>.
--------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
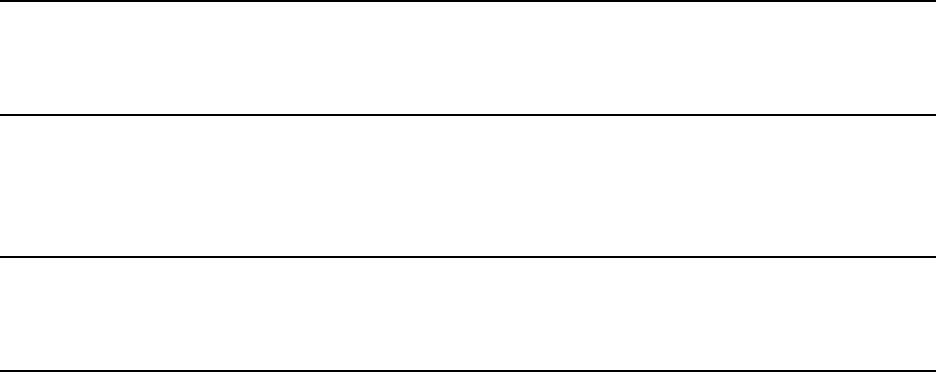
Учебник "Гражданское право: В 2 т. Том I" (под ред. Е.А. Суханова) включен в
информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2004 (издание второе,
переработанное и дополненное).
КонсультантПлюс: примечание.
Учебник "Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть" (под ред. Е.А. Суханова)
включен в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2008 (издание
третье, переработанное и дополненное).
<273> См., напр.: Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е
изд., перераб. и доп. Т. I. М.: Бек, 1998. С. 356 и сл.; Гражданское право: Учебник: В 4 т. /
Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. I: Общая часть. 3-е изд., перераб. и доп. С. 481.
<274> См., напр.: Zimmermann R. Op. cit. P. 679.
<275> См. выше, § 23.
КонсультантПлюс: примечание.
Учебник "Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть" (под ред. Е.А. Суханова)
включен в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2008 (издание
третье, переработанное и дополненное).
<276> См. также: Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость сделок: классическая
доктрина и проблемы российской цивилистики. С. 150 и сл. Против этого В.С. Ем
выдвинул следующее возражение: "Но если при оспоримости сделки ее действительность
или недействительность является абсолютной, то неясно, как абсолютно действительную,
но оспоримую сделку можно признать недействительной" (Гражданское право / Отв. ред.
Е.А. Суханов. 3-е изд. Т. I. С. 481, сн. 4). В качестве ответа могу лишь повторить уже
сказанное: абсолютная действительность в данном случае означает, что оспоримая сделка,
пока она не оспорена и не аннулирована, действительна для всех, а не то, что она не
может быть оспорена. Добавлю также, что вследствие судебного решения об
аннулировании недействительность оспоримой сделки не признается в качестве уже
существующего состояния, а наступает впервые, так что сделка из действительной по
судебному решению становится недействительной (см. также ниже, § 31). Это
обстоятельство, по-видимому, и не учитывает автор приведенного замечания.
<277> Аналогично понимается относительная недействительность, например, в
итальянской доктрине.
<278> См.: Рясенцев В.А. Лекции на тему "Сделки по советскому гражданскому
праву" (1-я и 2-я). М., 1951. С. 19.
Представляется, что существу таких сделок вполне соответствует их квалификация
как резолютивно обусловленных. "...Если следовать слову оспоримость (Anfechtbarkeit), -
отмечал Граденвитц, - то необходимо обозначать как оспоримые те сделки, при которых
желаемый эффект хотя и наступает, но вопреки соглашению прекращается, как только
происходит определенное событие, а именно оспаривание. Как раз это и является
понятием резолютивного условия...". В то же время автор верно указывал на отличие
оспоримых сделок от сделок условных, совершенных под резолютивным условием, ибо в
последнем случае "отмена происходит не в противоречии с соглашением, а, напротив, в
силу соглашения" <279>. Подобным образом рассуждал и М.М. Агарков,
рассматривавший оспоримую сделку как условно действительную: она "действительна, но
действительна под легальным резолютивным и потестативным условием, а именно, что
она не будет оспорена соответствующим лицом" <280>. Тем не менее понятие легально-
резолютивной обусловленности, верно характеризуя юридическую природу оспоримости,
в то же время не исключает и использования общепринятого, выразительного термина
"оспоримая сделка", отказываться от которого нет оснований.
--------------------------------
<279> Gradenwitz O. Op. cit. S. 321.
<280> Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // СГП.
1946. N 3-4. С. 48 и сл.
Встречаются высказывания и против термина "ничтожная сделка". По мнению И.Б.
Новицкого, он также неадекватно отражает суть обозначаемого им понятия: "...термин
"ничтожность" наводит на мысль, что в данном случае перед нами юридический нуль, что
никаких юридических последствий из ничтожной сделки не возникает. На самом деле
картина иная. <...> Ничтожная сделка не порождает тех юридических последствий,
которые свойственны сделкам данного рода. Но некоторые другие юридические
последствия из ничтожной сделки могут возникнуть..." <281>.
--------------------------------
<281> Новицкий И.Б. Недействительные сделки. С. 35.
В настоящее время эта позиция, казалось бы, находит подтверждение в самом
законе. Недействительная сделка, говорится в п. 1 ст. 167 ГК, не влечет юридических
последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Однако
ранее <282> уже было показано, что если с совершением ничтожной сделки закон и
связывает какие-либо последствия, то это означает, что данная сделка выполняет другие
фактические составы, предусмотренные гипотезами иных правовых норм, с точки зрения
которых она является юридически релевантным фактом, а не ничтожной сделкой. С точки
же зрения "нормальной" схемы недействительная сделка - как ничтожная, так и
аннулированная судом с обратной силой оспоримая - не влечет никаких правовых
последствий, а значит, не является юридическим фактом. Термин "ничтожность" призван
при этом подчеркнуть, что, в отличие от оспоримой сделки, ничтожная сделка не имеет
силы с самого начала, независимо от воли заинтересованных лиц и решения суда.
Поэтому выражение "ничтожная сделка" не скрывает в себе никакого противоречия
<283>.
--------------------------------
<282> См.: § 9, 10, 14.
<283> Кроме того, мнимая двусмысленность термина "ничтожность", которой
стремился избежать Новицкий, предлагая вместо него термин "абсолютная
недействительность", этим последним вряд ли может быть устранена, так как буквально
он также означает полное (абсолютное) отсутствие правовых последствий.
Нельзя согласиться и с тем, что понятия ничтожности и оспоримости несоизмеримы
друг с другом. Как уже отмечалось <284>, если рассматривать их как формы порочности,
каковыми они и являются, а не недействительности, то оба совершенно адекватно
отражают объективное юридическое состояние сделки, указывая на то, к какому типу
последствий приводят пороки ее состава: при ничтожности они полностью обессиливают
сделку, так что последняя даже не возникает для права, изначально являясь
недействительной <285>; при оспоримости же - лишь порождают право на ее
оспаривание. Таким образом, используемая российским законом терминология вполне
обоснованна как с научной, так и с практической точки зрения, соответствуя к тому же
общепринятым в европейской цивилистике правовым категориям <286>.
--------------------------------
<284> См. выше, § 17.
<285> Именно поэтому термины "недействительность" и "ничтожность" зачастую
используется как взаимозаменяющие. Например, в германском праве Unwirksamkeit
(недействительность) нередко употребляется в значении Nichtigkeit (ничтожность). Как
синонимы термины "недействительность" и "ничтожность" используются и в российском
ГК, причем часто одновременно, в рамках одного предписания и при характеристике
одной сделки (напр., согласно п. 1 ст. 165 несоблюдение нотариальной формы, а в
случаях, установленных законом, - требования о государственной регистрации сделки
