Тузов Д.О. Теория недействительности сделок. Опыт российского права в контексте европейской правовой традиции
Подождите немного. Документ загружается.


<16> Новицкий И.Б. Указ. соч. С. 65. К таким сделкам автор относил, в частности,
сделки, недействительные вследствие порока воли или несоблюдения требуемой законом
формы.
Как можно видеть, исходя из общей концепции, согласно которой правомерность
является необходимым признаком гражданско-правовой сделки, различные авторы, по-
разному понимая сам этот признак, приходят к неодинаковым выводам относительно
правовой природы недействительных сделок. Общим для сторонников рассматриваемого
подхода является, однако, то, что те действия, в которых признак правомерности, по их
мнению, отсутствует, рассматриваются ими как правонарушения <17> (иногда как
безразличные для права явления), но не как юридические сделки <18>.
--------------------------------
<17> Здесь и далее термины "правонарушение", "противоправное действие",
"неправомерное действие" рассматриваются как синонимичные. Предложение
разграничить их (см., напр.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. Т.
1. Свердловск, 1971. С. 353 и сл.) не представляется плодотворным, учитывая общую
семантику этих терминов и установившуюся в отечественной юриспруденции традицию
их употребления (в частности, ни один из них не указывает на то, совершено ли
неправомерное действие виновно).
<18> Не составляет исключения в этом смысле и изложенная позиция И.Б.
Новицкого, поскольку к категории сделок он относил лишь такие недействительные
сделки, которые считал правомерными действиями.
Принципиально иная концепция недействительности была сформулирована Д.М.
Генкиным <19>. "Правомерность или неправомерность, - считал он, - не являются
необходимым элементом сделки как юридического факта, а определяют лишь те или
другие последствия сделки" <20>. Эта идея была поддержана впоследствии Н.В.
Рабинович и В.П. Шахматовым, говорившими о правомерности как признаке
действительной сделки, но не сделки вообще <21>. Логическим следствием такого
подхода явилось объединение как действительных, так и недействительных сделок под
единой рубрикой сделки, единственный и достаточный признак которой эти авторы
видели в направленности воли на достижение правового результата, т.е. в правовой цели.
Эта субъективная характеристика была представлена как общая для действительных и
недействительных сделок, отграничивающая те и другие от деликта. Недействительная
сделка, хотя и не влечет желаемых правовых последствий, является все же сделкой,
причем не только по названию, но и с точки зрения классификации юридических фактов;
как юридический факт она остается сделкой, "но без принадлежащего ей правового
эффекта" <22>, и "недействительна именно как сделка, в силу присущих ей как сделке
недостатков" <23>.
--------------------------------
<19> См.: Генкин Д. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной
закону // Учен. зап. ВИЮН. Вып. V. М., 1947. С. 48 - 51.
<20> Там же. С. 50.
<21> См.: Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л., 1960. С.
5, 11 - 13 (особенно с. 13, сн. 37); Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью,
противной интересам государства и общества. Томск, 1966. С. 9, 14, 16, 25 и сл.; Он же.
Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск, 1967. С. 87 и
сл., 94.
<22> Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам
государства и общества. С. 25.
<23> Рабинович Н.В. Указ. соч. С. 12.
Однако в остальном данное направление, как и предыдущее, не обнаруживает
единства. Если Н.В. Рабинович все недействительные сделки представляла в одно и то же
время и как сделки, и как особые "неделиктные" правонарушения <24>, то В.П. Шахматов
признавал подобную двойственность лишь в отношении тех недействительных сделок, за
исполнение которых закон предусматривает применение конфискационных санкций, в
остальных же случаях считал недействительные сделки не противоправными действиями,
а просто сделками <25>.
--------------------------------
<24> См.: Там же. С. 5 (сн. 12); 11 - 13.
<25> См.: Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам
государства и общества. С. 18 - 22. Эти "непротивоправные" сделки автор не относил
вместе с тем и к правомерным действиям, хотя, в отличие от М.М. Агаркова, считал их
юридическими фактами. Квалификация таких сделок с точки зрения их соответствия
закону должна, по его мнению, выражаться в особой "промежуточной" категории
"незапрещенности", "категории, "находящейся" "между" правомерностью и
противоправностью". "В подобных случаях, - писал он, - следует... говорить не о
правомерности, дозволенности поведения, а о его незапрещенности, причем такой,
которая делает поведение с точки зрения права нежелательным...". Таким образом,
несоответствие сделки нормам права может быть запрещенным или незапрещенным. В
соответствии с этим все недействительные сделки подразделяются на противоправные
действия и сделки, хотя и не запрещенные законом, но в то же время для него
"нежелательные", что находит свое выражение в установлении для сторон таких сделок
определенных отрицательных последствий (см.: Шахматов В.П. Составы противоправных
сделок и обусловленные ими последствия. С. 128 и сл., 135 и сл.).
Таково многообразие воззрений на правовую природу недействительных сделок в
отечественной доктрине. Одни видят в них противоправные действия (господствующее
мнение), другие - сделки в собственном смысле (Д.М. Генкин), третьи рассматривают их
как действия, одновременно сочетающие в себе признаки и юридических сделок, и
правонарушений (Н.В. Рабинович). Некоторые разделяют все недействительные сделки на
две группы, одну их часть относя к правонарушениям, а другую - к сделкам (И.Б.
Новицкий) либо к безразличным для права явлениям (М.М. Агарков) или же
квалифицируя недействительные сделки одной группы как сделки, а другой -
одновременно как сделки и как правонарушения (В.П. Шахматов) <26>. Вместе с тем все
рассмотренные взгляды основываются - и это вполне естественно - на том или ином
представлении о сделке как таковой. Поэтому, чтобы правильно оценить их, необходимо
обратиться к общей теории юридической сделки. Именно, прежде чем исследовать
недействительность и ее природу, необходимо установить, что вообще позволяет ставить
вопрос о действительности или недействительности сделки, почему она, в отличие от
других юридических фактов, допускает подобную форму правовой оценки. Эта
специфика заключена, как вскоре увидим, в самой сущности сделки, т.е. в ее содержании
<27>. Таким образом, первое, что следует выяснить и без чего исследование феномена
недействительности не может быть начато, - это вопрос о содержании юридической
сделки, позволяющем оценивать ее с точки зрения действительности/недействительности.
--------------------------------
<26> Современная отечественная литература вопроса не обнаруживает, за редкими
исключениями, о которых будет сказано ниже, каких-либо новых подходов к
анализируемой проблеме. Так, Ю.П. Егоров безоговорочно относит все недействительные
сделки к правонарушениям, считая их в то же время сделками (см.: Егоров Ю.П. Правовой
режим сделок как средств индивидуального гражданско-правового регулирования:
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 35). И.В. Матвеев полагает, что
недействительные сделки в большинстве своем являются гражданскими
правонарушениями, а признание их недействительными даже рассматривает как
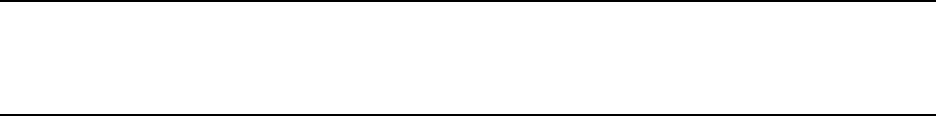
возложение на "виновных контрагентов" гражданско-правовой ответственности (см.:
Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 44
и сл.). По мнению О.В. Гутникова, недействительные сделки могут быть как
неправомерными, так и правомерными, в зависимости, однако, от достаточно туманного
критерия, а именно от того, "насколько действие лица, совершающего сделку,
соответствует обязательным требованиям закона" (Гутников О.В. Недействительные
сделки в гражданском праве. Теория и практика оспаривания. М.: Бератор-Пресс, 2003. С.
72). Сразу возникает вопрос о том, могут ли с точки зрения нормативной логики
существовать "необязательные требования закона" и могут ли вообще требования быть
необязательными. Весьма оригинален подход М. Рожковой, которая, "критикуя
правильность подразделения юридических действий на правомерные и неправомерные",
предлагает классифицировать их вместо этого "на дозволенные и недозволенные"
(Рожкова М. Юридические факты в гражданском праве // Приложение к ХП. 2006. N 7. С.
38), рассматривая оспоримую сделку как дозволенное действие, а ничтожную - как
действие недозволенное, как нарушение правового запрета (Там же. С. 42), не
составляющее, однако, правонарушения (Там же. С. 44). Однако смысл подобной замены,
равно как и суть различия между понятиями дозволенного/недозволенного и
правомерного/неправомерного, остается неясным.
КонсультантПлюс: примечание.
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие
положения" (Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - Статут,
2001 (издание 3-е, стереотипное).
<27> Невозможно согласиться с мнением, что сделка, "не отличаясь от других
юридических фактов", "в принципе не может иметь собственного содержания" и что
содержанием "обладает только возникшее из договора-сделки договорное
правоотношение" (Витрянский В. Существенные условия договора // ХП. 1998. N 7. С. 4.
См. также: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 116 [автор главы - М.И.
Брагинский]). В действительности без содержания, составляющего сущность всякого
предмета или явления, равно как и без формы, в которой эта сущность воплощена,
никакие предметы или явления немыслимы (нельзя не вспомнить в связи с этим крылатое
высказывание Ленина: "Сущность формирована, форма существенна").
§ 2. Правовой смысл как содержание сделки
В соответствии с весьма распространенным в прошлом, но встречающимся еще и
сегодня взглядом, нашедшим отражение также в традиционной классификации
юридических фактов, сделка помещается на один уровень с событиями, поступками,
правонарушениями, являясь, подобно им, лишь одним из видов юридических фактов
<28>, своеобразным "приводным ремнем" в механизме правового регулирования. "Особое
положение сделки среди юридических составов с давних пор и по сей день по большей
части совершенно игнорируется..." <29>, - констатировал в середине прошлого века
Альфред Манигк, немецкий юрист, внесший значительный вклад в общую теорию
юридических фактов и, в частности, юридической сделки, отмечая, что на основе данного
взгляда "возникла существующая и по сей день так называемая теория "срабатывания"
(Auslosungstheorie), согласно которой совершающее сделку лицо "не делает и не желает
ничего другого, как исполнить фактический состав, предусмотренный законом; благодаря
этому затем "автоматически" срабатывают установленные законом правовые последствия"
<30>. "Поскольку же все правовые фактические составы, когда они приводятся в действие
субъектами, приводят в действие предусмотренные последствия, эта теория, -
подчеркивал тот же автор, - означает отрицание любого существенного отличия сделки от
других фактических составов. Для этих теоретиков не существует никакой частной
автономии как института творения права" <31>.
--------------------------------
<28> См., напр.: Агарков М.М. Указ. соч. С. 44 и сл., а также литературу, указанную
в предыдущей сноске.
<29> Manigk A. Das rechtswirksame Verhalten. Berlin: Walter de Gruynter & Co., 1939.
S. 85.
<30> Ibid. S. 86. Автор поясняет, что в германской юриспруденции исходили при
этом из буквального значения слова, видя смысл термина Rechtsgeschaft (= Geschaft des
Rechts = actus legitimus) в том, что правопорядок устанавливает фактические составы
сделок в полном их содержании и уже совершенно готовыми для заключающих сделку
лиц (см.: Ibid. S. 85).
<31> Ibid. S. 87.
Воззрения, подобные рассматриваемой концепции, соответствуют правовому
мышлению того периода, когда учение о юридической сделке находилось в начальной
стадии своего формирования и получило первое выражение в так называемой
волюнтаристской теории, определявшей сделку как частное изъявление воли,
направленное на производство юридического эффекта <32>, отводя ведущее место в ее
составе воле действующего лица и рассматривая правовую направленность этой воли в
качестве главного идентифицирующего сделку признака.
--------------------------------
<32> См.: Savigny F.C. Op. cit. § 114. S. 98 f.; Windscheid B. Lehrbuch des
Pandektenrechts. 6. Aufl. Bd I. Frankfurt a. M.: Rutten & Loening, 1887. § 69. S. 186.
С переосмыслением старой пандектистской дефиниции было связано появление так
называемых объективных теорий, акцентирующих социальную функцию сделки и
подчеркивающих главенствующую роль в ней внешнего заявления, доступного
восприятию окружающих, которое рассматривалось уже не как простое средство
обнаружения во вне воли, но как относительно автономный по отношению к последней
социальный факт, имеющий самостоятельное юридическое значение, а именно значение
источника права. "Теория срабатывания... - заключал Манигк, - не выдержала проверку
временем, так как она в основном недооценивала особую историческую задачу института
сделки в системе права и смысл частной автономии. Она не видела, что в сделке, в
противоположность всем другим фактическим составам, налицо акт, при котором
индивидуальное поведение влияет на правовые последствия не только каузально, но и
определяющим образом, так что фактический состав сделки служит частному правовому
самоопределению посредством значимой для права воли действующего лица" <33>.
--------------------------------
<33> Manigk A. Op. cit. S. 87.
В соответствии с одной из "объективных" теорий, предложенной Эмилио Бетти -
видным юристом, во многом определившим развитие и состояние итальянской правовой
доктрины и, в частности, современное учение о юридической сделке <34>, лицо, совершая
сделку, не ограничивается заявлением, что желает чего-то, но заявляет или делает именно
то, что желает; и это, последнее, состоит в некоторой упорядоченности, регламентации
его интересов (assetto d'interessi) в отношениях с другими, которую частное лицо должно
не столько желать, сколько установить, т.е. воплотить объективно. Изъявление,
конституирующее сделку, не есть простое изложение, выражение чего-то вовне, но
установление, предписывающее некоторую линию поведения в отношении других,
имеющее социальную значимость и собственное действие. Оно конституирует
содержание, которое таким образом с ним связано и в нем воплощено: конституирует в
том смысле, что не ограничивается выражением содержания, но одновременно вызывает
его к жизни, вводит его в социальный мир как установление, имеющее существование в
себе и для себя <35>.
--------------------------------
<34> Авторская разработка этого учения изложена в уже ставшей классической
монографии "Общая теория юридической сделки" (Турин, 1960), ссылки на которую далее
даются по последнему ее переизданию: Betti E. Teoria generale del negozio giuridico
(Ristampa corretta della II edizione) / Introduzione di G.B. Ferri; a cura di G. Crifo. Napoli:
Edizioni Scientifiche Italiane, 1994. XXVI. 626 p.
<35> См. также: Betti E. Negozio giuridico // Novissimo Digesto Italiano. T. XI. Torino,
1965. § 4. P. 210.
Несомненная заслуга теории изъявления, несмотря на ее некоторую крайность,
связанную с гипертрофированием социального аспекта и принижением значения воли в
сделке <36> (крайность, впрочем, неизбежную в любой оппозиционной доктрине),
состоит в выявлении и утверждении, в противовес волюнтаристской теории, объективного
момента - специфического результата акта, обусловленного его особым содержанием,
отличающим сделку от прочих юридических действий, независимо от возможной
направленности последних на достижение того или иного правового эффекта.
--------------------------------
<36> См., напр., ibidem: "Не отрицается как нормальный факт, что частное лицо
заявляет или делает что-то желаемое; отрицается только, что воля находится в сделке на
первом плане". В настоящее время скорее преобладают синтетические теории,
совмещающие подходы обеих противостоящих теорий, но свободные от их крайностей.
Как авторитетно отмечает Пьетро Решиньо, между двумя определениями сделки, более
старым (в котором сделка представлялась как изъявление воли) и более современным
(которое видит в сделке акт частной автономии, т.е. регламент интересов, связывающий
того, кто вызвал его к существованию), нет несовместимости, ибо "первое относится к
структуре, в то время как второе концентрирует внимание на функции сделок" (Rescigno
P. Manuale del diritto privato italiano. 7a ed. Ristampa con appendice di aggiornamento. Napoli,
1987. P. 296).
В российской правовой науке это качество сделки было хорошо показано
выдающимся юристом и философом права Н.Н. Алексеевым. "Существуют факты,
содержанием которых является временное бытие, и факты, содержанием которых является
смысл" <37>, - писал он. - В последних "лежат "основания обязательности" некоторого
поведения... другими словами - разум, логос или смысл фактов" <38>. Именно эти факты,
которые Н.Н. Алексеев называл нормативными, относя к их числу, в частности, обещание,
договор, соглашение, учредительные акты и др., "по внутренней природе своей, по
присущему им логосу обязывают к определенным действиям и требуют их" <39>.
Напротив, содержание фактов "нормативно-безразличных" представлено лишь
временным бытием, но не смыслом. Эти факты "не имеют логики, они идейно не
связывают и не обязывают, но с ними просто считаются" <40>. Нормативно-безразличный
факт может "только приниматься во внимание законом как фактор, с которым условно
связывается установление прав и обязанностей" <41>.
--------------------------------
<37> Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб.: Лань, 1999 [по изд. 1924 г.]. С.
146.
<38> Там же. С. 149.
<39> Там же. С. 152.
<40> Там же. С. 178.
<41> Там же. С. 180.
Чтобы лучше понять эту классификацию, имеющую, как представляется, большое
познавательное значение, необходимо принять во внимание две стороны любого
сознательного действия: физическую и идеальную. Физическую (материальную) сторону
составляет то или иное телодвижение (совокупность телодвижений), которое может быть
воспринято окружающими посредством органов чувств (зрения, слуха и т.п.). Идеальная
же сторона заключается в субъективном смысле, который действующее лицо связывает со
своим действием <42>, стремится при помощи последнего выразить и передать. Этот
смысл отличает действие человека от иных явлений природы. Он может состоять в идее,
чувстве, эмоции, волевом решении, иных психических переживаниях, которые субъект
выражает или стремится выразить при помощи действия. Восприятие субъективного
смысла, в отличие от физической стороны действия, происходит не через органы чувств, а
посредством умственной деятельности. Воспринять действие с этой, идеальной, стороны -
значит не только его увидеть, услышать или иным образом "почувствовать", но и понять,
интерпретировать, объяснить.
--------------------------------
<42> См.: Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения:
Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 602 и сл.
В зависимости от заключенного в действиях субъективного смысла различаются и
сами действия. Прежде всего из их совокупности необходимо выделить так называемые
социальные действия. Социальным является действие, которое "по предполагаемому
действующим лицом... смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется на
него" <43>. Юридическая сделка, будучи субъективно рассчитана на поведение других
лиц, с социологической точки зрения относится к социальным действиям.
--------------------------------
<43> Там же. С. 603.
Социальные действия, в свою очередь, можно подразделить на акты
интеллектуального, чувственно-эмоционального и волевого взаимодействия <44>. В
последнем случае "главным предметом взаимного обмена или "материей" взаимодействия
служат волевые решения, передаваемые от одних к другим" <45>; "посредством их люди
согласуют свое взаимное поведение и влияют друг на друга" <46>. Совершая сделку, лицо
выражает таким образом свое волевое решение, имеющее правовую направленность,
следовательно, по заключенному в ней субъективному смыслу сделка является актом
волевого взаимодействия.
--------------------------------
<44> См.: Сорокин П.А. Система социологии. Т. 1. Социальная аналитика: Учение о
строении простейшего (родового) социального явления. М.: Наука, 1993. С. 288 - 294; Он
же. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М.: Наука, 1994. С. 25 и сл.
<45> Сорокин П.А. Система социологии. Т. 1. С. 291.
<46> Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. С. 163.
Понятие актов волевого взаимодействия (или актов воли), в юриспруденции
именуемых также волеизъявлениями, не следует отождествлять с понятием волевых
актов, которое значительно шире. Оно включает всякое сознательное действие, поскольку
его совершение есть волевой процесс. Однако далеко не каждый волевой акт выражает
именно волевое решение (желание, повеление, запрет и т.п.), он может выражать и иные
психические переживания, например идеи, чувства (в этих случаях он должен
рассматриваться соответственно как акт интеллектуального или чувственно-
эмоционального, но не волевого взаимодействия), а может и вовсе не быть средством
социального общения (т.е. не являться социальным действием). Рассматриваемый
признак, очевидно, отсутствует - по крайней мере при нормальном развитии отношений -
в большинстве действий, не являющихся сделками <47>. Так, ни автор, создающий
произведение, ни должник, признающий долг, не заявляют прямо о своем желании
достичь того правового результата, который связывает с его действием позитивное право,
т.е. возникновения авторского права или перерыва исковой давности, и такую
направленность их воли, хотя бы она и имела место в действительности, нельзя вывести
из совершаемых ими действий даже косвенно. С другой стороны, оба действия являются,
безусловно, результатом волевого процесса, а следовательно, волевыми действиями <48>.
Таким образом, несмотря на то, что элемент воли присутствует в любом волевом акте, его
функции различны. Лишь в волеизъявлениях он составляет самое содержание акта,
который выступает при этом его носителем, в остальных же волевых действиях служит
лишь предпосылкой их совершения, характеризуя степень их добровольности,
спонтанности, сами же эти действия являются средствами выражения (носителями) иных
психических переживаний <49>.
--------------------------------
<47> Напротив, согласно Манигку (Manigk A. Op. cit. S. 362 ff.), этот признак не
всегда присутствует и в сделках, в зависимости от чего среди последних выделяются
собственно волеизъявления (Willenserkldrung) и так называемые волевые сделки
(Willensgeschdft), в которых "поведение действующего лица является доказательством, но
не изъявлением воли" (Ibid. S. 364) (например, при фактическом принятии наследства). К
волевым сделкам, которые в соответствии с приведенной выше классификацией
следовало бы отнести к категории волевых актов, в полной мере применяются, по мнению
автора, нормы о недействительности сделок (S. 454 - 460). Подобная концепция, по
крайней мере в ее применении к российскому праву, представляется, однако, спорной.
<48> Тот факт, что произведение может быть создано и недееспособным, отнюдь не
опровергает утверждения о волевом характере соответствующих действий.
<49> Данное различие весьма точно подчеркивал в середине прошлого века видный
итальянский цивилист Сальваторе Пульятти: "О волевом акте говорится, когда волевое
решение субъекта принято как предпосылка данного акта, как элемент, не относящийся к
его структурной основе; акт воли, напротив, имеет место, когда волевое решение само по
себе составляет главную структурную основу акта" (Pugliatti S. I fatti giuridici / Revisione e
aggiornamento di A. Falzea, con prefazione di N. Irti. Milano, 1996. P. 55. См. также p. 4 s.).
В чем же заключается волевое решение, образующее содержание сделки и
составляющее ее субъективный правовой смысл? При совершении сделки лица (стороны)
придают различным фактам реальности - своим действиям, действиям третьих лиц,
событиям (например, течению времени) - определенное юридическое значение
(совокупность значений), которому соглашаются подчиняться. Таким образом, благодаря
своей идеальной стороне сделка обладает особым смыслообразующим свойством: она
приписывает явлениям реальной действительности чуждые их "фактичности" юридико-
смысловые значения, устанавливает логические связи между ними. Эти правовые
значения, атрибуируемые эмпирическим фактам волей человека и превращающие их в
факты юридические, составляют содержание всякого правового акта <50>, одинаково
характерное как для закона, так и для гражданско-правовой сделки, хотя и имеющее в
первом и во втором случае различный масштаб <51>.
--------------------------------
<50> Это не противоречит общеизвестному положению, что содержание сделки (в
том числе договора) составляет ее условия. Совокупность последних и является той
системой юридических значений, в которой объективирован правовой смысл действия.
<51> Ср.: Manigk A. Op. cit. S. 84: "Фактические составы источников права
отличаются от других юридических составов... существенно тем, что они в состоянии
самостоятельно... определять правовые последствия по содержанию... Все источники
права являются волеизъявлениями, так как представляют собой внешнее выражение
стремления к правовым последствиям" (Rechtsfolgebegehrungen). Частная автономия,
выражающаяся в совершении сделки, "выполняет функцию источника права тем, что она
в нормированном объеме уполномочена (законом. - Д.Т.) на правоустановление" (Ibid. S.
85).
Как уже, однако, было отмечено, по верному наблюдению "объективных" теорий,
одной субъективной направленности воли на достижение правового эффекта
недостаточно для идентификации действия в качестве сделки. Совершая сделку, лицо не
просто заявляет о желании достичь того или иного правового результата, т.е. не просто
сообщает другим о своем волевом решении, но и положительно устанавливает средство
для достижения данного результата. Это средство именуется по-разному:
упорядоченностью или регламентом (саморегламентацией) интересов <52>, программой
<53>, идеально-нормативным порядком <54> и т.п. За многообразием терминов
скрывается, впрочем, одна и та же суть: выраженное при помощи сделки и составляющее
ее содержание волевое решение не только субъективно несет определенный правовой
смысл, но и является благодаря последнему источником права <55>, устанавливая
объективированную вовне систему смысловых юридических значений и зависимостей,
или, согласно Н.Н. Алексееву, некоторый связующий "идеально-нормативный порядок".
В этой смыслообразующей функции состоит, как представляется, правовая сущность и
социальная ценность сделки, в ней находят свое выражение основополагающие
гражданско-правовые начала - автономия воли и свобода договора, и, собственно, ее имел
в виду французский законодатель, провозглашая в art. 1134 Code Napoleon, что
"соглашения, законно заключенные, занимают место закона для тех, кто их заключил".
--------------------------------
<52> См.: Betti E. Negozio giuridico. § 4. P. 210.
<53> См.: Pugliatti S. Op. cit. P. 4.
<54> См.: Алексеев Н.Н. Указ. соч. С. 178.
<55> См.: Manigk A. Op. cit. S. 87, 91.
Сказанное объясняет, почему Н.Н. Алексеев называл факты, несущие в себе
правовой смысл, нормативными. В отличие от нормативно-безразличных, нормативные
факты "создают... некоторый идеально-нормативный порядок отношений в пределах
данной системы положительного права. Область нормативных фактов и их последствий
есть область правового логоса" <56>. Напротив, нормативно-безразличные факты не
обладают указанной функцией и не в состоянии сами устанавливать права и обязанности.
Они лишь принимаются во внимание правопорядком как необходимые условия, факторы
наступления правовых последствий, а значит, только опосредствуют правоотношения,
действительным источником которых являются нормы позитивного права. Именно
последние, определяя, что при известных условиях возникнут, изменятся либо
прекратятся те или иные субъективные права и обязанности, тем самым придают
эмпирическим фактам (их совокупности) определенное правовое значение. "Об этом
фактическом составе говорят, будто он производит, уничтожает, изменяет право;
подлинно действующим является опирающееся на этот фактический состав изречение
правопорядка" <57>, - подчеркивал Виндшейд. Так, совершая юридический поступок или
правонарушение, действующее лицо, независимо от того, какие цели оно при этом
преследует, не может изменить то объективное правовое значение своего действия,
которое ему приписывает закон.
--------------------------------
<56> Алексеев Н.Н. Указ. соч. С. 178.
<57> Windscheid B. Op. cit. § 63. S. 176. Ср.: Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. 632:
"Поэтому, когда говорят, что юридические факты производят, изменяют или прекращают
юридические последствия, то выражаются неточно даже на образном языке: творящая
юридические последствия сила лежит не в фактах, а в определениях объективного права".
Понятие сделки как нормативного факта не получило признания в отечественной
теории права, которая рассматривает в качестве "нормативных" лишь акты,
устанавливающие общие правила (нормы) поведения, противопоставляя им акты
индивидуальные <58>. Однако суть нормативности, думается, заключается все же не в
степени общности правила поведения, а в самом этом правиле и его обязательности <59>.
Как можно видеть, разногласие между теми, кто усматривает в сделке нормативный факт,
источник права, и теми, кто отрицает за ней эту природу, далеко не исчерпывается
проблемой терминологии. Оно проявляется не только в вопросе о том, что следует
понимать под правовой нормой - любое ли предписание некоторого обязательного
поведения (и тогда сделка должна рассматриваться как нормативный факт) или же лишь
такое предписание, которое имеет более или менее общий, абстрактный характер (и тогда
сделка, будучи актом индивидуальным и конкретным, не может устанавливать правовых
норм). Более важным пунктом расхождения является вопрос о соотношении сделки с
иными юридическими фактами (юридическими поступками, правонарушениями,
событиями), ибо те, кто отрицает за сделкой характер нормативности, неизбежно
уподобляют ее, с точки зрения ее функции в механизме правового регулирования,
"чистым" юридическим фактам, не несущим в себе правового смысла (изложенная выше
теория "срабатывания") <60>.
--------------------------------
<58> См., напр.: Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского
законодательства // Избранные труды по общей теории права / Отв. ред. А.К. Кравцов.
СПб.: Юридический центр Пресс, 2006 [по рукописи 1925 г.]. С. 131; Агарков М.М. Указ.
соч. С. 44 и сл.; Новицкий И.Б. Указ. соч. С. 19; Иоффе О.С. Ответственность по
советскому гражданскому праву. Л., 1955. С. 78 и сл.; Краснояружский С.Г.
Индивидуальное правовое регулирование (общетеоретический аспект) // ГП. 1993. N 7. С.
130, 134; Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного
исследования. М.: Статут, 1999. С. 32 и сл., 60, 257 - 263. Имеются, однако, и исключения
из этого господствующего взгляда на понятие нормативности, представляющего, согласно
Н.Н. Алексееву, концепцию "монополизированного нормотворчества". Так, по мнению
Т.В. Кашаниной, сделка как таковая, независимо от закона, обладает "нормативной
силой": "в процессе заключения договоров создаются правовые нормы, но нормы
индивидуальные, т.е. рассчитанные на конкретных и точно определенных индивидов, или
"микронормы" (Кашанина Т.В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ
и обществ). М.: Норма; Инфра-М, 1999. С. 543, 220, 224; Она же. Индивидуальное
регулирование в правовой сфере // ГП. 1992. N 1. С. 125).
<59> Мы не останавливаемся здесь подробно на вопросе о том, является ли сделка
как нормативный факт лишь низшим звеном в системе источников права, иерархически
подчиненным законодательным нормам и производным от них (учение представителей
так называемой венской школы - Ганса Кельзена, Адольфа Юлиуса Меркля, Фрица
Шрайера), или же она представляет собой источник права, независимый от системы
источников, исходящих от государства (так называемые социологические учения Ойгена
Эрлиха, Людвига Райзера) (краткий обзор зарубежных доктрин, рассматривающих сделку
в качестве нормативного факта, см.: Агарков М.М. Указ. соч. С. 44 и сл.). К первому
направлению примыкают, по всей видимости, излагаемые в настоящем параграфе
воззрения Манигка. Второй точки зрения в отечественной науке придерживался,
например, Н.Н. Алексеев, рассматривавший сделку как самостоятельный и совершенно
независимый нормативный источник, стоящий в одном ряду с законом, обычаем и
прецедентом (см.: Алексеев Н.Н. Указ. соч. С. 164 и сл., 169). "С точки зрения
эйдетической, - подчеркивал автор, - одинаково нужно признать нормоустановительными
фактами и акты государственной воли, и акты, вытекающие из воли отдельных лиц, как-
то: обещания, соглашения и пр." (Там же. С. 164). В отличие же от психологической
теории права Л.И. Петражицкого, Н.Н. Алексеев исходил из того, что "свойство
нормативности есть объективное свойство некоторых фактов, а не каприз человеческой
психологии..." (Там же. С. 151).
<60> В отечественной литературе см., напр., выше, сн. 27.
Иногда такое уподобление приводит к противоречию. Так, отграничивая сделку от
нормативного акта по традиционным критериям "общности/индивидуальности" и
"абстрактности/конкретности", М.М. Агарков указывал следующее: "Нормы права
формулируют общее правило. Акт, создающий норму права, является нормативным
актом. Юридический факт влечет за собой возникновение, изменение или прекращение
конкретного правоотношения. Юридический факт является в силу нормы права
необходимым условием возникновения, изменения и прекращения правоотношения"
<61>. Однако далее автор совершенно справедливо констатировал наличие сделки "не
только тогда, когда стороны выразили свою волю непосредственно произвести этот
эффект, но и тогда, когда они выразили волю, направленную на определение тех условий,
от которых будет зависеть наступление эффекта". В качестве примера он приводил
соглашение о форме будущего договора, которое "само по себе взятое не порождает, не
прекращает и не изменяет правоотношений. Но если стороны в дальнейшем заключат
договор, к которому относится соглашение о форме, то такой договор породит
обязательство лишь при условии совершения его в предусмотренной форме" <62>. Это
правильное наблюдение подтверждает, однако, причем в наиболее чистом виде,
нормативную природу сделки: соглашение о форме будущего договора (равно как и
некоторые другие соглашения, например о неустойке, о порядке разрешения споров и др.)
устанавливает между сторонами лишь порядок, регламент их отношений, не порождая
субъективных прав и обязанностей и не выступая необходимым условием их
возникновения, а значит, если исходить из приведенного М.М. Агарковым классического
определения, юридическим фактом не является. Это - яркий пример, когда сделка
выполняет исключительно нормативную, а не юридико-фактическую функцию, утрачивая
в подобных случаях всякое сходство с юридическими фактами, не несущими в себе
правового смысла.
--------------------------------
<61> См.: Агарков М.М. Указ. соч. С. 46. Кроме того, отграничивая сделку как
юридический факт от нормативного акта, М.М. Агарков отмечал в качестве особенности
правовой нормы то, что она "не только обязывает, но и предоставляет. Она обязывает
одну сторону и предоставляет другой право требовать выполнение обязанности от первой
(субъективное право)" (Там же. С. 45). Это само по себе верное положение не может,
однако, служить для отграничения сделки от нормативного акта, ибо сделка тоже
устанавливает не только обязанности, но и корреспондирующие с ними субъективные
права. Трудно согласиться и с утверждением автора о том, что вследствие признания
сделки нормативным фактом "содержание правовых норм как бы выпадает из поля зрения
правоведения" и отрицается само "понятие субъективного права" (Там же. С. 46).
<62> Там же. С. 50.
Рассматриваемой особенностью содержания юридической сделки обусловлена и
особая форма ее правовой оценки, т.е. возможность ее квалификации как действительной
или недействительной <63>, ибо в соответствии со сложившимися нормами
юридического языка подобным образом может быть оценен только правовой смысл
действия. О фактах, не являющихся сделками, т.е. не несущих в себе правового смысла, -
событиях, правонарушениях, юридических поступках <64> - не принято говорить, что они
действительны или недействительны: о них лишь говорят, что либо они есть, либо их нет
<65>. Это связано с тем, что сделку принято идентифицировать с выраженным в ней
волевым решением юридической направленности, составляющим ее правовой смысл.
Если такое решение есть, то имеет место и сделка (как эмпирический факт <66>), которая,
однако, может достигать или не достигать того правового результата, на который
направлена, и тогда говорят соответственно о ее действительности или
недействительности.
--------------------------------
