Тузов Д.О. Теория недействительности сделок. Опыт российского права в контексте европейской правовой традиции
Подождите немного. Документ загружается.

Другое доктринальное направление, противоположное рассмотренному,
отождествляет ничтожность и несуществование, отказывая последней категории в какой-
либо автономии. Позиция, которую занимает эта часть доктрины в отношении
вышеизложенных проблем, может быть выражена в трех основных тезисах:
1) юридическое существование сделки должно мыслиться исключительно в
плоскости права, а не на уровне социальной реальности, при этом нет какого-либо
расхождения между понятием сделки и ее трактовкой правом как способной производить
присущие ей юридические последствия. "Юридическая сделка, - писал один из наиболее
авторитетных итальянских цивилистов Сальваторе Пульятти, - считается юридически
несуществующей, или ничтожной, когда она ab initio и ipso iure непригодна к какой-либо
функции, как если бы никогда не была заключена. Несуществование сделки должно
рассматриваться с юридической точки зрения; оно относится к тем юридическим сделкам,
которые исторически существуют, но юридически рассматриваются как tamquam non
essent <239> по причине формального характера, происходящей то есть от правопорядка"
<240>. С этим тезисом логически связан другой:
--------------------------------
<239> Tamquam non essent (лат.) - подобно несуществующим.
<240> Pugliatti S. Op. cit. P. 151.
2) фактический состав соответствует понятию сделки всякий раз как выполняется
юридическая фигура сделки, предусмотренная одной из легальных схем. Эта идея находит
свое выражение в принципе целостности фактического состава, согласно которому
существование сделки требует наличия всех ее конститутивных элементов и при
отсутствии хотя бы одного из них не существует и фактического состава сделки в целом
<241>. Сторонники рассматриваемого направления, полемизируя с представителями
противоположной части доктрины, ставят риторические вопросы: что такое юридическое
несуществование, если не неспособность сделки производить правовые последствия по
причине отсутствия одного или нескольких реквизитов фактического состава? <242> и
что такое ничтожность, если не несуществование юридической сделки? <243>. По их
мнению, о несуществовании в юридическом смысле можно говорить лишь в той мере, в
какой оно относится к одному из составляющих фактический состав сделки реквизитов,
несуществованию же реквизита соответствует ничтожность акта, ненаступление его
правовых последствий <244>.
--------------------------------
<241> См.: Ferrari S. Op. cit. P. 517 s., nt. 6.
<242> Carnelutti F. Op. cit. P. 210.
<243> Ferrari S. Op. cit. P. 515.
<244> Carnelutti F. Op. cit. P. 210.
В соответствии с этим подходом строго разграничиваются два уровня, или
плоскости, в которых эвентуально могла бы возникнуть проблема существования или
несуществования сделки: фактический (или исторический) и юридический. Отмечается,
что в фактической плоскости не существует, строго говоря, отдельной сделки, но
"обнаруживаются лишь отдельные материальные или психологические события: когда
говорится о существовании... в исторической плоскости, употребляется синтетическое
выражение (как таковое относящееся к метафактическому уровню), которым обозначается
вся та совокупность фактов, которые необходимы для выполнения юридической фигуры...
<...> |...Предикация существования юридической сделки на фактическом уровне не имеет,
следовательно, специального значения в речи юриста. <...> | В плоскости же права можно
сказать, что сделка... существует, поскольку произведены ее правовые последствия, а
точнее правовые последствия, существенные для индивидуализации фактического
состава. Предикация существования юридического акта без того, чтобы наступили его
последствия, это - с точки зрения логики права, которая, впрочем, идентифицируется
здесь с логикой вообще, - contradictio in terminis <245>: в плоскости права существование
совпадает и не может не совпадать с выполнением юридической фигуры" <246>.
Поскольку "сделка - это творение права... она не может иметь жизни иной, чем
юридическая. Или она сочетает в себе все реквизиты, требуемые нормой, и тогда есть
сделка, или же не сочетает их, и тогда нет сделки" <247>.
--------------------------------
<245> Contradictio in terminis (лат.) - противоречие в терминах.
<246> Talamanca M. Inesistenza, nullita ed inefficacia. P. 4 (в рус. пер.: Таламанка М.
Указ. соч. С. 12 и сл.).
<247> Fedele A. Op. cit. P. 32.
Этот подход многократно критиковался за его формализм, проявляющийся, согласно
его противникам, в "строгом отделении области факта от области права" <248>. Обычно
указывают, что он "исходит из сомнительной концептуальной посылки, приравнивающей
сделку к обыкновенному "фактическому составу", с которым закон связывает
юридическую действительность при наличии реквизитов, предусмотренных этим
законом" <249>.
--------------------------------
<248> См., напр.: Bianca C.M. Op. cit. P. 579, nt. 19.
<249> Ibid. P. 579. См. также библиографические ссылки, данные выше.
Подобные упреки представляются необоснованными. Прежде всего вовсе не
думается, что "строгое отделение области факта от области права" могло бы быть
сколько-нибудь чрезмерным или даже вредным. Не соответствует, затем,
действительности утверждение, что анализируемый подход будто бы связан с идеей (уже
давно оставленной доктриной), согласно которой сделка есть обычный фактический
состав, стоящий на одном уровне с юридическими фактами в узком смысле.
Представление о сделке как совершенно особом факте (программе, регламенте,
упорядоченности интересов, акте частной автономии, нормативном факте и т.п.), несущем
в себе, в отличие от всех других юридически значимых фактов, правовой смысл, отнюдь
не исключает анализируемого подхода, ибо, чтобы быть релевантным для права, также и
этот особый факт должен соответствовать и не может не соответствовать некоторой
юридической схеме. Действительно, "бытие акта частной автономии, - отмечает
Таламанка, - зависит, очевидно, от квалификации, данной той совокупности исторических
фактов, что составляет юридическую сделку именно в фактической плоскости. В этом
отношении horum alterum est necesse <250>: или эта квалификация дается правопорядком,
и тогда также и для нее действует упомянутый здесь механизм, или она происходит вне
правопорядка, и речь идет, следовательно, о дальнейшей фактической данности, которую
необходимо учитывать при оценке, была ли или нет выполнена юридическая фигура
сделки и, следовательно, существует ли сделка в плоскости права" <251>.
--------------------------------
<250> Horum alterum est necesse (лат.) - необходимо одно из двух.
<251> Talamanca M. Inesistenza, nullita ed inefficacia. P. 3 (в рус. пер.: Таламанка М.
Указ. соч. С. 11 и сл.).
Вся специфика акта частной автономии не меняет, следовательно, ничего в том, что
касается оценки его релевантности или, что в сущности одно и то же, существования для
права. Особая природа этого акта, несомненно, отражается на его квалификации, однако в
другом отношении. А именно, только юридическая сделка, если оставаться в границах
гражданского права, но не другой юридический факт, допускает благодаря своему
особому содержанию правовую оценку на предмет валидности или порочности (а значит,
ничтожности и оспоримости), действительности или недействительности <252>;
--------------------------------
<252> Ср.: Scalisi V. Op. cit. P. 217.
3) так называемые атипичные и отклоняющиеся последствия недействительной
сделки на самом деле суть последствия типичные и прямые, однако - и это самое
существенное - другого фактического состава, выполняющего иную правовую норму. В
основе этого тезиса лежит уже упоминавшийся принцип относительности (или
релятивности) юридического факта <253>: если некоторая фактическая ситуация
"производит правовые последствия негативного или отклоняющегося характера... она
будет выполнять состав иного юридического факта, не имеющего ничего общего с
предусмотренной сделкой" <254>. Следовательно, так называемый иррегулярный
формативный цикл "происходит в соответствии с другой правовой нормой"; факт,
"иррелевантный с точки зрения правовой нормы, предусматривающей элементы, которые
он не выполнил, является, напротив, релевантным с точки зрения другой нормы,
предписывающей наступившие последствия" <255>. То есть речь идет о "новом
фактическом составе, отличном от того, которому не соответствует несовершенный акт..."
<256>.
--------------------------------
<253> См.: De Giovanni B. Op. cit. P. 61 s.
<254> Pugliatti S. Op. cit. P. 156. Ср.: Эннекцерус Л. Указ. соч. С. 307: "По внешности
ничтожная сделка существует; однако она СУЩЕСТВУЕТ НЕ В КАЧЕСТВЕ
ЮРИДИЧЕСКОЙ СДЕЛКИ, так как право окончательно не признает за ней правовых
последствий, связанных с юридической сделкой, т.е. показанных в качестве желательных"
(выделено мной. - Д.Т.).
<255> Falzea A. La condizione e gli elementi dell'atto giuridico. Milano, 1941. P. 39.
<256> Conso G. Op. cit. P. 36. См. также: Finzi E. Op. cit. P. 71 s.; Rubino D. La
fattispecie e gli effetti giuridici preliminari. Milano, 1939. P. 84 ss.; Fedele A. Op. cit. P. 31 ss.;
Talamanca M. Inesistenza, nullita ed inefficacia. P. 9, особенно nt. 36 (в рус. пер.: Таламанка
М. Указ. соч. С. 20 и сл., особенно сн. 36).
Также и этот тезис осуждается противоположной частью доктрины за его релятивизм
и формализм. "Представляется нетрудным возразить... - писал Сконьямильо, критикуя
принцип релятивности акта, - что в этом случае правопорядок принимает во внимание все
же ничтожный договор, а не иной юридический факт" <257>. Та же идея развивалась
впоследствии Тондо, который указывал по поводу релятивистского подхода, что
"подобный способ аргументации вместо объяснения правовой реальности непоправимо
удаляется от нее, поскольку не учитывает, что решающий аспект феномена заключается
именно в том, что в отношении производства указанных выше последствий сделка
принимается во внимание правом отнюдь не в качестве какого-нибудь фактического
состава, а конечно же вследствие своей особой природы сделочного акта" <258>.
--------------------------------
<257> Scognamiglio R. Contratti in generale // Trattato di diritto civile / Dir. da G. Grosso
e F. Santoro-Passarelli. 3a ed. Milano, 1972. P. 225.
<258> Tondo S. Op. cit. P. 997.
Данная критика игнорирует, однако, очевидную разницу, существующую между
мотивами, или причинами, по которым законодатель желает принять во внимание тот или
иной исторический факт, связывая с ним правовые последствия, и сам механизм
правового регулирования, через который происходит это соединение, т.е.
соприкосновение между исторической реальностью и юридическим эффектом,
опосредуемое правовой нормой. Не должны, следовательно, смешиваться два разных
уровня проблемы, в рамках которой ставится и решается вопрос о признании за
иррегулярными фактическими составами способности производить атипичные или
отклоняющиеся последствия, а именно уровни "почему?" и "как?". Представляется, что
именно это смешение допускает Тондо, когда, рассматривая правовые последствия
обещания жениться (art. 79 - 81 c.c. <259>), утверждает, что "проблема состоит именно в
выявлении причины такого отношения со стороны права. Нам кажется ясным, - заключает
он, - что такую причину следует усматривать в моменте доверия, которое связывается
именно со сделочным характером рассматриваемого акта; и этого достаточно, чтобы
предположить, что обещание жениться принято правом во внимание не в качестве какого-
нибудь фактического состава, но вследствие его характера сделки" <260>.
--------------------------------
<259> Согласно нормам этих статей обещание вступить в брак хотя и не обязывает
ни к его заключению, ни к исполнению обязанностей, принятых на случай его
незаключения, однако при определенных условиях дает основание требовать возмещения
убытков, понесенных вследствие расходов, которые были произведены вследствие такого
обещания, если обещающий отказался от заключения брака без уважительной причины.
<260> Tondo S. Op. cit. P. 997, nt. 4.
Не может, конечно, вызывать никаких сомнений, что в этом случае, как, впрочем, и
во всех остальных, законодатель исходит из некоторого серьезного мотива, из
заслуживающей внимания жизненной потребности, для удовлетворения которой и
связывает с тем или иным фактом определенные правовые последствия. Однако это
вопрос законодательной политики. Чтобы его решить, законодатель, хотя бы и
отправляясь мысленно от идеи несовершенного, порочного состава юридической сделки и
от практических потребностей, требующих адекватного решения, должен перевести
проблему на язык права, используя юридико-технический механизм, который по самой
своей логике не допускает никакого несовершенства. "Следовательно, признавая
релевантность за несовершенным актом, законодатель автоматически приходит к
созданию новой гипотезы..." <261>, нового фактического состава. Не следует забывать,
что "право имеет собственную логику, связанную со сферой собственного опыта, и... не
может принимать данные и термины обыденного опыта и механически переносить их в
свой". Не следует также "забывать, что существует для права не quid facti <262>, но... акт,
выполняющий схему факта, т.е. акт, способный быть предпосылкой правовых
последствий" <263>.
--------------------------------
<261> Conso G. Op. cit. P. 36.
<262> Quid facti (лат.) - нечто фактическое.
<263> De Giovanni B. Op. cit. P. 69, nt. 82.
§ 11. Отрицание сопоставимости двух понятий
Кроме рассмотренных выше существуют также концепции, которые хотя и не
отождествляют недействительность с несуществованием, тем не менее по разным
мотивам отрицают возможность всякого сопоставления между ними.
Так, например, Скализи вообще не признает за категорией несуществования никакой
raison d'etre, но не потому, что идентифицирует ее с категорией ничтожности, как делает
только что рассмотренное направление, а потому что вытесняет ее другой категорией -
юридической иррелевантностью. "В отношении... между правом, событиями и поведением
человека, - пишет он, - нет пространства для проблемы существования или
несуществования, но только релевантности или иррелевантности: юридическое
существование и несуществование являются не аксиологическими категориями и даже не
логическими позициями или юридическими свойствами, но проще - описательными
формулами "быть" или "не быть" в праве, что находит в другом месте собственную
нормативную квалификацию ценности (позитивную или негативную), именно в
юридической релевантности или иррелевантности рассматриваемого феномена" <264>.
Нетрудно видеть, что понятие релевантности/иррелевантности, предложенное автором, по
существу ничем не отличается, несмотря на его утверждение <265>, от понятия
существования/несуществования, мыслимого в качестве автономной категории.
Следовательно, против данной теории могут быть выдвинуты все те возражения, которые
уже были противопоставлены концепциям, поддерживающим разграничение
недействительности и несуществования.
--------------------------------
<264> Scalisi V. Op. cit. P. 206.
<265> См.: Ibid. P. 205 s.: "...Основной заслугой (теории) юридической
релевантности, - пишет Скализи, - было то, что она позволила преодолеть пробелы
доктрины юридического существования/несуществования и прежде всего установить
границы, в которых может законно ставиться проблема валидности/инвалидности
юридической сделки". Однако на выполнение той же самой функции претендует, как
было показано выше, и категорийная пара юридического
существования/несуществования. Ср.: Ibid. P. 206: "...Оценка в терминах
валидности/инвалидности имеет своей необходимой и обязательной предпосылкой
юридическую релевантность интереса... представая как результат последующей и
отличной фазы процесса нормативной квалификации интереса в его устремленности к
полной реализации".
Другой автор, Томмазини, относит несуществование и ничтожность к двум
различным уровням реальности: первое - к юридической иррелевантности, а вторую - к
юридической релевантности, выводя из этого невозможность какого-либо
противопоставления между ними. "Несуществование, - пишет он, - никоим образом не
является показателем квалификации в области патологии волеизъявлений, не вводит в
действие никакого механизма, относящегося к сфере права, и нет ни необходимости, ни
возможности проводить дифференциацию по отношению к ничтожности. Если какое-либо
различие и мыслимо, то оно в самом существе: ...разница между двумя фигурами состоит
разве только в плане... релевантности, представляя несуществование как форму
иррелевантности, а ничтожность - как форму юридической релевантности (негативной).
Но этим отрицается, очевидно, само значение разграничения, которое предполагает...
принадлежность явлений, подлежащих разграничению, к одному и тому же уровню
реальности, а критерий релевантности/иррелевантности не отвечает этому принципу,
поскольку данная альтернатива предполагает различие уровней, которые гетерогенны и
несопоставимы между собой" <266>.
--------------------------------
<266> Tommasini R. Op. cit. P. 873.
Думается, что этот подход скорее избегает проблемы разграничения ничтожности и
несуществования, чем решает ее. Действительно, если бы было так, как пишет Томмазини,
то сама проблема несуществования никогда бы и не возникла. Между тем если допустить,
что несуществование принадлежит к области иррелевантности, ничтожность же - к
области релевантности, из чего, собственно, исходит большинство сторонников
разграничения этих понятий, то следовало бы, напротив, провести между ними четкие
границы как между двумя смежными категориями. И потом, неверно утверждение
Томмазини, будто бы "так называемая несуществующая сделка не представляет ни в
отношении типичной схемы, ни в отношении других схем (правовой. - Д.Т.) системы
какой-либо практической проблемы, подлежащей разрешению посредством правовых
последствий, в то время как ничтожная сделка поднимает практическую проблему,
которую право решает отрицанием действительности сделки" <267>. Практическая
проблема, конечно же, существует, что находит выражение в рассмотренной выше
теоретической дискуссии, и подтверждается, между прочим, также российской
юридической практикой, в которой именно практические вопросы поднимают проблему
соотношения недействительности и несуществования юридической сделки во всей ее
остроте.
--------------------------------
<267> Ibid. P. 874.
§ 12. Позиция российского законодательства
В отечественной юриспруденции и правоприменительной практике рассматриваемая
проблема, при отсутствии ее какой-либо теоретической разработки, приобретает реальное
практическое значение благодаря введению понятия несуществования - в облике так
называемого незаключенного договора - непосредственно в систему легальной
терминологии. В связи с этим вспоминается старый академический спор, происходивший
одно время в итальянской доктрине между двумя авторитетными юристами, о причине, по
которой законодатель не устанавливает несуществование прямо в тексте закона подобно
тому, как он, напротив, делает это в отношении ничтожности. "...Норма, - утверждал
проф. Туллио Аскарелли, - не может напрямую санкционировать несуществование; дело в
том, что норма, чтобы быть применимой, предполагает существование фактического
состава..." <268>. Его оппонент, проф. Франческо Карнелутти, возражал ему, что закон не
предусматривает несуществование не потому, что не может его предусмотреть, но
потому, что оно не отличается и не может отличаться от ничтожности <269>. Этой
проблемы, однако, не существует для российского законодателя, который, не интересуясь
подобными теоретическими абстракциями, казалось бы, прямо предусматривает
несуществование, под именем незаключенного договора, в тексте закона.
--------------------------------
<268> Ascarelli T. Op. cit. P. 63.
<269> Carnelutti F. Op. cit. P. 210.
В некоторых случаях это понятие выражено текстуально, когда в законе прямо
говорится, что договор "считается незаключенным" (при несогласовании условия о цене в
договоре продажи недвижимости - абз. 2 п. 1 ст. 555 ГК, при несогласовании размера
арендной платы в договоре аренды зданий и сооружений - п. 1 ст. 654 ГК, в случае
отсутствия реальной передачи денег по договору займа - п. 3 ст. 812 ГК) или что договор
"не считается заключенным" (при несогласовании количества товара в договоре купли-
продажи - п. 2 ст. 465 ГК, предмета договора продажи недвижимости - ч. 2 ст. 554 ГК,
объекта аренды - п. 3 ст. 607 ГК). При этом, как видим, законодатель использует не
вполне адекватный с логической точки зрения лингвистический прием, когда для ясности
языка отрицающая характеристика "незаключенности" предицируется договору как
некоторой данности, которая уже гипотезирована названными положениями закона как
нечто "существующее", но с присоединением к ней негативного предиката как бы
"утрачивает" свое существование. Это, впрочем, неизбежно, когда вообще пытаются
говорить о несуществующем, и связано с особенностями человеческого мышления (а
следовательно, и языка) как такового <270>.
--------------------------------
<270> Ср. к этому выше, § 4, сн. 135 и текст, к которому она относится.
Применительно к языку римских юристов, в котором несуществование юридической
фигуры выражалось предикатом nullum esse, см.: Talamanca M. Inesistenza, nullita ed
inefficacia. P. 17 (в рус. пер.: Таламанка М. Указ. соч. С. 33): "Во фразах, в которых чему-
либо предицируется nullum esse, утверждается, что не существует подлежащего - в нашем
случае фигуры сделки, - к которому относится неопределенное прилагательное nullus".
При этом, как уже отмечалось выше (см. § 5), римлянам не было известно
противопоставление "ничтожных" и "несуществующих" ("незаключенных") сделок.
В других случаях, когда нет подобных прямых указаний, "незаключенность"
договора при несогласовании существенных условий выводится доктриной и судебной
практикой логическим путем из позитивно сформулированных установлений - общего
правила п. 1 ст. 432 ГК, согласно которому "договор считается заключенным, если между
сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора", а также из нередко встречающихся специальных
указаний о том, что тот или иной договор считается заключенным, если сторонами
согласовано такое-то условие <271> или выполнены дополнительные условия,
касающиеся формы или момента заключения договора <272>.
--------------------------------
<271> Например, при продаже товаров в рассрочку (абз. 2 п. 1 ст. 489 ГК).
<272> В частности, договора розничной купли-продажи (ст. 493 ГК), розничной
купли-продажи с использованием автоматов (п. 2 ст. 498 ГК), энергоснабжения (абз. 1 п. 1
ст. 540 ГК), займа (абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК).
Однако, несмотря на употребление приведенной терминологии, какая-либо строгая
концепция "незаключенности" в российском законодательстве отсутствует. Закон
содержит в рассматриваемой области весьма путаные и двусмысленные формулировки, не
позволяющие ни установить, когда именно имеет место недействительность, а когда
"незаключенность", ни понять, в чем состоит с юридической точки зрения разница между
ними.
Обычно соответствующие термины, указывающие на "незаключенность" или,
напротив, "заключенность" договора, используются в связи с установлением его
существенных условий и требования о его государственной регистрации. В связи с этим
практически общепризнано, что в случае несогласования какого-нибудь из существенных
условий или отсутствия государственной регистрации, когда она требуется по закону,
договор является незаключенным. Этой позиции достаточно уверенно придерживается и
судебная практика <273>. Однако посмотрим, настолько ли все так определенно в самом
законе.
--------------------------------
<273> См., напр.: п. 2 прил. к инф. письму Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2002
г. N 69 "Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены" (Вестник ВАС
РФ. 2003. N 1); Обобщение практики рассмотрения судами РФ дел по спорам между
гражданами и организациями, привлекающими денежные средства граждан для
строительства многоквартирных жилых домов // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. N
2; Постановления Президиума ВАС РФ от 13, 15 и 20 февр. 2002 г. N 4658/00, 7715/01 и
6810/01 (Вестник ВАС РФ. 2002. N 5, 7, 8); от 27 апр. 2002 г. N 11011/01 (Вестник ВАС
РФ. 2002. N 9). И наоборот, договоры, отвечающие этим требованиям, считаются
заключенными (см., напр.: Постановление Президиума ВАС РФ от 14 янв. 2003 г. N
9523/02 // СПС "КонсультантПлюс: Арбитраж").
Прежде всего необходимо отметить отсутствие четкой легальной концепции
существенных условий договора. Устанавливая, что "договор считается заключенным,
если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто
соглашение по всем существенным условиям договора", и что существенными являются в
том числе "условия, которые названы в законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров данного вида" (п. 1 ст. 432 ГК),
законодатель иногда называет в качестве необходимых такие условия, согласование
которых на самом деле не влияет на заключение договора, так как в том же законе
имеются диспозитивные нормы, позволяющие восполнить в этом смысле пробел
волеизъявления сторон.
Так, согласно п. 1 ст. 339 ГК в договоре о залоге "должно... содержаться указание на
то, у какой из сторон находится заложенное имущество". Такая формулировка, взятая в
совокупности с приведенными выше положениями п. 1 ст. 432 ГК, может дать основание
лишь для одного вывода, а именно, что указанное в ней условие является существенным и
без его согласования договор не считается заключенным. Однако на самом деле вопрос о
том, у какой из сторон находится заложенное имущество, уже решен в п. 1 ст. 338 ГК
(диспозитивно в отношении залога движимостей и императивно применительно к
ипотеке), что исключает признание данного договора незаключенным. При этом остается
неясным, какую в таком случае смысловую нагрузку с точки зрения права несет
выражение "должно содержаться условие...". Примеры подобного установления в законе
"существенных" условий для отдельных видов договоров могут быть легко умножены
<274>.
--------------------------------
<274> Такая путаница в законе негативно отражается и на судебной практике. Так,
Президиум ВАС РФ отменяет постановления нижестоящих судов, признающих договоры
незаключенными вследствие несогласования в них условий, в самом законе указанных в
качестве существенных или необходимых, на том основании, что в действительности эти
условия существенными не являются (см., напр.: Постановления Президиума ВАС РФ от
28 мая и 18 июня 2002 г. N 1663/01, N к1663/01 и N 2327/02 // Вестник ВАС РФ. 2002. N
9).
Иногда категория "существенных условий" служит законодателю инструментом
целенаправленного установления "незаключенности" договора в тех случаях, когда этого
требуют, по его мнению, задачи правовой политики. Однако, стремясь через введение
дополнительных существенных условий косвенно санкционировать, при их
несогласовании, "незаключенность" договора, законодатель не всегда учитывает то
обстоятельство, что понятие существенных условий все же имеет определенные границы
и в него нельзя включать чуждое ему содержание <275>. Так, например, в п. 1 ст. 558 ГК в
качестве дополнительного существенного условия договора продажи жилого помещения
назван перечень лиц, сохраняющих по закону право пользования этим помещением, с
указанием их прав на пользование. Между тем подобные сведения не имеют никакого
отношения ни к существенным условиям, ни к содержанию договора вообще, поскольку
отражают реально существующие права третьих лиц, действующие абсолютно,
независимо от каких-либо соглашений между продавцом и покупателем жилья, а потому
не требующие, да и не допускающие никакого согласования. Включение в договор такого
перечня выполняет исключительно информативную функцию, доводя соответствующие
сведения до покупателя, который, по оценке законодателя, должен ими располагать,
чтобы сделать свободный выбор относительно заключения договора, а также до
регистрирующего органа. Тем не менее, исходя из некорректной законодательной
формулировки, доктрина усматривает в отсутствии такого перечня именно
"незаключенность" договора <276>.
--------------------------------
<275> Интересный обзор и классификацию "условий", отнесенных законодателем к
числу "существенных", но на самом деле не являющихся таковыми или даже вообще не
являющихся договорными условиями, см.: Степанова И.Е. Существенные условия
договора: проблемы законодательства // Вестник ВАС РФ. 2007. N 7. С. 60 - 66.
<276> См., напр.: Гутников О.В. Указ. соч. С. 102. Такого же мнения придерживается
И.Е. Степанова, несмотря на то, что обоснованно не признает упомянутый перечень
договорным условием, в связи с чем de lege ferenda предлагает "предусмотреть на этот
счет иные последствия, чем ничтожность ("незаключенность") договора", а именно
возникновение у покупателя права на расторжение договора или на его аннулирование как
оспоримого (см.: Степанова И.Е. Указ. соч. С. 64 и сл.). Но если в данном случае, невзирая
на буквальную формулировку закона (п. 1 ст. 558 ГК), речь не идет, по мнению автора, о
существенном условии (и с этим ввиду изложенного выше следует согласиться), то не
ясно, на основании чего делается вывод о "незаключенности" договора продажи жилого
помещения при отсутствии в нем требуемого перечня.
Конечно, в условиях криминализации рынка жилья и массового нарушения
интересов граждан в этой сфере стремление разработчиков Гражданского кодекса скорее
"перестраховаться", чем допустить пробел в регулировании, вполне понятно. Однако для
решения этой действительно социально важной проблемы избрано ненадлежащее
юридическое средство, вследствие чего вместо имевшегося в виду блага возникают все
новые трудности. Помимо того, что такое регулирование избыточно (так, можно было бы
просто установить, что указанный перечень должен содержаться в договоре, и тогда его
отсутствие автоматически, в силу ст. 168 ГК, означало бы ничтожность сделки), оно
порождает новую проблему - проблему защиты приобретателя жилья, который не был
информирован о правах третьих лиц на жилое помещение, и теперь, после того как его
договор оказывается "незаключенным", может предъявить продавцу лишь требование о
возврате неосновательного обогащения, но не о применении к нему договорной
ответственности (поскольку договор "не заключен") <277>. Кроме того, как было
справедливо замечено, предписания, подобные п. 1 ст. 558 ГК, имеют целью, как правило,
защиту интересов одной из сторон, однако отнесение предусмотренных ими договорных
положений к числу существенных условий позволит заявить о "незаключенности" сделки
и другой стороне, между тем как защищаемая сторона, в пользу которой установлено
соответствующее требование, может в действительности быть согласной с обременением
купленного имущества правами третьих лиц или, во всяком случае, предпочесть его
отсутствию договора <278>.
--------------------------------
<277> О проблеме защиты интересов добросовестного приобретателя, не
становящегося собственником в силу ст. 302 ГК, и ее предпочтительном решении см.
ниже, § 50.
<278> См.: Степанова И.Е. Указ. соч. С. 64.
Возвращаясь к формулировке п. 1 ст. 432 ГК, обратим внимание, что она указывает в
качестве условия, при котором договор считается заключенным, не только достижение
соглашения по всем его существенным условиям, но также достижение этого соглашения
"в требуемой в подлежащих случаях форме". Это указание редко комментируется, а
между тем, если следовать букве закона, договоры, не оформленные в установленном
порядке, следовало бы считать такими же незаключенными, как и договоры, в которых не
достигнуто соглашение по одному из существенных условий. Однако кроме правила п. 1
ст. 432 ГК имеются и другие, еще более общие предписания относительно формы сделок,
согласно которым несоблюдение формы иногда влечет ничтожность сделки (п. 2, 3 ст.
162, п. 1 ст. 165 ГК), а иногда вообще не влияет на ее действительность, исключая лишь
возможность доказывать посредством свидетельских показаний сам факт совершения или
содержание сделки, которая, таким образом, рассматривается как действительная (п. 1 ст.
162 ГК) <279>. Получается, что незаключенные с точки зрения п. 1 ст. 432 ГК договоры
могут быть одновременно ничтожными либо действительными - ситуация, которая никак
не укладывается в рамки доктрины, стремящейся отграничить недействительность от
несуществования. И закон не приходит ей на помощь, не давая никакого указания для
разрешения этого противоречия <280>.
--------------------------------
<279> Нельзя согласиться с выводом, что такая сделка является недействительной, а
невозможность ссылаться на свидетельские показания в ее подтверждение представляет
собой один из примеров, когда "недействительные сделки по прямому указанию закона
порождают правовые последствия, отличные от последствий их недействительности"
(Сергеев А.П. Некоторые вопросы недействительности сделок // Очерки по торговому
праву: Сб. науч. тр. Вып. 11 / Под ред. Е.А. Крашенинникова. Ярославль, 2004. С. 19 и
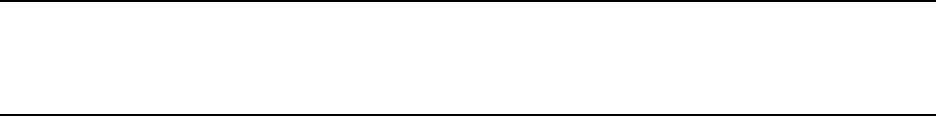
сл.). Если бы такая сделка была недействительной, как полагает А.П. Сергеев, то
проблемы использования свидетельских показаний вообще бы не возникало, ибо нечего
было бы и доказывать.
КонсультантПлюс: примечание.
Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие
положения" (Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - Статут,
2001 (издание 3-е, стереотипное).
<280> На то, что в этом случае "создается определенная коллизия норм", одним из
первых обратил внимание М.И. Брагинский (см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ.
соч. С. 251 и сл.). Будучи сторонником четкого разграничения "несостоявшихся" и
недействительных сделок (Там же. С. 249 - 252), автор тем не менее воздержался от каких-
либо предложений ее возможного решения. Обоснованность данного разграничения,
несмотря на отмеченное противоречие, не вызывает сомнений и у В.А. Белова, который в
связи с этим лишь констатирует, что "в Кодексе смешаны две различные вещи -
недействительность договора и его отсутствие" (Белов В.А. Указ. соч. § 520. С. 262; см.
также ниже, § 13, сн. 295). На коллизию норм ГК, определяющих последствия
несоблюдения формы сделки, обращает внимание также Н.Д. Шестакова, по мнению
которой "необходимо устранить коллизию норм путем определения случаев, когда
несоответствие формы сделки требованиям закона или соглашения сторон влечет
недействительность сделки, а когда сделка считается незаключенной" (Шестакова Н.Д.
Недействительность сделок. СПб., 2001. С. 41). Остается, однако, объяснить, зачем
вообще нужно проводить в законе подобное разграничение.
Не менее двусмысленны и противоречивы законодательные предписания о
государственной регистрации некоторых сделок. Согласно п. 3 ст. 433 ГК "договор,
подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его
регистрации, если иное не установлено законом". А в соответствии с п. 1 ст. 165 ГК
"несоблюдение... в случаях, установленных законом... требования о государственной
регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной".
Также и в специальных нормах ГК иногда содержатся предписания, что договор подлежит
государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации
<281> (и при несоблюдении этого требования доктрина и судебная практика
рассматривают его как незаключенный), а иногда - что невыполнение требования о
государственной регистрации договора влечет его недействительность и (или) что такой
договор считается ничтожным <282>.
--------------------------------
<281> Сюда относятся: продажа жилого помещения (п. 2 ст. 558 ГК); продажа
предприятия (п. 3 ст. 560 ГК); договор аренды здания или сооружения на срок не менее
года (п. 2 ст. 651 ГК); аренда предприятия (п. 2 ст. 658 ГК).
<282> См., напр., абз. 3 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 16 июля 1998 г. "Об
ипотеке (залоге недвижимости)" (СЗ. 1998. N 29. Ст. 3400): "Несоблюдение правил о
государственной регистрации договора об ипотеке влечет его недействительность. Такой
договор считается ничтожным"; п. 4 ст. 339 ГК, устанавливающий в этом случае
недействительность договора о залоге; п. 2 ст. 1028 ГК, говорящий о том, что
незарегистрированный договор коммерческой концессии считается ничтожным; п. 6 ст.
1232, п. 2 ст. 1234, п. 2 ст. 1235 ГК, предусматривающие недействительность договора об
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации, а также договора о предоставлении другому лицу права
использования такого результата или такого средства (лицензионного договора).
Впрочем, в отличие от предписаний о форме договоров, в данной области все же
существует, казалось бы, некоторая ясность. В соответствии с буквальным смыслом
