Соколов Б.Г. Гипертекст истории
Подождите немного. Документ загружается.

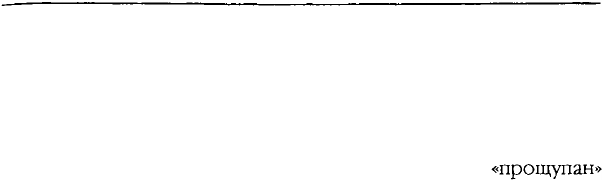
И
с
т
о
р
ия
о
б
ист
о
р
ии
н
ы. С др
ой
,
этот процесс есть полное развертьrвание е за
ложенного в новоевропейском субъее: предьное торжество
иивиьности,
подчи
ющей своему влычеству любую
тотьность. И в этом
смысле апокипсис иверсьной исто
р
ической размернос - это роение анарзма
индивиду
альности,
того анархизма, который лишь бьm
«прощан·>
М.Ш
тирнером и Фр.Ницше. Того анархизма, который обраща
движение
,
фо
рмующее индивида: движение ид от индивида к
тотьным стррам, а
н
е так, как сейчас, от тотьных
струк
к индив,
ибо в век компьютеров звезды е подсчитаны,
т
а
к
же как и песчин на бере морском. Возмо�о, те
песчин
, которые, к
ак
дум М.О, лишь до первой волны сохранят
на бере написанное и человека ...
155
Часть III

1. Тезис
Часть III
Г
и
п
е
рт
е
кст ист
о
рии
Гла
в
а I
Тези
с
и
з
а
чи
М
ы
д
о
с
т
а
т
о
ч
но долго
рассали об истории вообще, о те
ем
состоянии универсьно
исторической размерности
сознан
с одной лишь
целью, а
именно: предло
т
ь наиболее
оп
т
и
м
ьную
модель
выстраивания истории, которая, по наше
мнению, сейчас возмо
жна, Т.е. модель
наиболее
еква
ю
со
временн
ы
м реалиям и
современной конфирации сознания.
Собственно говоря тезис таков: Г
и
nе
р
т
ек
с
т
ов
а
я
мул ь
т
е
д
и
й
н
м
о
дЬ
,
м
о
дь
и
сп
ющ
сист
у орга
н
ац
ии
м
и
ра
И
н
те
р
не
с
е
т
ь г
и
n
е
р
сс
ОК,
в
ст
ь вюче
н
ви
д
е
о
и ау
д
и
оцит
а
т я
ется
н
а
с
его
д
ш
ни
й
дь
н
а
и
Бее
о
n
т
и
мы-юй м
о
дью
и
с
то
ри
че
с
ког
о
по
в
е
ст
в
ова
ни
я
. Б
олее того,
по
добн
модель представляется наиболее приеемым спосо
бом
организации не
только историческо
го материа, но она
оказ
ыв
ается
наиболее екватной современной размернои,
ко
н
фи
а
ц
ии европейско
г
о сознания.
2. Задачи
Н
о
ч
т
о
б
ы
по
д
ойти
к это тези,
доказать его а
ьно
и
дейс
тв
енность,
нам слеет прее всего сфорлирова те
ебования,
которым, по нашему мнению, ДОа отвечать со
вре
м
енная модель
организации исторического материа, те
зачи, кото
ры
е дона решать э модель.
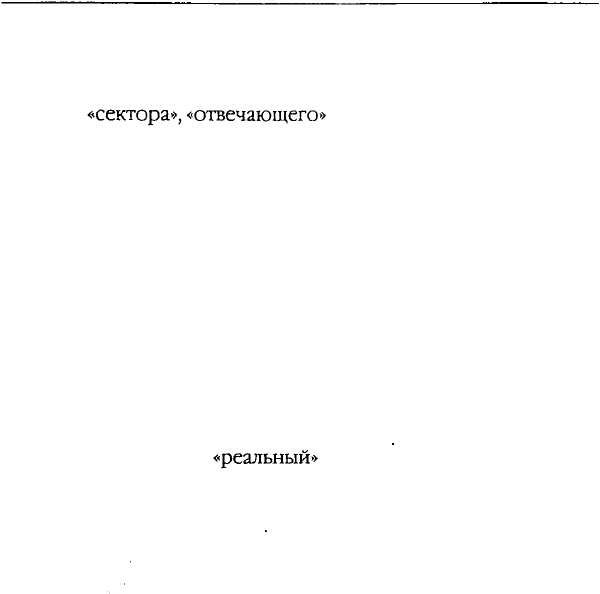
160
1.
Ча
с
т
ьI
Прее всего, модель должна соотвствовать реь
но
состоянию и
конфирации европейского взгляда
сознания. Мы охарактеризовали его в отношении его
«сектора·), «отвечающего·)
за историю, как угасание уни
BepcьHo исторического взгда.
2.
Предлагаема
я модель дона итывать овень со-
временной
технологии и те реии современности, ко
торые
связаны с переходом в массовом масштабе от
кн
ой модели
хранения и передачи знания к ин
формации, помещенной на элеронные н
осители
.
3
.
Соответсенно, наиболее оптимьная модель должна
использовать и в
этом отношении соответствовать
но
вым
подходам (дрейф от знания к информации) и но
вым технологиям.
4.
И насколько это возмоо, предлагаемая
модель до
на отрать
«реальный.)
интерпретационный процесс
посения и моделирования истории.
решен
указанных задач нам необходимо будет еще раз
останови
ться на тек
ем состоянии европейского
ль
ного
и
технологического контекста, на реи и возмоостях, ко
торые открыва перед человечеством мир информационных
технологий и мир
Интернета.
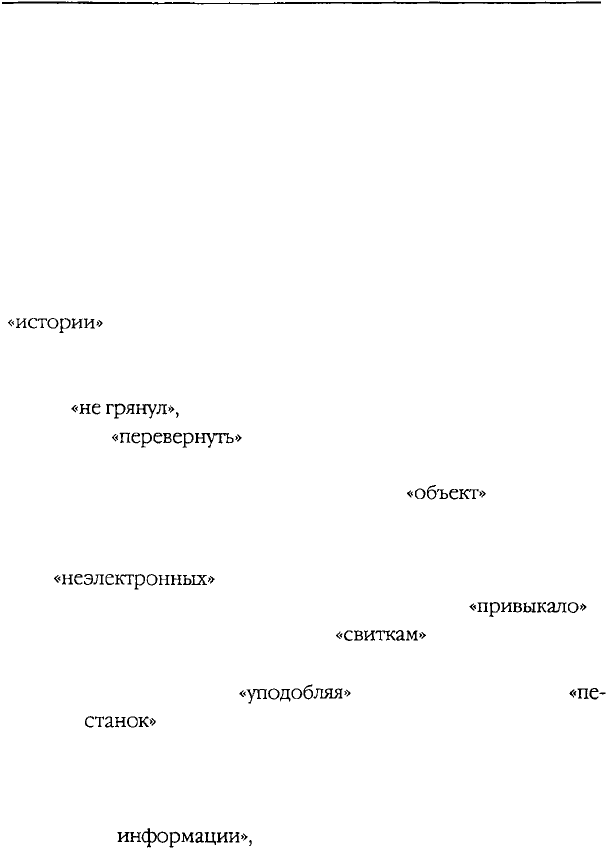
Г
и
п
е
р
те
к
ст
и
ст
о
р
ии
Глава Il
К
о
не
ц: ч
е
л
о
в
е
к
а, к
о
н
е
ц
э
р
ы
и
г
и
.
П
е
р
еход о
т мод
е
л
и
знан
и
я
к
м
о
д
е
л
и и
н
ф
орм
а
ции
Д
ав
н
о
е п
р
едсказа
н
ны
й
кон
ец
э
ры
и
г
и
н
а
с
пил
. По
добн
о а
п
ок
ип
с
и
с
у
, кото
р
ы
й
, как
г
ова
р
и
в
и
м
и
стик
и
, е н
а
с
и
л,
н
о вот мы
пока еще
э
того
н
е
з
н
аем
. Так
и
ко
н
ец э
по в
«
и
с
то
рии»
ч
ове
ч
ес
а,
кот
о
р
ы
й
х
а
р
а
ер
из
ов
с
я
о
пределе
н
ным
способ
ом зап
и
с
и
и к
омпоновк
и - б
ез
р
азл
и
ч
-
и
ер
о
гли
ф
и
ч
еское л
и,
б
у
кве
н
н
ое ли
н
а
ч
е
р
та
н
ие, св
и
т
ок
и
л
и ма
н
у
с
к
р
ип
т
- е
с
л
и
«
н
е г
р
я
л
»
,
то, по, к
р
а
й
н
е
й
, ме
р
е почт
и
б
лизко
.
..
Можно
«пе
р
еве
рн
изве
ст
ю фр
азу М.Булгаков
а - руко
п
ис
и
н
е г
о
р
ят - кн
и
г
и
и
р
оп
и
с
и
н
е г
о
р
я
т
,
он
и
у
же
с
го
р
ел
и
и
и
ст
лел
и
.
о, конечн
о, н
е з
н
а
чит,
ч
то как
«об
ъ
ект»
ига обр
е
ч
ен
а
н
а н
еме
д
ле
н
н
ое
и
сч
ез
н
овени
е и ее мес
т
о
в ант
и
чн
о
й
лавке
н
а
р
яд
у
с т
ем
и
д
р
ев
н
и
ми С
а
с
ко
р
о, мож быт
ь
,
это
судьб
а и л
ю
бых
(,
н
е
э
ле
р
он
н
»
д
е
не
г)
мо
н
ет
ам
и
, н
а которые
у
же
н
т
о
н
е
пиш
ь
.
Ч
еловеч
ество не год
и
н
е
стол
е
т
и
е
(,
п
р
и
выко»
к
и
г
е, пе
р
е
у
чи
вось
чит
ат
ь
не по
(
,
св
и
ткам»
и
л
и
гл
и
н
я
ным т
а
б
л
и
ц
ам
.
А
за
т
ем, п
р
и
с
посаб
ли
в
себ
я,
измея
с
еб
я, одно
в
р
е
ме
н
н
о п
р
испо
с
абл
и
в
,
('упод
об
я»
се
б
е
и,
изобре
«пе
ч
а
т
н
ы
й
с
т
анок»
и пр., оно с
о
з
дало н
аи
бол
ее пр
иемлемы
й
в
ар
и
а
н
т х
р
а
н
е
ния з
н
ан
и
й
.
Н
е за од
ин
де
н
ь ига в
современном
с
в
о
ем
в
иде вошл
а в м
и
р ч
еловека,
н
е за од
и
н
де
нь
и и
с
ч
ез
н.
Ч
о
век с
р
од
н
и
лся с кн
и
го
й, он
а ст
а
н
е
т
ол
ь
ко удобным сред
с
о
м
(
·
х
р
ан
е
н
ия
и
н
фо
р
м
а
ц
ии
»,
н
о обросла леген
дам
и
, тр
и
цм
и
,
с
а,
н
аконец, с
и
мв
о
лом ... Все
э
т
о
не
из
в
еш
ь за
н
ескольк
о
де
с
я
т
иле
ти
й
импе
ри
ал
и
зма комп
ью
те
р
ны
х
техно
логи
й
. Люм,
к
ото
р
ы
е л
иш
ь
в п
о
следн
ие де
с
ят
и
л
ст
и
п
р
и
выка
т
ь к мер-
161
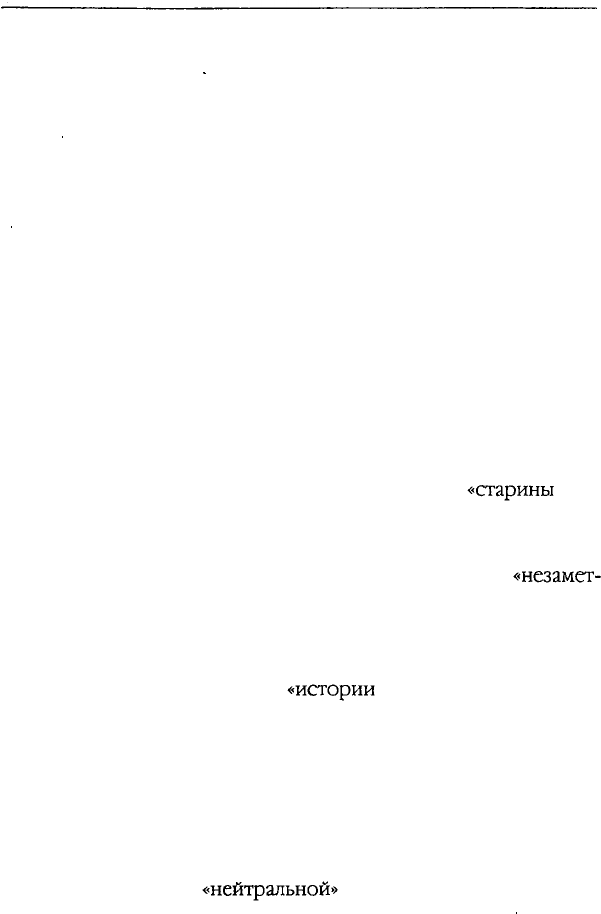
162
Ч
а
с
т
ъШ
ц
ающем
у о
г
ню м
он
и
т
ор
а
,
не
т
а
к
лег
к
о
о
т
к
аза
т
ь
ся
о
т
П
ОД
РН
О
с
т
и И
<
-
р
е
ь
н
о
й
о
сяз
аем
о
ст
и·
>
гл
к
их л
и
с
т
о
в
б
у
маг
и
.
.
.
Т
о
, что мы
не
с
р
а
з
у
-
в
о
з
мож
н
о
и н
и
ког
д
а - от
к
ем
с
я о
т
и
г
и
, в
ы
зв
а
но
,
п
о
т
н
о
,
не
т
ол
ько
п
ри
в
ыч
к
о
й
или
т
р
а
д
ицие
й
.
Е
и х
о
т
е
,
к
ни
га <
-
п
о
д
г
о
н
ас
ь
» п
о
д
чел
о
в
е
к
а
,
у
п
о
д
о
б
ас
ь
ч
о
в
е
в
е
к
ам
и и
з
а
э
т
о
вр
е
<
-
в
пи
т
ала·
>
В с
в
о
й
о
б
ли
к
т
е
<
-
по
е
б
н
о
ст
и.
>
,
ко
т
о
рые
ино
г
д
а
д
а
же не
в
оз
м
о
ж
н
о
яс
н
о сфо
р
му
л
и
р
о
в
а
,
н
о к
о
т
ор
ые с
т
ан
о
вя
т
ся
в
и
д
н
ы
в
и
н
о
м сп
о
со
б
е
<-
х
р
анения
ин
ф
о
р
мац
ии
�
,
н
а
к
а
ко
в
о
й
<
·
п
р
е
т
ен
д
у
е
т
,
>
ко
мп
ь
ю
т
е
р
.
П
р
и
в
е
д
у
о
д
ин п
р
о
ст
о
й
и
до
в
ол
ь
н
о р
асп
ро
с
т
р
а
н
енны
й
п
р
име
р
.
Н
е
в
се и
н
е вс
е
а
п
р
и
аю
т
ся
б
ыс
т
ро
т
во
р
и
т
ь
, со
чи
н
я
т
ь
на
к
о
мп
ь
юте
р
е,
п
р
почита
я
и
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
даже
не печа
машин
к
у
,
н
о
о
б
ы
о
в
енн
у
ю
ру
чку
и
л
и
с
т
б
у
маг
и.
П
р
ичин
ы,
н
а
к
о
т
о
р
ые ссы
л
аю
т
с
я п
р
и
в
ы
к
ш
ие
р
а
б
о
тат
ь
<· П
О
с
т
а
р
ин
к
е
·
>, ко
нечн
о р
а
з
ные
:
о
т
(-
р
а
з
др
ен
·
>
о
т
м
е
р
цающе
г
о экр
а
н
а
д
о
о
б
ъ
яс
н
ения
т
ип
<
-
,
д
е
р
жащ
ру
ч пише
т
«
о
т
се
р
дца
·>
.
В
о
з
м
о
о
,
и э
т
о
п
о
чт
и
в
е
ро
я
т
но
, пе
р
ех
о
д
о
т
«с
т
а
р
ины
к
ни
ГИ+ К
э
ле
о
нн
о
но
си
т
ю вызван пе
р
е
о
смысле
нием
<
-
б
а
з
о
в
ы
х
·>
о
р
иен
т
и
р
о
в
ч
о
в
еческ
о
го с
у
ще
в
о
в
а
ния
.
Мы
,
люди
к
о
н
ца
д
в
ц
а
т
о
г
о и н
а
ча д
в
ца
пе
р
в
ог
о
ве
к
а,
к
а
к т
о
«не
з
аме
т
н
о
·>
с
м
ен
и
о
р
ие
н
р
з
н
ан
на н
о
в
ы
й
ор
иен
р -
инф
о
р
ма
ю.
И
н
ым
и о
в
ам
и п
р
о
и
с
х
од
ящ
т
р
а
н
с
ф
о
р
м
ац
ия
к
н
и
г
и
в
э
л
е
о
н
ные н
о
с
и
те
л
и, е
сл
и н
е в
ы
з
в
а
н
а
, т
о, по к
ра
й
не
й
ме
р
е
,
бл
и
ру
е
т
ся
т
ем
д
р
е
й
ф
о
м
в
«и
с
т
ор
ии
иде
й
.
>
,
ко
т
оры
й
мо
жн
о
ох
ара
е
р
и
з
о
ва
, к
а
к
пе
р
ех
о
д о
т
з
н
ания
к
ин
ф
ор
мац
ии
.
Т
епе
рь
п
р
е
д
п
о
ч
ит
аю
т р
асс
а
не
о
з
нан
ии
,
о
р
иен
т
и
р
о
в
а
т
ь
ся
на
з
н
ание, к
н
е
стр
е
м
и
ся
,
н
о о
б
л
а
т
ь
,
в
лас
т
в
о
ват
ь
н инф
о
р
мац
и
е
й
.
П
о
т
н
о
,
чт
о
з
н
а
ние
,
к
о
т
оро
е с
не
о
б
хо
д
и
м
о
с
т
ь
ю п
р
е
ду
см
а
т
р
и
в
а
с
о
-
б
ы
т
и
йн
у
ю с
о
ч
л
ененн
ос
т
ь
с
о
б
ъ
е
о
м
ч
ело
в
е
к
а
,
н
е
к
о
е
о
ры
т
о
е
<
-
е
д
инен
и
е
б
ъ
е
а
и
о
б
ъ
е
а
·
>,
д
олж
н
о
б
ы
диа
н
ц
и
р
о
в
ан
о
о
т
«не
й
тр
ь
н
о
й
.
>
инф
ор
ма
ц
ии
.
Г
р
у
б
о
гов
о
р
я
,
вс
е
нн
з
на
ния
в
кор
не
о
т
личае
т
ся
о
т
вселе
нно
й
ин
фо
р
ма-
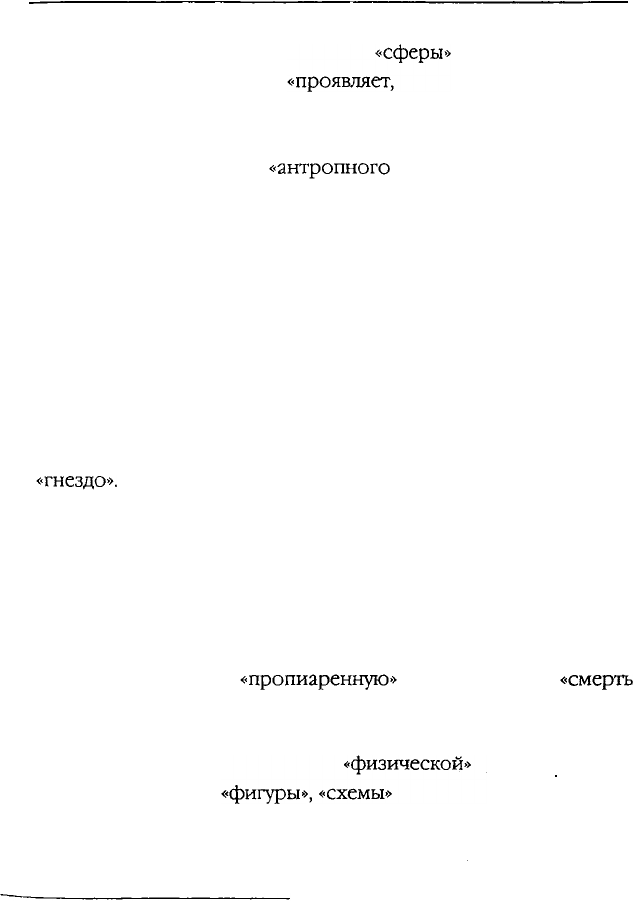
Г
и
п
ер
т
е
к
ст и
стор
и
и
ции, как по месту человека в дв различных систем так и по
самой струкре, которой эти две
«сферы.)
облают. Можно
сказать, что знание всегда
«проявляет,
ссылася на единение·),
на определенн точ центрацииl, информация же как тако
в
, которая может быть представлена как нечто вполне дис
кретное, отделенное от
«антропного
принципа·>, Т.е. вовсе не
пресматривает подоб центрацию.
охо это или хорошо? Мне кажется, здесь не место по
добного рода оценок о - реальность, с которой, хотим ли мы
этого или не хотим, приходится и прется считаться. Это тот
мир, в котором мы вем, вернее, тот мир, который мы творим
нашим взглядом.
В чем же причины происхощего перехода от знания к ин
формации, и, соответственно, причина смерти книги? Причина,
как всегда не одна, причин много, или, используя выражение
Л.ВитгенштеЙна (сказанное, правда, по дрому поводу), целое
«
г
нездо·>. В этом отношении выстраивание причинного ра, а
вернее, причинн рядов, воспроизводит открытую схему со
б
ы
. Поэтому мы укем на несколько маршров причинно
г
о объяснен, поя, что и выстраивание причинного ра -
зейвует схемати интерпретационного со-бытийного
процесса.
Прее всего, мы можем указа как на причину исчезнове
ния книги на широко «пропиареню'>
В
двцатом веке
«смер
человека·>.
Взвив на себя ношу и функцию умершего Бога, че
ловек с необходимостью разделя его дьбу. Понятно, что
речь не идет и никогда не шла о
«физической.)
смер человека,
но о исчезновении
«фиы» , «схемы»
человека. Как не парок
с
ально это звучит, но горизонт человека - при всех дифирамб
манизму, личности, челове и пр. - перестает центрирова-
163
1 НаПОДОбие центрации ист
о
рическ
о
г
о
г
о
р
из
о
н
т
а на фие т
р
ансцеент
ь
н
о
ГО
о
знача
е
м
о
г
о
(см. часть П)

1
Ча
ст
ь!
ся на самого человека, понимаемого не как некое субстанциь
ное образование, но как (, точка·) пересечен человечества, ин
дива, как сочетание,
если вспомнить Гегеля, всеобщего, осо
бенного
и единичного. Таким образом, сама фиа чов
ека
,
оказалась в диссонансе с иивидом, единицей. М
о сказать,
что, если в горизонте той или иной льной триции мы
можем (.зафиксировать.) понятие человечества, осмысленное как
нечто вбирающее и дающее простор иив, то иив на
ходит в нем, (·ссьшася·) на него как на свое предельное основа
ние. Но еи же в льтном контексте посжение человече
ства дася, субснтивируся как (, всего лишЬ» нечто интер
ъеивное, как то, что выстраивается (· после·) иива (на
пример, у Гуссер), то сам иивид, сам субъе оказывася
под вопросом. Индивид оказывается безопорным, когда взви
Ba на себя бремя собственного обоснования,
Т
.е. фаичес
бремя Бога, когда выспает в роли иверсьной центрирую
щей точки.
С
нос безопорнос субъеа, иива связана с на
стоятел
ьной необходимосю его верения. Поэто
си
а
ц, аизировавшся в и уже начавшемся I
веке, про
блемачности
иива, (· предельноЙ,) су
бстантивации субъек
та напряю сзана с (' сюжетом') воли к власти, процессом
верен и самоутверения. Эта проблема достаточно рель
ефно про рисова у Фридриха Ницше. Сама же (,интрига·) и
ность проблематизации воли к асти, с нашей точки зре
н, в этом отношении проявляет об схе европейской
льной триц,
«ссьшается,)
на корни этой триции. Мы
в предей час е затрагиви этот сюжет, поэто ука
жeM лишь на некоторые основные позии. Безопорность но
воевропейского субъе - по своей си бессилие этого субъ
е, которое вызыва настоятельную необходимость само
вержден, утверен любой ценой. Однако (, система·) евро-
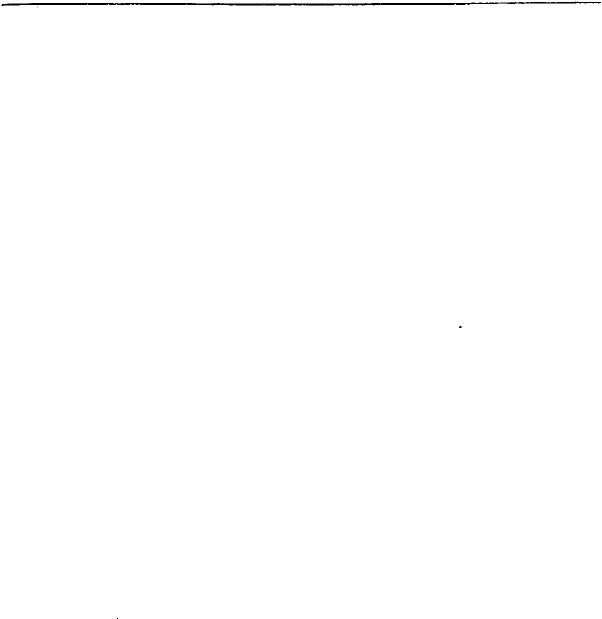
Г
и
n
е
р
те
сm
и
сmo
р
и
и
пейской льы изначально сфоромована под опреденную
опору, определенную точ центрации, которая была в Средние
века представлена фигурой
Бога. Поэтому
безопорность субъек
та, <' вызывающая к жизни'} волю К влас, волю к самовере
нию любой ценой, продолжает выстраивать схе,
централь
ной, вообраемой точкой которой мож быть лишь Бог
как
то, что готово соединить в себе все противоречия, Т.е.
быть аб
солютно всеобщим, - абсолютом. В этом
отношении точка,
н
а
которой центрируется европейская культа
изначьно <·без
личностна·>. Фигура же человека, <· став,> на место
Бога в этом от
ношении, изначьно ориентирована на обезличеннос.
Иначе
говоря, <, смерть·> человека бьmа заложена в самой схеме евро
пейской кульры, наподобие <· гена смерти·>, вызывающего, по
мнению некоторых биологов, в конечном счете, смерть
индиви
да, де если он не повергаетс
я внешней или вренней
агрес
сии.
Далее. Постепенное асание, нирвана фиры човека, ис
чезновение его из самого
горизонта льы лиша
<· схе
знания·>,
в которой фиа иива-человека играет мед
иав
и центрирующую роль, ее исходно
г
о и исконного смысла.
Знание,
став обезличенным, нейтральным, превращается в ней
тралью информаци
ю, обеспеваюю коммуникацию, в
которой
чове
ка н и не может быть места. Сочлененность
атомного оря
массового поражения и атомной энерг
(моо с горечью
добавить - массового поражения)
-
то яр
чайший пример.
Естесеннонаучное и де манитарное зна
ние
оказывася нейтральным по оошению к свое носите
лю
- к индиви
и в этом
отношении тоественно информа
ции. Сама же по себе информация, в которую <·стремится�
пре
враться в нашем льном
пространстве знание, не только
личностно
нейтрьна и потому лишена смысла - ибо смысл
всегда предполагает
центрацию и согласованность с човеком
-
она в идее своем семится погрузить человека в с бес-
1
65
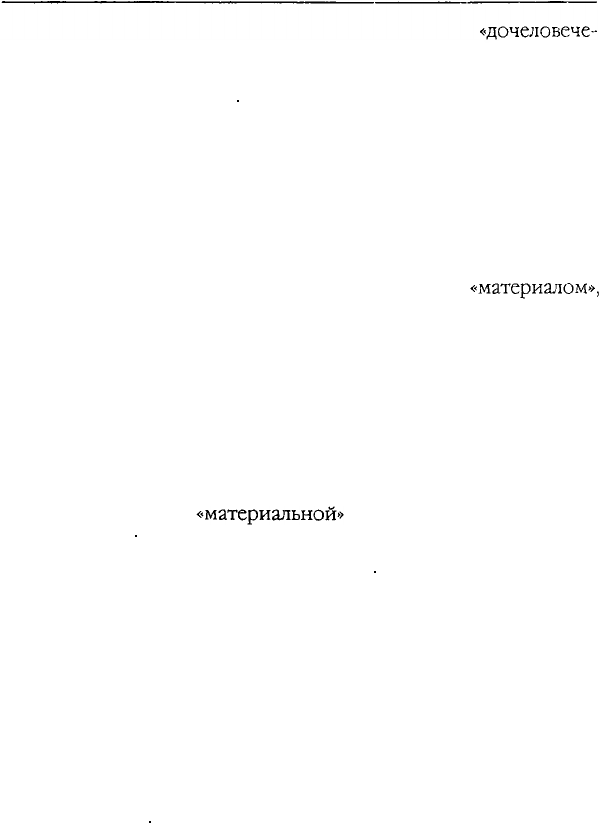
166
Ча
ст
ьШ
системных OTCbOK, ней хаос бесчеловечного и
«дочеловече··
ского'>, ноуменьного присствия.
В этом отношении информация - вполне объективна, но
именно через э
объеивность лишена
человека смысла,
ибо не ориентирована в своей схематике развертывания на че
ловеческое приствие. Именно поэто информация наибо
лее коммуникативна, ибо по своей си мож легко поаваться
любой интерпретации. Благодаря соей податливос к ней
трьной коммикации информация, конечно, может бы,
преобразована в знание и стать, соответственно, «материалом,>,
который может быть оформлен в виде иге, но подлинная сь
и с информационного пространва совершенно иная.
Можно выявить опреденное соответствие в системе знания
и в системе информации. Системе знания соответствует ига,
изначьно ориентированная на определенное единство (сю
жка, облаь знания, правила жанра, наконец чисто техноло
гическое единство и последовательность подачи материа, вы
аиваемые самой
«материальной,>
схематикой
книги: порядок
листов, обложка, название, конденсирщее смысл иги, фор
мьное инство, центрированное на фиу автора или авто
ров
и тл). Системе информации соответствует Интернет, как
еьный топос обезличенной чистой комникативно
.
В
этом отношении стратег, которую мы прожим как своеоб
разный итог данного исследования - стратегия выстраивания
истореского материла с использованием той нейтр��ьной
еной среды всеобщей комикативности, которой явля
ется Интернет (льтимедийная схема) - полностью соответст
ву современному состоянию и схематике европейской ль
тной иции.
Указанй
переход от модели знан к информационно
пространству дублируется во мног сфер
современной ре
ьно Например, в сфере политической переходу к инфор-
