Петрухин В.Я., Аверинцев С.С., Живов В.М., Лихачев Д.С., и др. Из истории русской культуры. Том I (Древняя Русь)
Подождите немного. Документ загружается.


предубежденность против «варваров».
Композиция Повести временных лет, составленной древнерусскими наследниками Кирилла и
Мефодия—и апостола Павла, в целом повторяет «витки» библейской истории (ср. о композиции
Хроники Амартола—Афиногенов 1991). Характерно при этом, что в начальной летописи
отсутствует мотив «райской жизни»—«золотого века»: она начинается со «второго витка»
3
—
выде-
3
Отсутствие свойственного для всемирноисторических хроник начала — «шесто-днева», повествования о
сотворении мира, характерно для русской начальной летописи, равно как и для других «национальных»
историй — ср. «Чешскую хронику»
330
ления славян из потомков Ноя в описании их расселения в космографическом введении, где
первые насильники над славянами—обры—трактуются как допотопные великаны. Третий
«виток»—расселение славянских племен в Восточной Европе (повторяющее расселение потомков
Иафета, но и расселение колен Израилевых); четвертый—выделение полян из прочих славян,
обретение ими своей земли и освобождение от хазарской дани, что трактуется как Исход
Богоизбранного народа; 5) призвание князей «от рода русского» знаменует начало государства; 6)
обращение Владимира, крещение Руси и основание Десятинной церкви—свидетельство
Благодати, простирающейся над новоизбранным русским народом и Русской землей, смена
«Ветхого» завета «Новым», чему посвящены летописная «Речь Философа» и «Слово о Законе и
Благодати» Илариона (см. также сравнительный анализ «Слова» и летописных панегириков
Владимиру и Ярославу—Мюллер 1999, о «павлианской теологии» у Илариона: Сендерович 1999).
О крещении Владимира сказано: «Съвлече же ся убо каган нашь и с ризами ветъхааго человека,
сложи тленнаа, оттрясе прах неверна и вълезе в святую купель» — «ризы ветхого человека»,
греховные одеяния Адама прешли, мечта об утерянном рае перестала быть насущной, князь «имя
приим вечно, именито на роды и роды, Василии, имже написася в книгы животныа в вышниим
граде и нетлен-неим Иерусалиме». При этом в своей «Молитве» Иларион прямо сопоставляет
Киев с земным Иерусалимом: «Тем же боимся, егда сътвориши на нас, яко на Иеросалиме,
оставлешиим тя и не ходившиим в пути твоа. Нъ не сътвори нам яко и онемь по делом нашим, ни
по грехом нашим въздаи нам [...]. Яко ты еси Бог нашь, и мы еси люди твои, твоя часть, твое
достояние [...] да не прозовется град твои град пленен», — цитирует Иларион псалмы Давида
(БЛДР. Т. 1. С. 54—56). С точки зрения конкретной «истории» эта молитва представляется
«риторической»: печенеги были разбиты Ярославом, половцы еще не появились в Русской земле,
Киеву не угрожало попасть «в руки чу-жиих». Однако дело здесь не в риторике и не просто в
эсхатологических предчувствиях, свойственных христианству, особенно неофитам. Восприятие
идеи Богоизбранного народа было закономерным для мироощущения Руси, нового и последнего
призванного народа, «работников одиннадцатого часа»: Киеву— новому Иерусалиму—должна
была грозить судьба, предуказанная пророками Иерусалиму ветхому. «Носители» этой судьбы
были наготове— «поганые» народы, «безбожные исмаилиты» (Чекин 1992), кочевавшие в Диком
поле (Половци диции—ПСРЛ. Т. 2. Стб. 423), гораздо больше соответствовали по своему быту
эсхатологическим конникам Иезекииля, чем тот же «безбожный народ рос», приходивший в
ладьях к другому второму Иерусалиму— Константинополю. Вещего Олега, повесившего щит на
врата Царь-града, в киевской летописи сменил «половчанин дикий» — хан Севенч Боня-кович,
который говорил: «хощю сечи в Золотая ворота (Киева—В. П.), яко же и отец мои» (ПСРЛ. Т. 2.
Стб. 432). Когда князь Рюрик Ростиславич, Оль-говичи и «вся Половецкая земля» разорили Киев в
1202 г., владимирский летописец прямо сопоставил это событие с пророчеством Давида об
опустошении Иерусалима. Предчувствие Илариона было действительно пророчес-
Козьмы Пражского, начинающуюся с мотива всемирного потопа: история «своего» народа начиналась после
потопа.
331
ким—в 1068 г. «которы» князей и нашествие половцев едва не погубили Русскую землю.
Летописные тексты последовательно продолжают эту традицию древнейшей русской
книжности—набеги кочевников есть знак Божьей казни за грехи (наряду с небесными
знамениями), вплоть до явления «незнаемого народа из Етривской пустыни», татар. При этом
древнерусское «ис-ториописание», равно как и учительная литература, вновь и вновь обращаются
к сюжетам библейской истории—будь то «завет Ярослава», отсылающий к «жребию» сыновей
Ноя, обустройство новой столицы Андреем Бого-любским, сравниваемым с Соломоном, или
обличение «новых» людей — христиан—в склонности к старым (язычество) и новым порокам,

неминуемо приводящим к Божьи казням. Эти библейские сюжеты стали не только прообразами,
но и теми прецедентами русской истории, которые, в конечном итоге, подтверждали ее
провиденциальный смысл.
Соответственно, споры о подлинном смысле «оригинального» названия «Повесть временных лет»
(ср. Данилевский 1995; Гиппиус 1991—1992), отличающем его от обычной летописи, должны
учитывать общий—христианский — контекст летописания и его библейский образец:
«временьные книги» — наименование и самой хроники, и Священного писания в славянском
переводе Хроники Амартола (Истрин 1920. С. 51: 32 г), то есть истории в высшем Божественном
смысле. «Внешняя» история оказывается продолжением «внутренней» Священной истории уже у
первых историков церкви (ср. Евагрий Схоластик. С. 58 и ел.). Этот сокровенный смысл оставался
основополагающим на протяжении всей средневековой эпохи—и летописи назывались памятные
книги временни (Львовская летопись XVI в., СлРЯ. Вып. 3. С. 108). При этом книги «Царств»
именовались в русской средневековой традиции повестными—они служили образцом для
описания деяний русских князей в средневековый период (ср. «Смиреннаго инока Фомы слово
похвалное о благоверном великом князи Борисе Александровиче»: ПЛДР. XV в. С. 300; СлРЯ.
Вып. 15. С. 154) так же, как для составителя Повести временных лет. Примечательно, что
собственно библейские книги Хроник, поименованные в Септуагинте—и церковнославянской
Библии — «Паралипоменон» (буквальная трактовка названия—«пропущенные» книги, очевидно,
не вполне точна), в еврейской традиции имеют наименование диврэй гайюмим — «история
времен», то есть собственно «летопись» («хроника» в Вульгате Иерони-ма; ср. Лопухин 1904—
1913. Т. 3. С. 1 и ел.). Библейская «летопись» начиналась генеалогическими списками от Адама,
Сифа и сыновей Ноя, описывала историю Израильского и Иудейского царств (с указанием лет
правления царей и т. п.) и завершалась освобождением из Вавилонского плена—воспроизводила
всю Священную историю внутри Библии. Повесть временных лет также помещала историю Руси в
контекст Священной истории («вавилонский плен» был еще впереди), но имела внутри и
собственный Паралипоменон—перечисление царств «от Адама» (подобно Хроникам Малалы и
Амартола), вводящее историю собственно Руси.
Непосредственное обращение летописца к Священной истории было необходимым и даже
естественным, ибо, в отличие от западноевропейских хронистов—наследников римской истории и
римской цивилизации, русский историк такого наследства не имел. Более того, в византийских
хрониках Русь и славяне не имели права на это наследство, ибо относились к варварам. Ко-
332
нечно, летописец мог присвоить образцы греческой хронографии, которой были известны и Троя,
и Цезарь, и Александр Македонский, но, как уже говорилось во введении, это были «чужие» и
языческие образцы—летописец же имел своих языческих героев, первых русских князей. Они не
просто заменили в летописи эллинов и римлян — эти «невегласы» принадлежали к тому
княжескому роду
4
, который крестил Русскую землю: крещение действительно воспринималось
русскими книжниками как деяние—обращение княжеского рода, предков и потомков—бабки
Ольги, ее внука Владимира и правнука Ярослава. Княжеский род был главной действующей силой
русской истории, его усилиями был обращен и просвещен народ в целом—недаром в упомянутом
«Каноне княгине Ольге» она воспевается как праматерь роусского языка и «богоизбранного от
варяг княжескаго племени» (ср. Под-скалъски 1996. С. 382). Индивид, даже сам князь (не говоря
уж о монахе-летописце), не мог быть в полном смысле субъектом этой священной истории—
недаром, по наблюдениям Г. П. Федотова (1990. С. 108), «великие князья»— Ярослав Мудрый,
Владимир Мономах, Всеволод Большое Гнездо, несмотря на «самовластье», не пользовались
церковным почитанием (да и сам Владимир стал Святым не ранее рубежа XII и XIII вв.); первые
русские святые—варяги-мученики и братья Борис и Глеб—были связаны семейными—родовыми
узами: русское боярство гордилось родством с мучениками (Ключевский 1987. С. 177), а святые
князья приходили на помощь своим «сродникам».
Другими «героями» и «контрагентами» княжеского рода в начальной русской истории были
славянские племена, являвшие совокупность, целостность народа—«словене, кривичи и вси», а
также княжеская дружина—«вся русь»; на смену племенам в «удельный период» пришли
объединения горожан—«все кыяне» и т. п. (их роль «субъектов» русской истории была заострена
в работах И. Я. Фроянова и его последователей, имеющих явные параллели еще «родовой теории»
С. М. Соловьева; ср. о субъектно-объектных отношениях в историографии раннего
средневековья—Смирнов 1991. С. 20—21) и сельские общины—мир «Русской правды» Ярослава
Мудрого, вервь «Правды» Яросла-вичей (ср. Колесов 1986. С. 228—229). Княжеский «братский»

род воплощал единство Русской земли и нового народа—они и были «субъектами» начальной
русской истории (и права) в христианском значении этого понятия: «субъект» становился творцом
истории тогда, когда следовал Божьему промыслу— Божьей правде. Носителем этого
сокровенного знания был не сам мир, а далекий от мирской суетности книжник-монах, являвший
это знание миру в летописях и поучениях, проповедник, обращавшийся со «словами» к князьям
(ср. «Слово о князьях»), «сильным мира сего» и «людям».
Вместе с тем обращение летописца к Священной истории как образцу не было актом «школьного»
подражания: уникальное (не только в древнем мире) свойство библейской традиции проникнуть к
историческим истокам Богоизбранного народа (ср. фон Рад 1997) было воспринято Нестором и
позволило создать историю собственного народа
5
, практически лишенную мифо-
4
Показательно, что Иван III, проводивший политику централизации и, стало быть, устранения князей —
«братьев», в отношениях с Новгородом ссылался на права княжеского рода (см. ниже).
5
Ср. об историзме «Слова» Илариона: Зееман 1990; Сендерович 1999.
333
логических «пережитков». И это понимание русской истории не было результатом отстраненного
взгляда «далекого от народа» книжника, ибо сам этот народ сформировался как новый и
христианский.
* * *
Крещение Руси при Владимире Святославовиче было главным событием начальной истории Руси.
Здесь подчеркнем еще раз, что прения о вере Владимира с волжскими болгарами-мусульманами,
«немцами от Рима», хазарскими евреями — не просто традиционный мотив, характерный для
средневековой литературы: этот мотив отражал реалии русского этнокультурного бытия X в. Та
же проблема выбора веры вставала и перед другими правителями европейских
раннесредневековых государств—хазарским каганом и болгарским князем Борисом, а равно как и
перед всем славянством (выбор между Константинополем и Римом).
С выбором веры в XI в. завершилось формирование древнерусской народности — нового русского
народа в пределах единого древнерусского государства—Руси. На основе предшествующего
этнокультурного синтеза была создана новая единая культура, способная не только вступать в
диалог (договорные отношения) с иными культурами и воспринимать инокультур-ные влияния
(Лотман 1989), но и создавать собственные культурные ценности, имеющие непреходящее
значение для культуры мировой.
Но и само крещение Руси следует признать «итогом» государственного— социально-
экономического—развития, которое было необходимым внутренним условием распространения
христианства и формирования новых культурных и этнических связей. Единые тенденции,
пронизывающие развитие духовной и материальной культуры всей Руси, особенно очевидны в той
области, которая оказывается часто вне рассмотрения собственно «культурных» проблем—в
«массовом материале», археологии и истории русских городов X—XIII вв.: единая планировка с
выделением детинца и посада, единый «усадебный» способ застройки, единые традиции в
развитии ремесла и т. п. (см. обобщающие труды: Древняя Русь. Город, замок, село; Древняя Русь.
Быт и культура), объединяющие Киев и Новгород, Смоленск и Суздаль, Ростов и Псков,
свидетельствуют о расцвете всей сети древнерусских городов с середины XI в.
Вместе с тем, XI в. — время расцвета городов не только на Руси, но и во всей Европе, время
становления христианского мира (ср.Ле Гофф 1992. С. 70 и ел.). Соответственно, речь должна
идти о развитии не только общерусской, но и трансъевропейской и даже «евразийской» (учитывая
Царьград, отношения Руси с Закавказьем, Центральной Азией и Ближним Востоком—ср. Дар-
кевич 1985) городской сети. Древнерусские и европейское города, наследующие систему связей
раннегородских поселений (в том числе русских погостов) IX—X вв., особенно в Северной
Европе, и продолжают эти связи в эпоху, непосредственно предшествующую формированию
Ганзы (см.: Броделъ 1992. С. 98 и ел.), в частности, скандинавы (варяги) продолжают иметь свои
дворы в Новгороде, в Смоленске, Суздале и др. городах. Несмотря на ожесточенную полемику с
иноверием—латинством и иудейством—в русской книжности (в быту доходившую до погромов—
в 1113 г. перед призванием Мономаха киевляне «идоша на жиды и разграбиша я»), латинские
божницы
334
строятся в русских городах, в Киеве изначально имеется урочище Козаре, еврейский квартал с
«Жидовскими воротами», Золотые ворота, воспроизводящие константинопольский и более
ранний—иерусалимский образец, Ляд-ские ворота, Волосская (Волошская) улица и т. п. И
книжниками стольный город осознавался как центр мира, открытый всем «языцам»; в летописной

повести об убиениии Андрея Боголюбского преданный князю Кузьма сетует, описывая Владимир:
«иногда бо аче и гость приходил изь Царягорода, и от иных стран, из Рускои земли, аче латинин, и
до всего христьяньства, и до всее погани, и рече: въведете и вь церковь и на полаты, да видять
истиньное христьяньство—и крестяться и болгаре, и жидове, и вся погань, видимше славу Божию,
и украшение церковьное!» (ПЛДР. XII в. С. 232—234).
Но в целом с христианизацией культурная ориентация Руси и ее городов определяется
окончательно, образцом становятся Византия и Царьград: недаром в трех центрах Руси—Киеве,
Новгороде и Полоцке—возводятся храмы Св. Софии. Следование образцу порождает и
собственную традицию, и со становлением русского государственного культа Богоматери уже
Успенские соборы строятся во Владимире Волынском и Владимире на Клязьме, Галиче и т. д.
вплоть до Москвы и уготавливаемой Грозным в качестве новой столицы Вологды (ср. Подстлъски
1996. с. 57—58; Этингоф 1999).
Формирующаяся государственная власть—княжеский род и дружина— изначально опиралась на
города—городскую сеть: недаром входившие в состав русской дружины скандинавы называли
Русь Гарды — «Города» (отсюда позднейшее книжное название Гардарики, не вполне точно
переводимое как «Страна городов»: скорее, это имя значило «Государство Гарды»). Отношения
между княжеской властью и городскими вечевыми общинами основывались на договоре—ряде.
Эти отношения способствовали характерному для русской истории доминированию
административной функции в развитии городской сети—центр власти «притягивал» не только
социальные верхи, но и активное торгово-ремесленное население: таким сейчас видится
изначальное развитие Новгорода, где собственно город сформировался неподалеку от княжеской
резиденции—«Рюрикова» Городища. Характерным для всей истории Руси—России стал
государственно-административный и идеологический акт «переноса столиц», которые
становились новыми центрами волости, оттесняя «старшие города», как Владимир на Клязьме
оттеснил Ростов и Суздаль, и даже сам Киев. Этот характерный для средневековой эпохи в целом
процесс translatio (ср. Гуревич 1984. С. 142—143) продолжал чрезвычайно значимую для средних
веков традицию переноса столицы из «старого» Рима в новый—Константинополь: новым
Константинополем и Иерусалимом представлялся и Киев, а затем Владимир
6
, Москва и
Петербург.
Парадоксальным для истории Древней Руси образом перераспределение «столов» между
князьями, сопровождающиеся бесконечными усобицами переезды князей и их дружин из одного
города в другой способствовали не только раздробленности, но и определенному единству
Русской земли в широком смысле. Конечно, князья не были просто «перелетными птицами», ко-
торые повсюду разносили «семена культуры», расцветавшей в Киеве, как пи-
6
См. о характерном уподоблении Киева и Владимира Константинополю в меся-целове: Турилов 1999а. С.
17—18.
335
сал Ключевский (ср. Т. 1. С. 206—207): «ряды» князей с городами, формирование отчин-уделов,
великокняжеской власти—при всей, отмеченной тем же Ключевским, противоречивости и
незавершенности этих процессов—вели к становлению феодальной иерархии и претензиям
великого князя усматривать в прочих своих вассалов-подручников.
Эти единые тенденции не заслоняют иных тенденций, связанных с «сепаратизмом» городов и их
волостей. Но сепаратизм новгородского боярства, получившего права на сбор княжеской дани уже
на рубеже X и XI вв., и изначальный сепаратизм полоцких князей — потомков Рогволода и Бря-
числава, получившего отчину от Владимира, уже не есть рецидивы «племенного» сепаратизма
(хотя претензии князей и могут основываться на представлениях о былых племенных
территориях—ср.: Янин, Алешковский 1971). Становление земель-княжеств с собственными
«столами» было связано не только с завещанием Ярослава Мудрого и решениями княжеских съез-
дов: оно было возможно там, где достижим был компромисс между городской общиной,
заинтересованной в постоянной княжеской власти, принадлежащей одной ветви княжеского рода,
и князем. Ведущую роль в этом процессе стало играть боярство, старшая дружина, оседающая в
городах и получающая земли в их волостях. Противоречия и открытые конфликты между
князьями, опирающимися на младшую дружину (любившими, по словам русских книжников,
«смысл уных»), и боярством, связанным с городскими общинами, сопровождали становление
феодальной иерархии—формирование новой социально-экономической структуры древнерусских
земель и княжеств в XII—XIII вв.
Формирование этой структуры также обнаруживает общие для Руси противоречивые тенденции
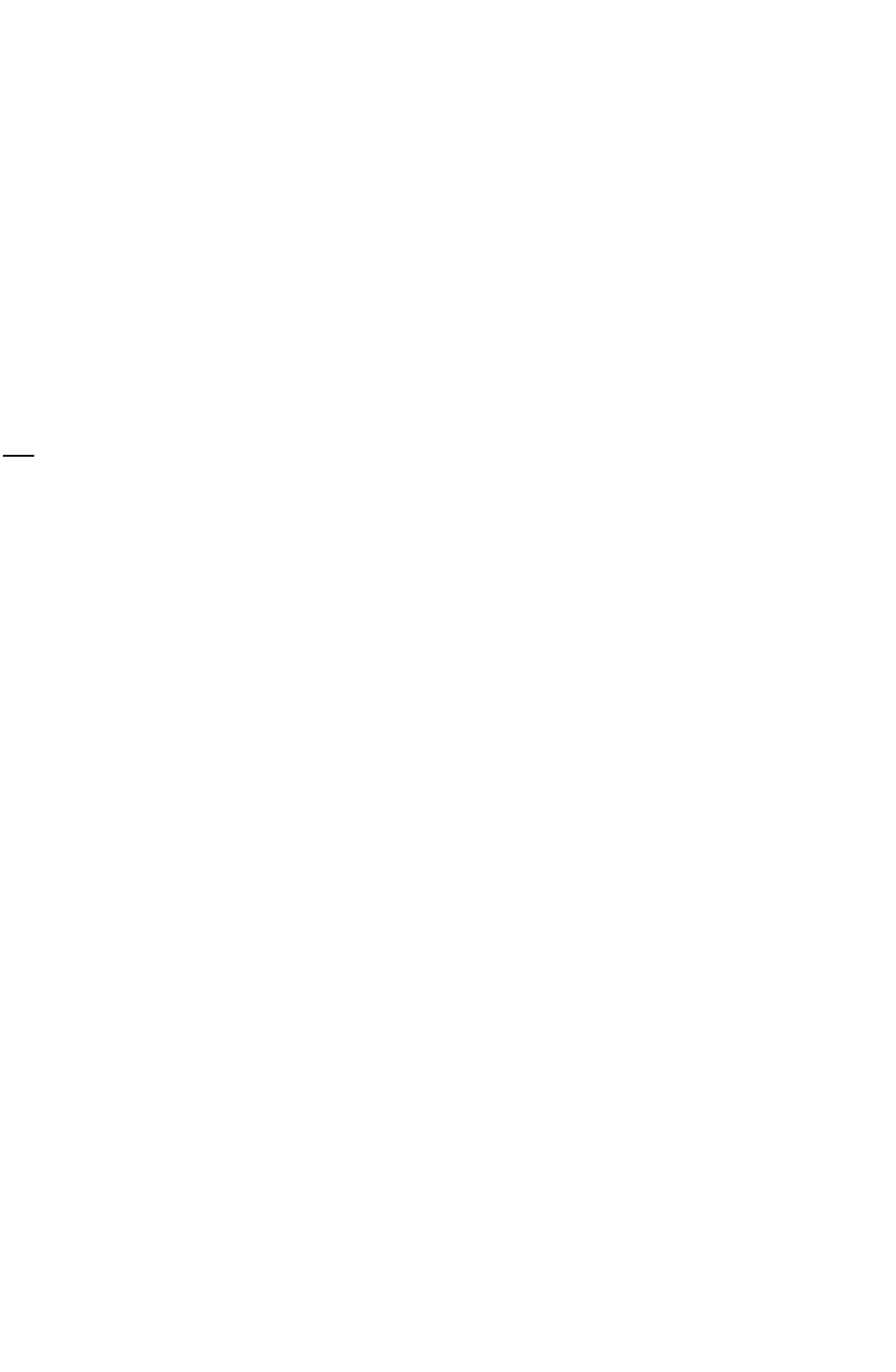
этнокультурного развития: городская сеть не замыкалась в рамках отдельных земель, но сельское
ремесло свидетельствует о возникновении региональной культурной специфики. Речь идет об
изготовлении сельскими ювелирами массовой продукции—женских украшений — височных
колец, отличающихся в разных регионах по форме. Прототипы этих колец в X в. не имели строгой
региональной и племенной приуроченности, но с XI—XII вв. их ареалы совпали с ареалами тех
восточнославянских племен, которые были упомянуты Нестором в космографическом введении к
Повести временных лет. Это позволило еще А. А. Спицыну атрибутировать курганные древности
XI—XII вв. «племенам» вятичей, кривичей, радимичей, словен и т. д. (см. сводку—Седов 1982).
Вместе с тем археология свидетельствует о другом явлении в истории «массовой» древнерусской
культуры домонгольского периода: в тех же погребениях на широких пространствах севера
Восточной Европы, в основном на Новгородчине и в Северо-Восточной Ростово-Суздальской
Руси, обнаруживают массу амулетов—т.н. шумящих привесок, зооморфные изображения (коньки,
уточки), которые были несвойственны дохристианской славянской культуре. Истоки этой
традиции вполне очевидны—шумящие привески характерны для «чудских» финно-угорских
племен, контактировавших со славянами в процессе славянской колонизации Восточной Европы.
Это воздействие финно-угорской культуры на традиционную восточнославянскую не
представляет собой ничего необычного—оно продолжалось на протяжении всего развития этой
культуры; финно-угорские народы считались среди ела-
336
вянских (и скандинавских) соседей специалистами в области магии—соответственно их амулеты,
производящие шум—отгоняющие злых духов,— считались наиболее эффективными. Парадокс
заключается в том, что эта традиция получила распространение именно в период христианизации.
Более того, некоторые амулеты производились не где-нибудь в финно-угорской и древнерусской
глубинке, а в самом христианском центре древнерусского Севера—в Новгороде (Голубева 1997. С.
159, 163).
Выясняется, что эта ситуация не была специфична для Севера Руси. Недавно был обнаружен
центр производства амулетов-привесок с изображениями головы быка, которые считались
характерными для ареала славянского «племени» радимичей: они изготавливались в Даугмале—
торгово-ре-месленном центре Земгалии XI—XII вв. в устье Даугавы — Западной Двины. В том же
ареале Подвинья, охватывая территорию кривичей, распространяются в XI—XII в. привески в
виде коня, культ которого характерен для балтов, равно как и для славян. Земгалы (летописная
земигола) опять-таки были традиционными уже балтскими партнерами (данниками) Руси. Следует
отметить, что и собственно древнерусские привески-амулеты в виде топориков, которые обычно
интерпретируются как символы Перуна, распространяются именно с XI в. не только на Руси (в том
числе в городах), но известны в Прибалтике, Финляндии, Волжской Болгарии, даже в Скандина-
вии (Голубева 1997. С. 153). В целом создается впечатление «нарастающего» в первые века
христианства языческого синкретизма (недаром Б. А. Рыбаков— 1987. С. 774—писал о
«возрождении язычества» в XII в.), который при желании можно именовать уже не троеверием, а
«четвероверием», «пятивери-ем» и т.д.—то есть собственно «язычеством», идолопоклонством
«языков». Невольно вспоминается синкретическая конструкция русского книжника, обличающего
«эллинского старца Перуна и Хорса жидовина».
Вместе с тем этот синкретизм не заслоняет главной тенденции эпохи христианизации —
распространения христианской обрядности и собственно крестов-тельников в тех же регионах, где
бытовали «языческие» амулеты. Показательно при этом, что в недавней коллективной
монографии, посвященной культуре и быту Древней Руси (Древняя Русь. 1997), где имеются спе-
циальные главы о христианских символах и языческих амулетах, одни и те же крестовидные
привески оказались отнесенными и к той, и к другой категории. Дело здесь не только в сложности
распознания собственно христианских символов — крестовидные амулеты присущи не одной
христианской традиции—дело в том, что и кресты определенно византийского происхождения
оказывались включенными в состав ожерелий, несущих «языческие» амулеты. Этот магический
«христианско-языческий» синкретизм, который представляется привычным, в
раннесредневековом мире означал, однако, глубокий культурный — и этнокультурный —
переворот. Конечно, христианские символы включались в «синкретический» контекст, как
христианские святые функционально замещали природные божества в календарном цикле
традиционной народной культуры. Но одновременно именно христианские элементы
структурировали новый этнос и новую культуру в границах Древнерусского государства и
сильнейшим образом воздействовали на его партнеров — в том числе балтских и финно-угорских,

заимствовавших не только христианские символы, но и древнерусскую православную лексику и т.
п. Бо-
337
лее того, сам «синкретизм» разноэтничных элементов невозможен в родоп-леменную эпоху, когда
усвоение инокультурных символов было затруднено замкнутостью племенных традиций.
Осуществленный древнерусской христианизированной культурой синтез разноплеменных
традиций привел к аккультурации и ассимиляции этих традиций и их носителей — этнических
образований, включая не только собственно славянские «племена», но и их ближайших соседей, в
первую очередь—финно-угорские племенные объединения веси на Новгородчине и мери в
Ростово-Суздальской земле, муромы в Рязанской земле, исконных носителей амулетов —
шумящих привесок.
При этом сам курганный обряд практически лишился прежних «племенных» черт: исчезли
традиции сопок и длинных курганов, повсюду распространились полусферические курганы с
трупоположением. Существенно, что ареалы «племенных» височных колец не совпадают в целом
с границами древнерусских земель и княжеств—формирование этнодиалектных зон не связано
напрямую со становлением новых политических границ (ср. Насонов 1951; Древнерусские
княжества X—XIII вв.). Исследователи процессов этнического самосознания в
раннесредневековой Руси отмечали, что в летописных записях, относящихся к XI в., «исчезли
обозначения каких-либо территорий или групп населения по их племенной принадлежности. Их
заменили производные от наименования города — административного центра данного княжества,
района или "волости"» (Рогов, Флоря 1982. С. ПО; Флоря 1995. С. 12). Это означает, что
племенное самосознание ушло в прошлое—для носителей этнодиалектных различий важнее была
территориально-политическая («административная») принадлежность и, в более широком
смысле,— принадлежность к «новому» русскому народу.
Уже в начале XI в. в «Правде» Ярослава Мудрого русин — представитель княжеской
администрации был уравнен в правах со словенином — жителем Новгорода. Но в некоторых
списках Пространной правды слово русин заменяется словом горожанин, а Словении — словом
селянин, что окончательно переводит этносоциальную терминологию в чисто социальную (ср.
Юшков 1949. С. 58—59; Черепнин 1965. с. 207—208). С XI в. «Русская земля», Русь уже не
противопоставляются восточнославянским «племенам», как это было в X в. (ср. упомянутые
данные Константина Багрянородного: Рогов, Флоря 1982. С. 111). Напротив, Русь уже в
космографическом введении к Повести временных лет противопоставляется неславянским
племенам. Летописец подытоживает данную им историю расселения и «этническую» историю
славян уже с позиций своего времени: традиционные «племенные» этнонимы сочетаются в этом
«итоговом» списке с «областными» обозначениями, но главное — что их объединяет между собой
и противопоставляет иноплеменникам. «Се бо токмо словенескъ языкъ в Руси: поляне, деревляне,
ноугородьци (курсив мой — В. П.), полочане, дреговичи, северъ, бужане, зане седаша по Бугу,
после-же же волыняне. А се суть инии языци, иже дань дають Руси: чюдь, меря, весь, мурома,
черемись, мор'дъва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, норо-ма, либь» (ПВА. С. 10).
Важнейшая особенность этого списка в том, что Русь противопоставлена «иным языцем» и
связана со «словенским языком» не только в государственном, но и в этническом (и языковом)
плане. Становление государственных отношений — внутренних, на основе «ряда» со ела-
338
вянскими племенами, и внешних—на основе данничества и межгосударственных договоров—
было непосредственно связано со становлением этнического самосознания. Как в начале
славянской истории встреча с Византией на Дунае способствовала формированию
общеславянского (праславянского) самосознания, так и столкновение Руси с Византией и
особенно установление с ней правовых—договорных—отношений, при которых уравнивались
права русских и греков, привели не просто к противопоставлению этносов—непременного
условия становления этнического самосознания: правовое равенство—равенство в повседневном
быту—позволяло «варварской» Руси сломать стереотип превосходства «ромейского народа».
Книжная идея о славной Русской земле, «слышимой всеми четырьми конци земли» (так писал
Иларион, цитируя Исайю, а в византийской литературе так писали о Константинополе), питалась
этими достижениями Русского государства. Показательно, что религиозное содержание
внутриэтнических и внутригосударственных связей также было явлено начальной руси в текстах и
церемониалах заключения договоров. Греки в договоре Олега именовались христианами. Также в
позднейшем договоре Смоленска с Ригой и Готским берегом (1229 г.) Русь (русин)

противопоставляется «немцам» или «всему Латинскому языку»—таким образом определяется
этноконфессиональная принадлежность (ср. выше о «немцах от Рима» в сюжете о «выборе веры»).
При этом в преамбуле договора, заключенного в удельную эпоху смоленским князем и его
мужами, говорится о том, что послы прибывают не от «всей Руси», но только «от Смолян» (ПРП.
Т. 2. С. 57 и ел.): эта правовая подробность не заслоняет общерусского самосознания. Вместе с
тем, православное христианство начинает восприниматься на Руси как «русская вера»; так, в
«Уставе князя Ярослава о церковных судах», основанном на византийской традиции, говорится:
«аще жидовин или бесерменин будет срускою (курсив мой—В. П.), на иноязычницех митрополиту
50 гривен, а рускую пояти в дом церковный» (ДКУ. С. 88) — этническая принадлежность
отождествляется здесь с конфессиональной. Эта непосредственная связь русского
государственного, конфессионального и этнического самосознания, включающая
противопоставление «иностранцам» («немцам», «варягам») и «иноверцам» («латынянам»,
«басурманам»), свойственна истории Руси (ср.: Рогов, Флоря 1982. С. 114; Толстой 1982. С. 242) и
России вплоть до нового времени.
В весьма содержательной монографии, посвященной становлению этнического самосознания
славянских народов, авторы раздела, посвященного Руси, отмечают, что «Нестор не нашел...
особого названия» для Руси как новой этнической общности. «Если Козьма Пражский проводил
различия между Bohemi и Bohemia, а Галл между Poloni и Polonia, то для Нестора, как и для его
предшественников, "Русь" и "Русская земля"—это одновременно обозначение и особого
государства, и особого народа» (Рогов, Флоря 1982. С. 116). Ключевский (т.1. С. 213) писал в связи
с этим, что «пробуждавшееся чувство народного единства цеплялось еще за территориальные
пределы земли, а не за национальные особенности народа». Отметим, что подобным образом рус-
ские книжники воспринимали не только Русь: на Калку—битву против татар—выступает не
только «вся Русская земля», но и «вся земля Половец-каа» (ПЛДР. XIII в. С. 154); так же в русских
летописях употребляется и название «Литва» и «Литовская земля» и т. п. (ср.: НПЛ. С. 358),
обозна-
339
чающие не только страну и народ, но и войско, возглавляемое князем (вплоть до эпохи Грозного и
позднейших фольклорных преданий о литве— завоевателях: ср. Попов 1973. С. 93). Это не
снимает проблему собственно Руси, но помогает понять взгляды русского книжника. Напомним,
что исходно название русъ относилось именно к княжеской дружине, в расширительном смысле—
к войску в целом. В походе 944 г. Игорь «совокупивъ вой многи, варяги, русь и поляны, словени и
кривичи, и тиверьце, и печенеги наа [...] поиде на греки». Болгары сообщают об этом походе
императору: «Идуть Русь, и наяли суть к собе печенеги» (ПВЛ. С. 23). Здесь ясно, что речь идет о
разноплеменном русско-славянском войске, включающем и родственных ру-си варягов; вне этого
войска оказывается «иной язык»—печенеги.
Эта стадия становления единого самосознания разных племен, засвиде-тельтвованная летописью,
связана опять-таки с общегосударственным предприятием—походом. А. А. Шахматов
справедливо отмечал, что еще в XI— XII вв. живо было представление «о том, что имя Руси—это
имя княжеской дружины, княжеских бояр и вообще правящих верхов» (Шахматов, 1908. С. 324).
«На юге поляне получили имя Руси, широко распространяющееся затем всюду, куда проникает
княжеский данщик, где садится княжеский дружинник» (там же. С. 327). Такому распространению
имени Русъ в этническом, географическом и государственном смысле способствовали и его этни-
ческая нейтральность и его социальный—дружинный—смысл. Показательно, как Ипатьевская
(киевская) летопись под 1151 г. описывает борьбу за Киев между Юрием, его черниговскими и
половецкими союзниками, с одной стороны, и киевским князем Изяславом с союзными
кочевниками—с другой: суздальцы и черниговцы Юрия именуются Русью (она на ладьях пе-
реправляется через Днепр) и отличаются от «диких Половцев»; их противники именуются
Кыянами и черными клобуками (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 425—426; ср. Кучкин 1995. С. 82). Имя Русъ уже
не объединяет здесь обозначения племен, а относится к конфедерации дружин из разных волостей,
оказывается противопоставленным не только иному языку—половцам, но и кыянам. Ниже в той
же летописи говорится о следующем походе Юрия в Русь «с Ростов-ци и с Суждальци»—понятие
Русская земля здесь сохраняет узкое этнотерри-ториальное значение; здесь же в панегирике,
посвященном кончине Изясла-ва Мсгиславича, говорится: «разболеся великий князь Киевьскии
Изяслав [...] вънук Володимерь, и плакася по нем вся Руская земля и вси Чернии Клобуци яки по
цари и господине своем» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 469) — «вся Русская земля», оплакивающая
наследника Мономаха, явно понимается в расширительном смысле—от нее отличается лишь

«иной язык», союзные Руси степняки. «Пространственное» понимание этноса—отождествление
русского народа с Русской землей — было подготовлено самим процессом славянского
расселения, земледельческой колонизации, непосредственно связанным со становлением
славянского этноса; но это понимание было не просто «территориальным», а государственным—
сама колонизация Восточной Европы, основание городов—центров новых волостей—
осуществлялись под эгидой княжеской власти: отсюда различение Русской земли в узком
смысле—изначального княжеского домена—и расширяющейся «до угор и до ляхов... от немец до
корелы... от моря до болгар» Русской земли в широком смысле.
340
То общерусское самосознание, выразителем которого стал Нестор-летописец, преодолевало
племенную обособленность, выстраивая «иерархию» этнических, территориальных и
государственных связей: от частно племенных до этногосударственных—таково отождествление
полян с русью—над-племенных (общеплеменных, связанных с представлением о славянской
общности) и конфессиональных—принадлежности к христианскому миру; самосознание
становилось самопознанием (ср. Толстой 1993; о естественных противоречиях в этом построении
см. Живов 1998). Сформировавшееся в XI в. новое этногосударственное (суперэтническое)
значение имени Русь было не только естественным и «заданным» летописцу самой историей, но и
включающим «национальные особенности». «Работающим ми наречется имя ново (курсив мой—
В. П.), еже благословится на земли», — цитировал Иларион слова пророка Исайи, которые
относил к новому народу с новым именем— Русь. В задачи Нестора входило выяснение
происхождения этой Руси и становления Русской земли как христианского государства, что он и
сделал с той глубиной и ответственностью, благодаря которым начальная летопись стала основой
этнического и исторического самосознания и самопознания Руси и русского народа.
Уже говорилось, что важнейшим фактором, определявшим общие тенденции развития русской
культуры и русского самосознания в XI—XIII вв. (и последующие столетия), был
конфессиональный (ср.: Толстой 1982. С. 243— 244). С конфессиональной принадлежностью
связан в русских памятниках XI в. термин русские сыны, акцентирующий единство
происхождения русских вообще (Рогов, Флоря 1982. С. 112), а не только русского княжеского рода
(русского рода в договорах с греками). При том, что «Русская земля» последовательно, начиная с
XII в., отделялась в летописях от Новгородской волости, и о походе Андрея Боголюбского
сказано, что против Новгорода выступила «вся земля просто Русьская», о походах новгородского
князя Мстислава Ростиславича против «поганой» чуди говорится, однако, что князь «всегда бо
тосняшеться умрети за Роускую землю и за хрестьяны, егда бо видеша хрестьяны полонены от
поганых» (ср. Флоря 1995. С. 13-14^ Предствление о русском народе, как о новом и последнем
народе, сподобившемся благодати в последние времена, свойственны уже первым русским
книжникам, прежде всего Илариону: ср. зачин его «Слова», где говорится о том, как «вера в вся
языкы просгреся и до нашего языка русского» (БЛДР. Т. 1. С. 26).
Археологические источники позволяют наблюдать воздействие конфессионального фактора не
только на уровне высокой книжной культуры, провозглашающей рождение «нового народа» и
одновременно сетующей в духе ветхозаветных пророков на его «маловерие» и даже «двоеверие».
Это относится к христианизации русской деревни.
«Диалектные» различия—пережитки племенного деления и очевидные свидетельства
традиционных этнокультурных контактов с другими этносами, финно-уграми, балтами,
тюрками,—сохранялись в традиционной культуре русской деревни. Однако не менее
показательны общерусские тенденции в развитии погребальной обрядности и этапы
трансформации погребального обряда на сельских кладбищах XI-XII вв. Как уже говорилось,
массовый археологический материал свидетельствует о необратимых переменах в духовной
культуре всего населения Древней Руси: на рубеже X и XI вв. обычай
341
кремации умерших повсюду сменяется обрядом ингумации. Эти перемены затрагивают не только
городские некрополи, где языческий обряд погребения под курганом исчезает сразу после
крещения, а останки погребенных по-язычески князей были перезахоронены по-христиански, но и
сельскую глубинку, где курганный обряд сохраняется, но умерших уже хоронят, а не сжигают.
Конечно, формирующаяся церковная организация, а в большей мере, пожалуй, княжеская дружина
способствовали распространению нового обряда и новых эсхатологических идей. Дело, однако, не
только в этом пресловутом крещении «огнем и мечом». Показательно, что первоначальное
поверхностное восприятие христианской обрядности, когда умерших действительно хоронили на

поверхности почвы под «языческим» курганом, на протяжении XI—XII вв. постепенно
углублялось—происходила эволюция погребального обряда, курганная насыпь уменьшалась,
могильная же яма углублялась. Эта эволюция свидетельствует о том, что вопрос, заданный
Феодосием Печерским веселящемуся на пиршестве князю Святославу,— «Так ли будет на том
свете?»—волновал отнюдь не только монахов и князей.
Эволюция погребального обряда—важнейшее свидетельство того, что христианские идеи,
связанные с представлениями о посмертном будущем и спасении души, распространяются среди
населения древней Руси ненасильственным путем. Крещение Руси в конце X в. совпало, как уже
говорилось, с ростом эсхатологических настроений в конце первого тысячелетия христианства, и
картина Страшного суда воздействовала на представления людей, живущих в кризисную эпоху
смены веры
7
.
В меньшей степени эсхатологизация затрагивала «светский» княжеский быт и общинные обряды
простонародья — календарные и семейные, связанные прежде всего с «посюсторонним» бытием:
эти обряды — «пиры и игрища»—и были главным предметом обличения в древнерусских
поучениях против язычества и были основанием для обвинения в «идолопоклонстве» и двоеверии
(Аничков 1914). Более того, фольклорная «культурная модель» интенсивно адаптировала
христианские (и иные неславянские) элементы, включив их в свою циклическую систему
ценностей «вечного возвращения», при которой и за календарным Рождеством Спасителя
следовали «святые» и «страшные» вечера—новогоднее возвращение предков с того света и т. п.
(см. о народных праздниках как перерывах во временной цепи и разрыве границ между тем и этим
светом — Толстая 1993; о соотношении христианского и народного календаря у славян—Толстая
1987; об изоморфизме суточного, годового и жизненного «циклов» — Толстой 1997а). При таком
взаимодействии народной и церковной традиции Рождество Спасителя приуро-
7
Это касалось не только собственно культовой — обрядовой сферы. Д. С. Лихачев (1979. С. 257) отметил
особую значимость посмертных панегириков в летописании: «Единственное исключение, когда летописное
изложение покидает динамичность рассказа, смерть исторического лица — князя или иерарха церкви. Здесь
течение событий как бы прерывается. Летописец останавливает описание потока событий, чтобы... почтить
память умершего в некрологической статье, подвести итог его деятельности, охарактеризовать его с точки
зрения вечных ценностей». В посмертной оценке был явлен и смысл действий человека в истории —
человек, а не «народ» становился ее субъектом (но становление и осмысление этой роли состоялось уже в
следующем — средневековом — периоде русской культуры: ср.Лшачев 1970а).
342
чивалось к «неподвижному» новогоднему празднеству, а Пасха и связанный с ней весенне-летний
цикл обрядности (в том числе масленица) оказывались «подвижными»—историческое время
библейских событий вторгалось в «магический круг» жизни русского крестьянства.
Эсхатологическое время церкви пребывало в сложных и противоречивых отношениях с
«календарным» циклическим временем народа и историческим (генеалогическим) временем
«княжений»—смены князей и династий, усовершенствования государственного законодательства.
Эти противоречия были явлены еще в первом конфликте между племенным строем и
«княжеским» государством при Ольге (глава 4. 2.2), когда древляне в соответствии с обычным
правом стремились «реставрировать» традиционные племенные порядки, Ольга же должна была
решать новые «исторические» задачи—проводить государственную реформу. Эсхатологизм
древнерусского христианства (лейтмотив «бегства от реального мира», свойственный
средневековой эпохе—ср. Ле Гофф 1992. С. 176 и ел. — и вызвавший ощущение паранои-
дальности древнерусской культуры у современного исследователя—Смирнов 1991. С. 74)
уравновешивался фольклорным мироощущением народа (в перспективе—эпическим
мироощущением «вечного» былинного царства) и историческими функциями государства—
вплоть до участия князей в летописании
8
. Для русского княжеского рода и Божий суд был
способом разрешения «исторических» конфликтов при дележе столов. Набиравшие силу города
синтезировали и также уравновешивали разнонаправленные социальные и культурные импульсы.
Государственная история, церковная идея и даже фольклор «совмещались» в культе святых
князей. Церковь—христианская идеология—придавала общий провиденциальный смысл всему
историческому развитию, процессам становления единого народа и единого государства. Все это,
вместе с «внешними»—византийскими и западноевропейскими—влияниями, придавало культуре
то внутреннее напряжение, которое было необходимо для осознания культурного единства и
делало естественным патетический тон древнерусской литературы.
Несколько идеализируя «киевский период» (в соответствии с общими традициями русской
культуры—от былинного эпоса до историософии Бердяева, Флоренского и Г. П. Федотова), Ю. М.
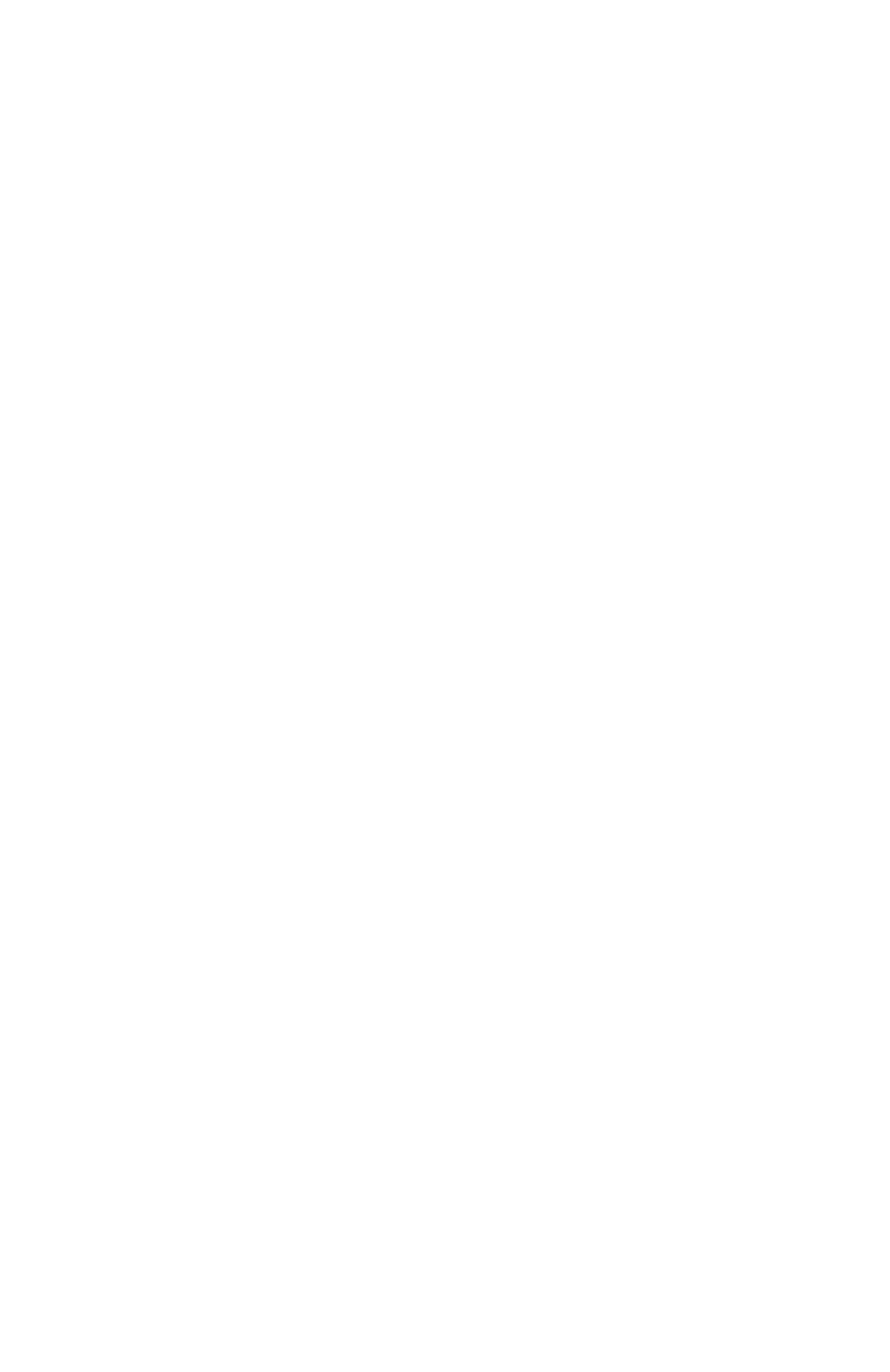
Лотман (1992. С. 9) противопоставляет его культурные принципы, основывающиеся на тернарной
структуре— включении «третьей» нейтральной и открытой зоны, прочим периодам истории
русской культуры, которые «характеризуются бинаризмом построения», абсолютизацией
противопоставления праведного и неправедного, своего и чужого как воплощений добра и зла. «
Киевская Русь с ее пересечением скан-динаво-византийских влияний, расцветшая на историческом
перекрестке Запада и Востока, создала уникальное в русской истории сочетание христианства и
рыцарства
9
. Пересечение столь разнообразных культурных структур в
8
Ср. слова А. М. Панченко (1996. С 110) о князьях— писателях и книжниках — Ярославе
Мудром, Владимире Мономахе, Андрее Боголюбском: «Литература не была делом исключительно
церковным. Она была и делом государственным».
9
Ср. представления Флоренского (1996. С. 225—226) о «женственной восприимчивости жизни в Киевской
Руси», которая «находит себе догматический и художественный сим-
343
дальнейшем не повторялось». Рыцарством древнерусскую дружину можно было называть лишь
условно, но безусловно именно княжеско-дружинному слою, древнерусским городам и
«нейтральной» культурной зоне был нанесен основной удар во время монголо-татарского
нашествия. Устояла, прежде всего, церковь.
Конфессиональный фактор развития Руси не был отделен от государственного, что было осознано
и подчеркнуто русскими писателями XI— начала XII вв., начиная с Илариона. Крестителями Руси
и ее первыми святыми были князья. В похвальном слове Ольге в ПВЛ (и Начальном своде)
говорится о «русском познанье к Богу» и о том, что княгиню «хвалят рустие сынови (в
Новгородской летописи сказано "рустие князи и сынове"—НПЛ. С. 120) аки началницу ибо по
смерти моляше Бога за Русь» (ПВЛ. С. 32). Мученическая смерть Бориса и Глеба заслуживала в
понимании русских книжников ореола святости не только потому, что они пали невинными
жертвами Свя-тополка Окаянного: их мученическая смерть имела помимо этого и специфически
«русский» государственный смысл—они не подняли руки на старшего брата. Братняя любовь
между князьями, как мы видели (гл. 4), была лейтмотивом и русского летописания, и деятельности
наиболее выдающегося из русских князей XI— начала XII вв. — Владимира Мономаха. И это не
случайно, ибо XI в. был не только веком развития единой древнерусской культуры, но и веком
княжеских усобиц.
Парадокс заключался в том, что те силы — князья и дружина,—которые были главным
консолидирующим фактором в IX—X вв., в XI в. стали фактором нестабильности. Раздачи
городов и «волостей» Владимиром Святым и Ярославом Мудрым своим сыновьям были
одновременно и условием единства Русской земли под властью единой династии князей-«братьев»
Рюриковичей, и основанием для княжеских усобиц с формированием «лествичной» системы и
сложной системы наследования княжеских «столов». Пути разрешения этих противоречий после
Любечского съезда князей (1097) с его знаменитым решением («кождо да держить отчину свою»)
вели к феодальной раздробленности и формированию русских княжеств и земель. Дело было не
просто в воле умножившегося потомства Ярослава и не в опрометчивой политике раздававших
волости «великих» князей (как думали еще московские книжники и продолжающие их традиции
историки «государственной» школы, включая С. М. Соловьева: ср. Пресняков 1993. С. 471—
172)—традиции «ряда» князей с городами, центрами волостей (в прошлом — племенных
территорий), рост числа и значения этих центров внутри Древнерусского государства приводили к
консолидации вокруг них древнерусских земель. Тенденция к «самовластию» князей (по
византийскому образцу), сформировавшаяся в эпоху единого Древнерусского государства—
Киевской Руси — не преодолела этой традиции, равно как и традиции «родового сюзеренитета»
над Русской землей как в узком (Среднее Поднепровье—Киев), так и в широком смысле.
Характерно при этом восприятие и употребление понятия самовластия в Древней Руси. В
христианской книжности самовластие—это, прежде всего,
вол Софии-Премудрости, Художницы Небесной [•••] Около древнейших наших, Софий-ных, храмов
обращается рыцарственный уклад Средневековой Киевской Руси».
344
самовластие души, свобода воли, выбора между добром и злом: «Веждь душу имы самовластьну»,
— гласит поучение Кирилла Иерусалимского (IV в.: см. Верещагин 1996. С. 67), и ему вторит
«Изборник 1073 г.», «Лаодикийское послание», составленное в конце XV в. Федором Курицыным,
«Слово о самовластии» и многие иные сочинения эпохи средневековья (ср. Клибанов 1994. С. 109
и ел.; Юрганов 1998. С. 216 и ел.; СлРЯ. Вып 23. С. 31 и ел.). Для оригинальной летописной
традиции самовластие—это, прежде всего, самостоятельное правление государя («автократия»,
