Новгородцев П., Муромцев С., Кареев Н. и др. Немецкая историческая школа права
Подождите немного. Документ загружается.

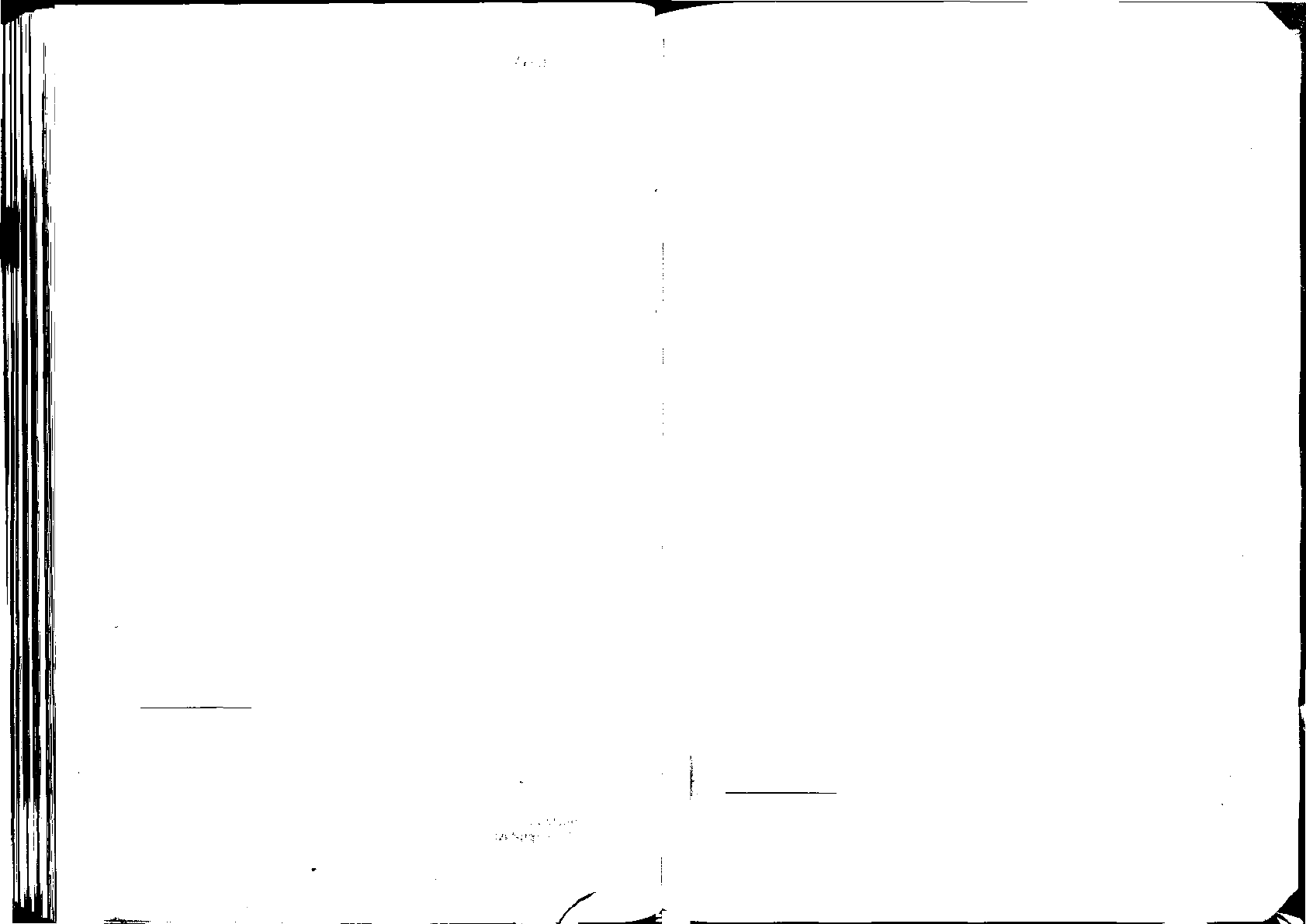
170
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
В 1883 г. он напечатал обширную статью под заглавием
«Gewohnheitsrecht und Irrtum», которая сразу заняла почетное
место в литературе предмета
1
. Имея в виду исследование специ-
ального вопроса об ошибке как о факторе, под влиянием кото-
рого укореняются новые обычаи, Цительман нашел необходи-
мым рассмотреть и более общую проблему об основе действия
обычного права. Заслугу Адикеса он подчеркивает, находя ее
недостаточно оцененной в литературе; но он ясно сознает и не-
достатки своего предшественника
2
. Любопытно отметить, что
свою научную родословную он также ведет от Шталя
3
. Мысль
Цительмана движется в сфере тех понятий, которые уже знако-
мы нам из предшествующего изложения. Различение формы и
содержания юридических норм и для него является основным
требованием. Посмотрим, как сам он выражает это требова-
ние, чтобы таким образом ознакомиться с особенностями его
взгляда.
Справедливо упрекая историческую школу в «смешении
формально-юридической точки зрения с материально-фило-
софской», он стремится ввести свое исследование в более уз-
кие и определенные рамки. «Вопрос идет здесь не о том, чтобы
построить философию права, но только о том, чтобы указать
признаки, по которым судья может узнать, принадлежит ли дан-
ное положение к применяемому им праву; здесь исследуются те
формальные условия, которые делают известное положение
юридическим, каково бы оно ни было по своему содержанию,
как бы ни было оно несправедливо, нецелесообразно и несо-
гласно с воззрениями народными»
4
.
Подобная постановка вопроса чрезвычайно ясно форму-
лировала те стремления, которые намечались в юридической
науке со времени Шталя. Какая разница между скромными
задачами, о которых говорит Цительман, и тем пониманием
проблемы, которое мы отметили выше у исторической школы!
рии обычного права. Я выбираю для своего изложения взгляды более
выдающиеся. Штурм, как известно, изменил впоследствии свои воз-
зрения (см. позднейшие его сочинения: Recht und Rechtsquellen. Kassel,
1883. S. 26 и Gewohnheitsrecht und Jrrtum. Kassel, 1884. S. 15, 18ff).
1
См. Zitelmann. Gewohnheitsrecht und Irrtum // Archiv fur die civilis-
tische Praxis. 1883. Bd. LXVI. Heft 3. S. 323-468.
2
Ibid. S. 445. s , .
3
Ibid. S. 443, 439.
4
Ibid. S. 428-430. ... . .. , . , . . '
ГЛАВА VIII. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ взглядов САВИНЬИ И ПУХТЫ... 171
С тех пор как потребность нравственного оправдания положи-
тельного права
1
перестала быть столь настоятельной, юристы
спокойно могли ограничивать область своего исследования
специально-юридическими темами, предоставляя смежные
вопросы ведению других областей науки. В частности, в отно-
шении к определению основы действия юридических поло-
жений давно уже пора было понять, что для целей юриспру-
денции совершенно достаточно ограничиться изучением тех
форм объективирования права, которые служат признаками
его обязательности. Дело историка и философа — исследовать
исторические устои правового порядка и нравственные его
опоры; юрист может ограничиться одной формальной сторо-
ной вопроса.
Обращаясь к дальнейшей характеристике условий дей-
ствия права, Цительман повторяет мысли своих предшест-
венников. И он думает, что значение права основывается на
авторитетной форме его существования независимо от соот-
ветствия его общим правовым убеждениям. Продолжительное
раздвоение между положительным правом и господствующими
в народе воззрениями, конечно, немыслимо: или право в силу
своего существования приобретает влияние на эти воззрения
и преобразовывает их по-своему; или же народные воззрения
вызывают изменения в праве, оказывая влияние на обычай и
законодательство. Для того, кто рассматривает крупные черты
развития, положительное право и народное убеждение кажутся
находящимися в согласии; но в отдельных случаях между ними
могут оказаться и противоречия. Многие юридические поло-
жения часто вовсе не соответствуют народному духу. Поэтому
народное убеждение обусловливает лишь содержание права,
но не юридическое его значение
2
.
Мы видим, что старая формула Шталя
3
становится по-
степенно общим местом юридической науки и однообразно
повторяется целым рядом писателей. Изучаемое нами теперь
формально-юридическое направление в этой формуле находит
свое краткое выражение. Цительман в этом отношении не го-
ворит ничего нового. Особенность его состоит в том, что он
с большей решительностью, чем это делалось ранее, применя-
1
См. выше, особ. с. 102-103.
2
Zitelmann. Gewohnheitsrecht und Irrtum // Archiv fiir«die civilistische
Praxis. 1883. Bd. LXVI. Heft 3. S. 430, 425-426.
3
См. выше, с. 125.
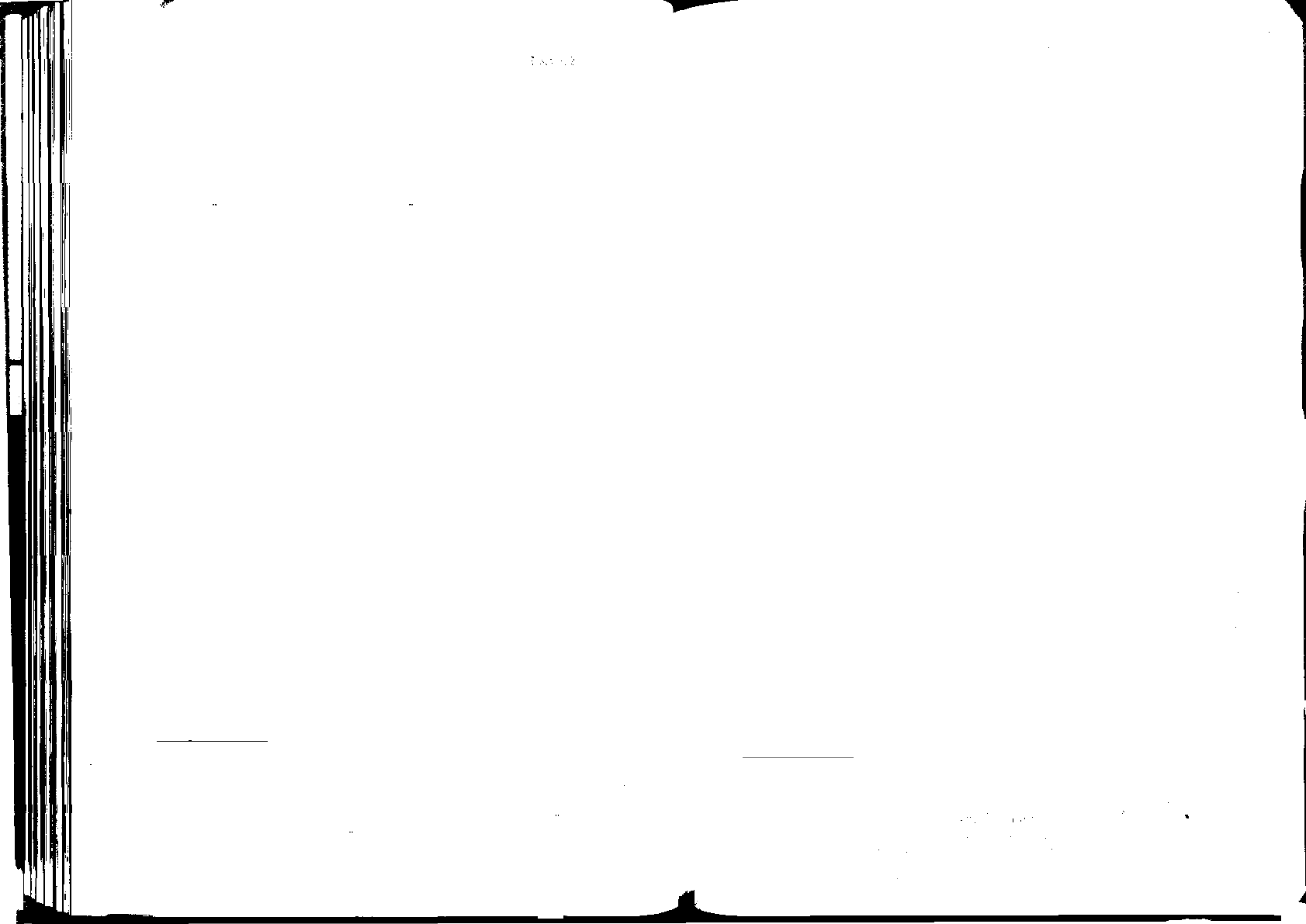
172
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
ет основные выводы характеризуемого направления к теории
обычного права. По его мнению, к удовлетворительному раз-
решению вопроса об обычном праве нельзя прийти, иначе как
отбросив окончательно идею общенародного убеждения. Юри-
дическое значение обычаев обусловливается фактом их про-
должительного применения: «ein Rechtssatz entsteht dadurch,
dass er langere Zeit hindurch... thatsachlich als Rechtssatz... geiibt
worden ist» [«Норма закона возникает в результате того, что ее
длительное время применяют в качестве нормы закона» (нем.) ]
1
.
В этом утверждении намечался совершенно определенный от-
вет на вопрос об основе действия обычных норм. Следовало
только развить подробнее мысль о правообразующем значении
давнего применения и осветить с этой точки зрения спорные
пункты в теории обычного права. Вместо этого мы находим у
Цительмана неожиданное уклонение в сторону. Откладывая
чисто юридические разъяснения до другой статьи
2
, он находит
нужным разрешить предварительно проблему психологическо-
го свойства: как образуется в человеческой душе представление
юридической обязательности известных положений. К этому
в конце концов и сводится, по его мнению, вопрос об основе
обязательного действия обычного права
3
.
Нельзя, конечно, отрицать научного интереса указанной
проблемы; но едва ли можно согласиться с тем, чтобы к это-
му именно сводилась теория обычного права. В этом отноше-
нии у Цительмана замечается удивительная неясность мысли,
навлекшая уже на него вполне заслуженные упреки со сторо-
ны его критика Рюмелина
4
. Автор наш, очевидно, смешивает
разнородные вопросы. Психологическое возникновение идеи
обязательности права представляет совершенно особую зада-
чу, имеющую мало общего со специально-юридическим вопро-
сом о формальных признаках этой обязательности. Юрист без
всякого ущерба для своих прямых и непосредственных целей
может ограничиться характеристикой внешних условий дей-
ствия юридических норм, предоставив изучение других сторон
1
Zitelmann. Op. cit. S. 443—445, ср. также 464—465.
2
Ibid. S. 467. Никакой другой статьи Цительман, однако, по этому пред-
мету не написал.
3
Ibid. S. 461, 463.
4
См.: Riimelin. Das Gewohnheitsrecht (первоначально Bjahrbucher fiir
die Dogmatik des heutigen romischen und deutschen Privatrechts. 1888.
Bd. XXVII. S. 152-253; см. особ. S. 167 ff.).
ГЛАВА VIII. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ взглядов САВИНЬИ И ПУХТЫ... 173
вопроса философу. Недостаточное разграничение задач ведет
здесь лишь к ущербу для результатов исследования. Между тем
Цительман то ставит вопрос на почву юридическую, то выхо-
дит за рамки специально-юридического анализа и вступает в
область психологии
1
.
Источник заблуждений нашего писателя заключается в том,
что он не составил себе ясного представления о значении тер-
мина «юридическое действие права». Если понимать под этим
термином внешнюю формальную обязательность юридических
норм, то психологические определения здесь совершенно из-
лишни. По самому существу понятия оно должно обозначаться
признаками строго формальными и ясно различимыми. Пере-
нося вопрос в область психологии, Цительман усложняет его
без нужды для дела. Отсюда и вышло, что, отвергнув с такой
решимостью момент общенародного убеждения и признав ос-
новой действия обычного права факт продолжительного со-
блюдения его, он говорит еще об известной психологической
квалификации этого факта, которую сводит в наличности мо-
тивов, побуждающих нормально мыслящего человека ожидать
дальнейшего применения данных норм
2
. Основным услови-
ем образования этих мотивов он считает долгое и устойчивое
существование обычаев, заставляющее думать, что они будут
иметь силу и далее. По его мнению, и закон приобретает свою
настоящую силу только после долгого пользования им, превра-
щающего его в своего рода обычай. С этой точки зрения, все
действующее право, в сущности, является правом обычным
3
.
Последние замечания кажутся нам уже совершенно лишними.
Цительман сам говорил в другом месте, что юридическая сила
закона сообщается ему исключительно актом законодательной
воли
4
; никаких других условий здесь не требуется. Устойчивое
существование законодательных норм может упрочить их жиз-
ненное значение, но формальная обязанность их проистекает
не отсюда. Особенно же неуместно требовать психологической
квалификации соблюдения норм, да еще в столь неопределен-
ном виде, как настроение нормально мыслящего человека. Для
1
Ср. в его статье (Zitelmann. Gewohnheitsrecht und Irrtum // Archiv fiir
die civilistische Praxis. 1883. Bd. LXVI. Heft 3) с одной стороны с. 428-431
и с другой — 446 слл., 357.
2
Ibid. S. 445, 456ff„ 463.
8
Ibid. S. 459, 467.
4
Ibid. S. 425.
I
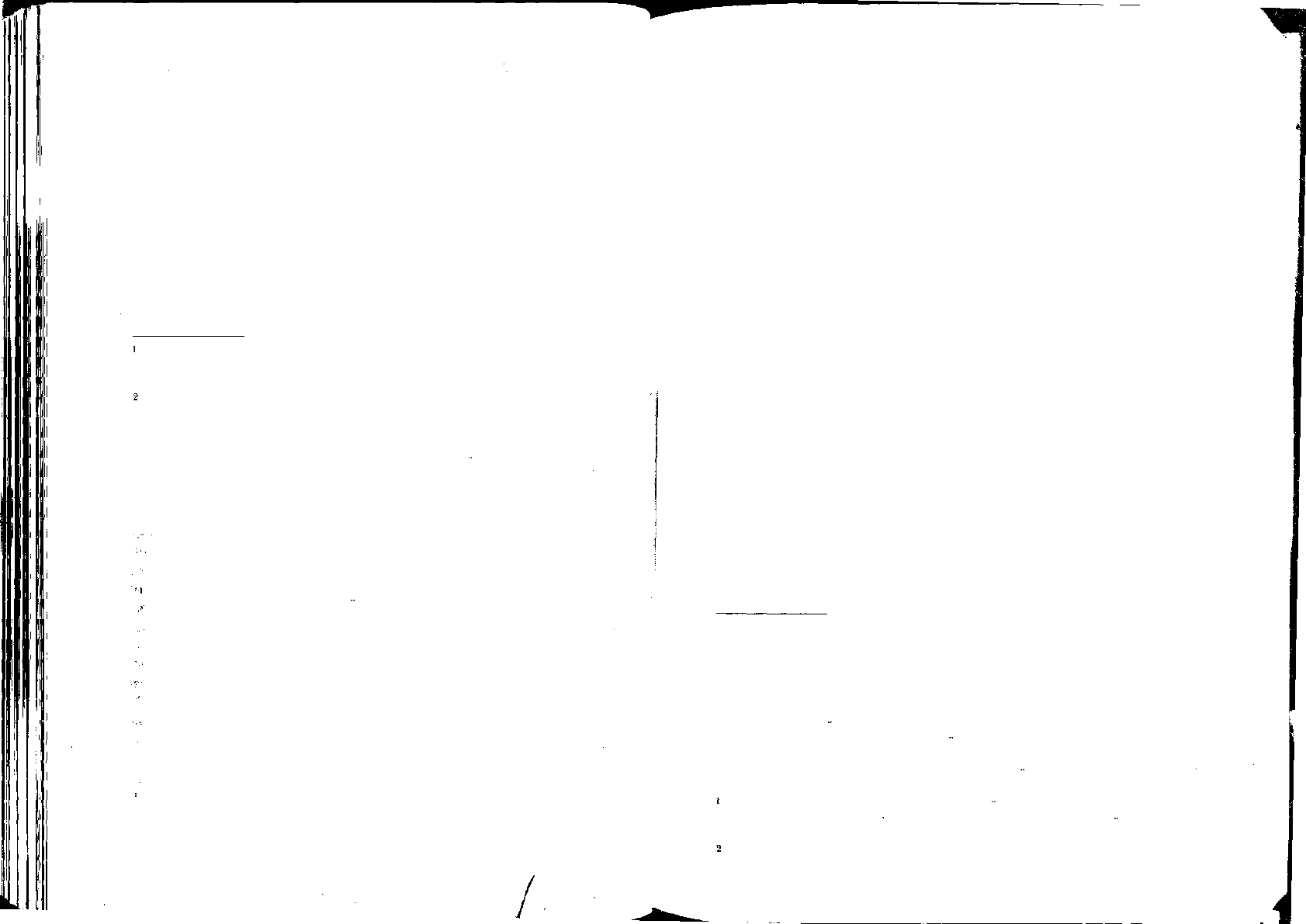
174
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
юриста это понятие совершенно непригодно. Применение
права сопровождается, конечно, сознанием его обязательнос-
ти, но это сознание никак не может считаться основой его
действия. Как представление юридического значения тех или
других положений, оно обозначает собой простое значение их
внешней практической силы, действительность которой оно
уже предполагает. К этому, в сущности, можно свести и утверж-
дение Цительмана, если принять во внимание, что решающее
значение принадлежит и в его теории факту давностного при-
менения
1
; из наблюдения этого факта и возникает сознание
обязательности, являющееся, таким образом, моментом вто-
ричным и производным
2
.
См. в особ.: Ibid. S. 464: «...die Macht der dauernden Thatsachen es ist,
welche dem Gewohnheitsrecht Geltung verschafft» [«...юридическое
действие обычая возникает в силу длительности его бытования» (нем.)}.
Читатель, знакомый с юридико-философской литературой последних
лет, легко откроет известные пункты соприкосновения между взгля-
дами Цительмана и так называемой теорией признания (Anerkennugs-
theorie), которую еще с начала 70-х годов развивал в своих статьях и
сочинениях Бирлинг (первоначально в Zeitschrift fur Kirchenrecht von
Dove und Friedberg. Bd. X. 1871. S. 422ff. u. Bd. XIII. S. 256ff); затем в
Kritikjuristischer Grundbegriffe. 1877—1880 Hjuristische Principienlehre.
1894. На это соприкосновение указывает и сам Цительман (Zitelmann.
Gewohnheitsrecht und Irrtum // Archiv fiir die civilistische Praxis. 1883.
Bd. LXVI. Heft 3. S. 447, Note 226). To, что у Цительмана называет-
ся представлением обязательности права, свойственным нормально
мыслящему человеку, у Бирлинга под именем признания, которое он
определяет как «ein dauerndes habituelles Verhalten in Beziehung auf
die betreffenden Rechtsgrundsatze» [«длительное привычное пове-
дение в отношении соответствующих правовых принципов» (нем.)]
(Kritikjuristischer Grundbegriffe. Bd. I. S. 7; Juristische Principienlehre.
S. 41—43). Оно и служит основой обязательной силы права. Дальней-
ший анализ понятия признания приводит Бирлинга к заключению,
что оно может быть вынужденным, бессознательным и невольным
(Kritikjuristischer Grundbegriffe. Bd. I. S. 6; Juristische Principienlehre.
S. 45—46). Подобное определение термина отнимает у него значение
явно выраженного акта и приравнивает его к понятию примирения
(хотя бы и недобровольного) с утвердившимся порядком и с совершив-
шимися событиями. Таким образом, идея признания является не чем
иным, как обратной стороной понятия господства права. В этом смыс-
ле оно может служить описанием практического значения юридиче-
ских норм, — правильным, но слишком общим. Для юриста требуется
определение более точное и подробное. Как видно из приведенных
ссылок, значение внешних фактических моментов у Бирлинга высту-
пает еще резче, чем у Цительмана: понятия прочного фактического
ГЛАВА VIII. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ взглядов САВИНЬИ И ПУХТЫ... 175
Итак, воззрения Цительмана, представляя в некоторых от-
ношениях шаг вперед сравнительно со взглядами его предшес-
твенников, страдают еще известными недочетами. Во всяком
случае у него, как и у Адикеса, заметно стремление поставить
теорию обычного права на новые основания. Момент продол-
жительного применения был у них подчеркнут гораздо реши-
тельнее, чем прежде. У Цительмана, сверх того, совершенно
была отброшена идея общественного убеждения, чем окон-
чательно порывались традиции исторической школы. Собст-
венная его попытка сохранить известную психологическую
квалификацию факта применения резко отличалась от старых
воззрений в том отношении, что сознание юридической обяза-
тельности обычаев, по его представлению, не предшествовало
их применению, а вытекало из него. Все это знаменовало собой
поворот к новой точке зрения.
После Цительмана по теории обычного права писали Рю-
мелин
1
и Шуппе
2
. Однако ни один из названных писателей не
дал удовлетворительного решения вопроса. За Рюмелином ос-
танется, по крайней мере, заслуга более ясного определения
термина «действие права». Полемизируя с Цительманом, он
совершенно правильно указал на необходимость различения в
понятии Geltung нравственной стороны (die Geltung im Sinn
einer Verpflichtung) и юридической (factische Geltung [факти-
ческое действие (нем.)]). В отношении к праву следует, конеч-
но, разделять обязательность внутреннюю и внешнюю. Первая
вытекает из принадлежности его к нравственному порядку,
вторая указывает на его собственный авторитет, опирающий-
господства и юридического действия (Geltung) совпадают у него впол-
не (см. особ.: Kritikjuristischer Grundbegriffe. Bd. I. S. 73—74). Поэтому
в теории Бирлинга всего менее можно найти объяснение внутренней
нравственной силы права, как это единогласно признается его кри-
тиками (см.: Geyer. // Kritische Vierteljahresschrift fiir Gesetzgebung
und Rechtswissenschaft. Bd. I (XX). 1878. S. 382ff., особ. S. 391; Schuppe.
// Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft. Bd. V. 1882, особ.
S. 271 и Merkel. Juristische Encyclopadie. Berlin und Leipzig, 1885. S. 32).
To же самое замечание делает Рюмелин (Riimelin. Das Gewohnheitsrecht
//Jahrbiicher fiir die Dogmatik des heutigen romischen und deutschen
Privatrechts. 1888. Bd. XXVII.) против теории Цительмана.
См. его упомянутую уже выше статью: Rumelin. Das Gewohnheitsrecht
(первоначально в Jahrbiicher fiir die Dogmatik des heutigen romischen
und deutschen Privatrechts. 1888. Bd. XXVII.
Schuppe. Das Gewohnheitsrecht. Breslau, 1890. .
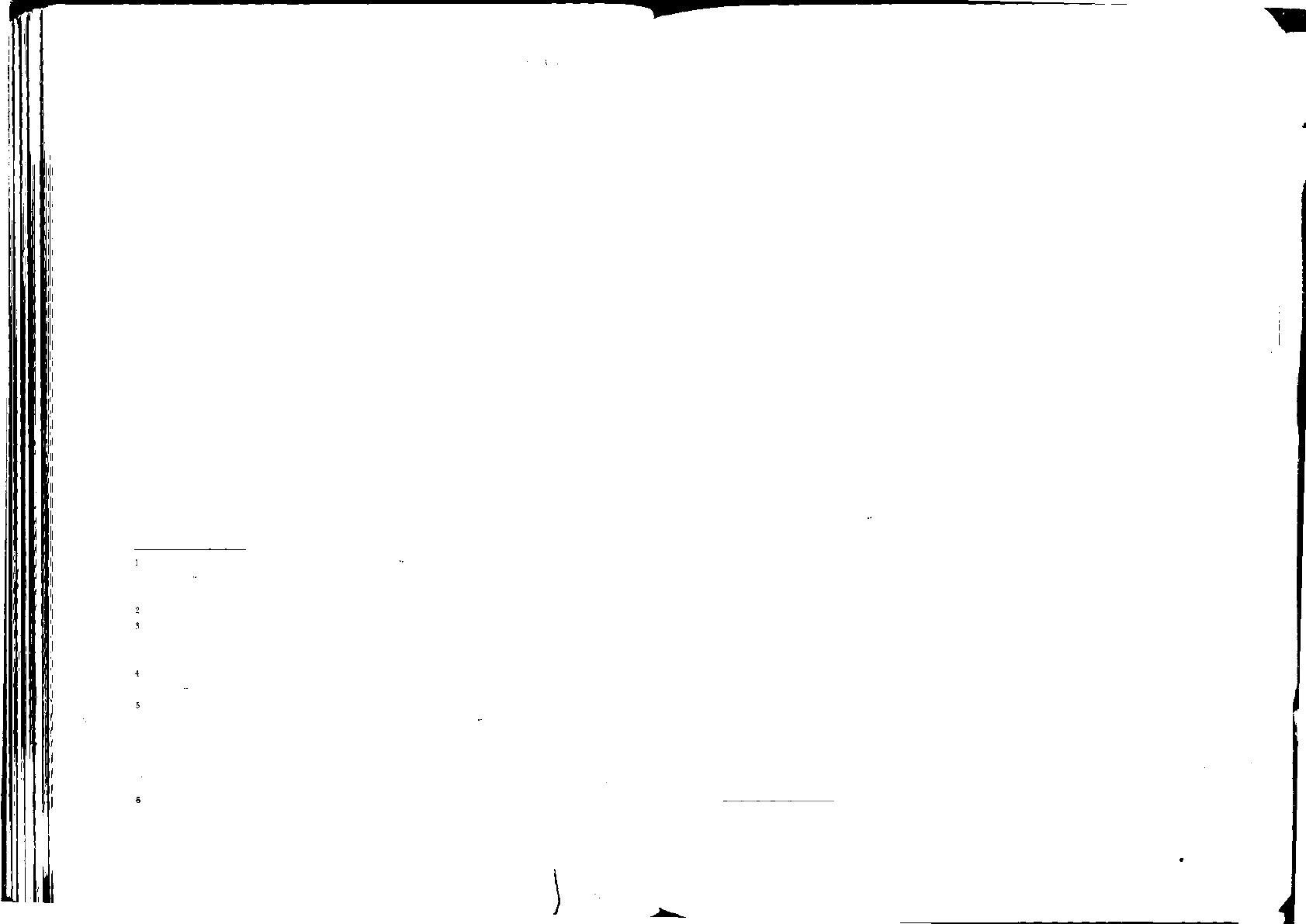
174
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
ся на средства внешнего принуждения. Что касается юриди-
ческого действия обычаев, то и Рюмелин склоняется к тому,
чтобы признать его основой факта предшествующего примене-
ния
1
. Он отказывается только допустить, что нравственным ос-
нованием права можно было считать какие-либо фактические
моменты без дальнейшей их этической оценки
2
, — что было,
конечно, вполне последовательно. Другие выводы Рюмелина
едва ли найдут себе сторонников в наше время. Сюда следует,
прежде всего, причислить его утверждение, что нравственное
значение обычного права зависит от обязательности государ-
ственного права, часть которого оно составляет
3
. Еще более не-
удачна его попытка разрешить вопрос о нравственной основе
обычаев в специальном применении к Германии
4
. Как будто бы
подобные вопросы могут рассматриваться вне связи с тем це-
лым, к которому они принадлежат!
Что касается монографии Шуппе, то по общему духу свое-
му она является произведением отсталым. Недостаточная
ясность мысли, искусственность терминологии, неумение по-
нять запросы современности — свойства, присущие и другим
писаниям трудолюбивого грейфсвальдского философа, — слу-
жат очень невыгодными условиями для успеха выводов автора
5
.
В отношении к обычному праву он стоит на старой точке зре-
ния, не различавшей формально-юридической основы его от
нравственной
6
.
Riimelin. Das Gewohnheitsrecht / / Jahrbucher fiir die Dogmatik des heu-
tigen romischen und deutschen Privatrechts. 1888. Bd. XXVII. S. 175, 178,
194.
Ibid. S. 164-167, 186, 193.
Ibid. S. 186ff. Шуппе совершенно прав в своем отрицательном отзыве
об этой стороне воззрений Рюмелина (см.: Schuppe. Das Gewohnheitsre-
cht. Breslau, 1890. S. 96).
Riimelin. Das Gewohnheitsrecht / / Jahrbiicher fiir die Dogmatik des heuti-
gen romischen und deutschen Privatrechts. 1888. Bd. XXVII. S. 186.
Примером определений Шуппе может служить следующее: «Recht ist
derjenige (objectiv giiltige) Wille, welcher aus der Schatzung der BewuBt-
seinskonkretion als solcher hervorgeht» [«Право есть (объективная) воля,
проистекающая из оценки конкретного сознания» (нем.)] (Schuppe. Der
Begriffdes subjektiven Rechts. Breslau, 1887. S. 3; здесь же ссылки на дру-
гие сочинения).
Общие выводы его см. в: Schuppe, Wilhelm. Das Gewohnheitsrecht. Breslau,
1890. S. 127ff.; ср. также к этому с. 17 слл. Очень характерна для автора
его полемика с Дернбургом, к воззрению которого он становится в оп-
позицию (см. с. 127 прим.).
ГЛАВА VIII. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ взглядов САВИНЬИ и Пухты... 176
Но если в специальной литературе вопроса встречаются
еще иногда произведения, переносящие нас в эпоху Савиньи и
Пухты, то общее движение науки несомненно благоприятству-
ет утверждению иных представлений. Любопытным признаком
времени служит, между прочим, и то, что новые идеи успели
уже найти себе приют в учебниках. Поддержанные в свое вре-
мя Бринцом
1
, запечатленные авторитетом Дернбурга, отчасти
принятые Гёльдером и Регельсбергером, они могут рассчиты-
вать на дальнейшее распространение среди юристов.
Дернбург еще в первом издании своих «Пандект» в 1885 г.
решительно отвергнул правообразующее значение общенарод-
ного убеждения. Рассуждения исторической школы по этому
поводу имеют, по его мнению, чисто философский характер.
Обязательная сила обычного права зависит исключительно от
факта его предшествующего применения. Требование соответ-
ствия обычаев народному убеждению ни на чем не основано и
чуждо положительному праву. Человеческому духу свойственно
уважение к старине и опасение нарушить то, что существует
издавна; на этом и основывается авторитет давностного при-
менения. Что касается считавшегося прежде необходимым
сознания обязательности (opinio juris sive necessitatis) как от-
личительного свойства обычаев юридических (по сравнению
с бытовыми), то у Дернбурга оно сводится к чисто внешнему
признаку: «die langjahrige Uebung muss eine Rechtsgewohnheit
sein», т.е. применение обычая должно иметь юридический ха-
рактер
2
. Оставаясь на почве строго формальных определений,
ничего другого нельзя и требовать. Сознание обязательности
юридических обычаев служит не условием, а последствием их
юридической силы. Решающее значение имеет здесь факт пре-
цедента. Opinio juris основывается исключительно на этом и
не может быть удостоверено иначе как ссылкой на предшеству-
ющую практику.
Это хорошо понял Гёльдер. Если под opinio juris, рассужда-
ет он, разумеется не что иное, как убеждение в юридической
обязательности известных положений, то о необходимости
этого убеждения для образования обычного права не может
быть и речи; ибо в таком случае возникновение каждого нового
1
В упомянутой выше (с. 170) рецензии его на книгу Адикеса. Менее ясно
в: Brinz. Lehrbuch der Pandekten. 1857.
2
Dernburg. Pandekten. Bd. I. §26.
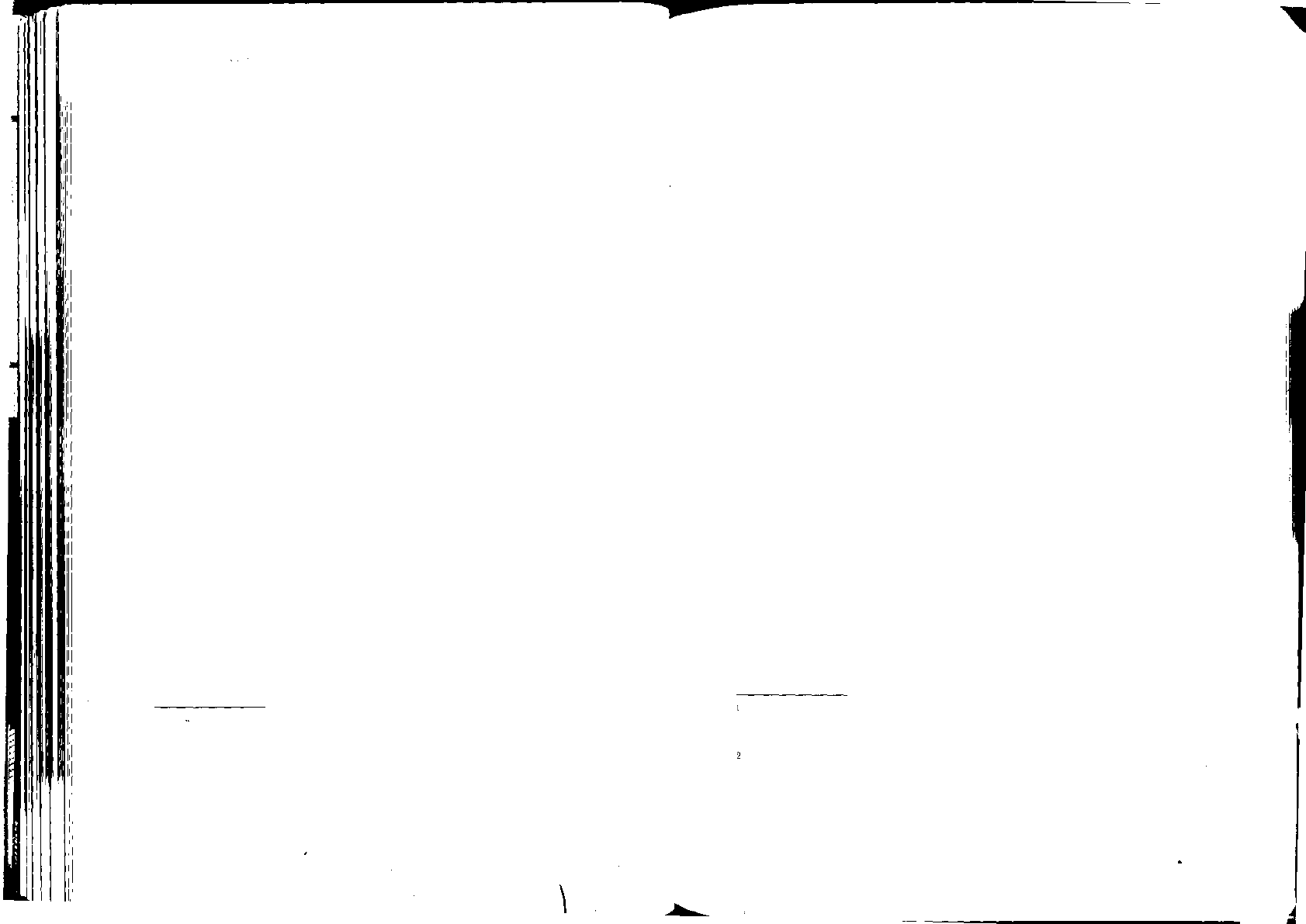
174
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
юридического обычая было бы обусловлено ошибкой относи-
тельно существующего права (порождающей мысль о юриди-
ческой обязательности правила, доселе несуществовавшего).
В действительности подобное убеждение как ошибочное не
может иметь юридического значения и как вытекающее из
наличности уже сложившегося обычая оно не обусловливает
его существования, а само имеет в нем свое основание. Перво-
начальное появление и последующее утверждение известного
обыкновения может покоиться на любых мотивах, но для того,
чтобы это обыкновение сделалось основой для обычного пра-
ва, оно должно стать независимым от этих мотивов, так, чтобы
факт предшествующего применения был достаточным основа-
нием для дальнейшей практики
1
.
Определения Гёльдера могут считаться решающими. Не-
сомненно, что юридический обычай как таковой появляется
лишь с тех пор, когда то или другое правило начинает приме-
няться в силу прецедента. Пока этого нет, обычай находится
еще в процессе своего образования. Как справедливо замеча-
ет Сергеевич, «для того, чтобы образовался обычай, связыва-
ющей частную волю, в памяти людей должен уже накопиться
настолько значительный материал сходных прецедентов, что-
бы воля была подавлена этим материалом»
2
. Без этого обычное
право немыслимо. Всего менее возможно допустить, чтобы оно
существовало до практики. Обычная норма, предшествующая
внешнему применению (из которого только она и может воз-
никнуть), есть contradictio in adjecto. Поэтому если бы надо
было назвать сочинение, которое стоит всего далее от понима-
ния истинного существа юридического обычая, то без колеба-
ний следовало бы указать на знаменитую монографию Пухты.
Новая теория обычного права легко может вызвать против
себя упреки в формальности и поверхностности: сторонники
прежнего взгляда столь охотно пользуются оружием, заимство-
1
Holder, Edward. Pandekten. Allgemeine Lehren. Freiburg i. B. 1891. S. 30.
Гёлвдер упоминает еще, как о fons remota всего действующего права, об
общей воле (Gemeinwille), проявляющейся в законе и обычае (с. 28—29).
Это остаток старых воззрений, который препятствует нам причислить
этого писателя к новому направлению без ограничительных оговорок.
Зато взгляд его на fons proxima обычного права не оставляет желать ни-
чего лучшего.
2
Сергеевич. Опыты исследования обычного права // Наблюдатель. 1882.
№1.С. 20.
ГЛАВА VIII. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ взглядов САВИНЬИ И ПУХТЫ... 179
ванным из старого арсенала исторической школы. Но эти упре-
ки нетрудно отразить простым замечанием, что указанная тео-
рия к тому именно и стремится, чтобы быть чисто формальной
и строго юридической. Ее общему смыслу нисколько не проти-
воречит утверждение, что обычаи возникают на почве воззре-
ний и убеждений общества, из которых они черпают свое ре-
альное значение. Подобно тому как закон вызывается к жизни
творческими факторами общественного развития и подобно
тому как противоречие этих факторов может превратить его в
мертвую букву, точно так же и под теми же влияниями укореня-
ется и выходит из употребления обычай. В целях и потребно-
стях данного времени, скажем словами Иеринга, заключаются
основания, почему создается тот или другой институт и почему
он имеет свойственную ему форму. Здесь же следует искать объ-
яснения, почему данный институт получает юридический ха-
рактер, а не остается на степени нравственного или бытового
установления. Однако этот характер запечатлевается ему лишь
санкцией законодательного признания или обычного приме-
нения. Только выливаясь в законченные формы обычая или
закона, юридические положения получают свою обязательную
силу. Эти внешние формы объективирования правовых норм и
являются поэтому основой их действия.
Само собой разумеется, что обычай как источник права
должен быть не индивидуальной привычкой, а выражением
коллективного сознания
1
. Юридические нормы не могут дей-
ствовать иначе как опираясь на признание общей (или, точнее
говоря, господствующей в обществе) воли. Весь вопрос со-
стоит в том, в каких формах проявляется эта воля и по каким
признакам мы узнаём вытекающие из нее обязательные нор-
мы. Что касается обычного права, то подобным признаком
является предшествующее применение его с юридическими
последствиями
2
.
Коркунов. Лекции по общей теории права. III изд. 1894. С. 291—292. От-
правляясь от этого соображения, автор думает, что основой обычного
права является его общность (см. след. прим.).
Понятие общности обычая содержится уже implicite [неявно] в этом
признаке. Напротив, приняв определение профессора Коркунова, что
основой обязательности обычая является его общность, мы затушевали
бы таким образом самую существенную и коренную черту обычного пра-
ва, его давностный характер. Древнерусское словоупотребление метко
обозначало это свойство юридического обычая, называя его «пошли-
ной» (то есть тем, что пошло, что установилось издавна) и «стариной»
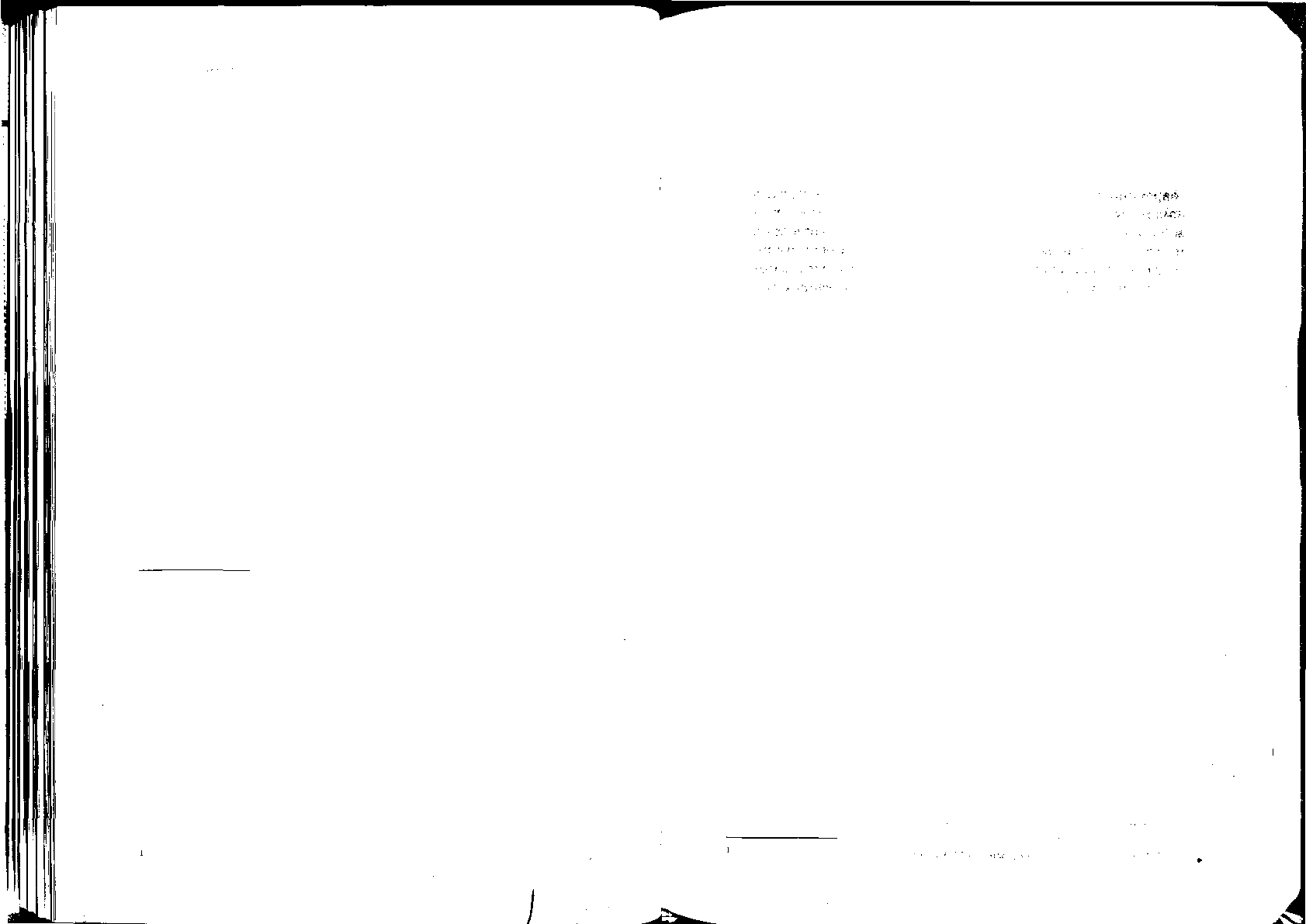
174
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
Я остановился с некоторой подробностью на характеристи-
ке новой теории обычного права с целью показать, что движе-
ние современной мысли и в данном вопросе совершенно про-
тивоположно общему духу исторической школы. Различение
формальной и материальной основ права постепенно утверж-
дается и здесь. Поэтому не будет преждевременным сказать,
что мы находимся накануне выработки цельной и последова-
тельной теории образования права, которая избавит нас, нако-
нец, от старых неясностей, укоренившихся в юриспруденции
со времени Савиньи и Пухты. И теперь мы имеем уже во мно-
гих отношениях образцовое, хотя и краткое, изложение учения
об источниках права в «Пандектах» Регельсбергера. Почтен-
ный немецкий ученый опытной рукой собрал плоды предшес-
твующего научного развития и одарил нас теорией, которая
в общем находится на уровне современного состояния науки
1
.
Немногие пункты, возбуждающие сомнение, имеют второсте-
пенный характер и легко поддаются исправлению без ущерба
для целого. Я не буду, однако, ни излагать взглядов автора, ни
подвергать их разбору, так как это значило бы вновь воспроиз-
вести содержание настоящего параграфа. Следуя своему плану,
я должен теперь обратиться к рассмотрению попыток пере-
строить в духе нового научного течения понятие философии
права. Направление, которое я имею в виду, само обозначило
себя позитивным и заявило о своем желании быть «философи-
ей положительного права». Уже по этому названию мы можем
(Сергеевич. Опыты исследования обычного права // Наблюдатель. 1882.
№2). Нужды нет, что это же свойство присуще и другим обычаям (на-
пример бытовым); его во всяком случае нельзя оставлять в тени, говоря
об основе действия обычного права. Differentia specifica [видовое от-
личие (лат.)] обозначается понятием применения обычая с юридиче-
скими последствиями, — признак гораздо более точный, чем понятие
общности. «Die Uebung eine Rechtsgewohnheit sein» [«Обычай должен
применяться в юридической практике» (нем.)} — это указание Дернбур-
га я считаю совершенно достаточным. Для меня ценно другое утверж-
дение профессора Коркунова, что сознание обязательности (которое,
по его мнению, и сообщает обычаю юридическую силу) «является как
последствие присущей людям наклонности ожидать при повторении
одинаковых условий и повторения одинаковых действий, в силу чего
они рассчитывают на соблюдение другими установившегося, обычно-
го порядка» (ibid. S. 293). Момент повторения является, таким образом,
исходным. Отношение его к сознанию обязательности разъяснено уже
выше.
Regelsberger. Pandekten. Leipzig, 1893. Bd. I. S. 82ff. •
ГЛАВА VIII. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ взглядов САВИНЬИ и ПУХТЫ... 180
судить, что речь идет здесь об антитезе старой естественно-пра-
вовой школы. Постараемся же охарактеризовать общие черты
этого нового направления, чтобы перейти затем к изложению
взглядов его главнейших представителей, Меркеля и Бергбома.
§2. Философия
положительного права ..,..
1. Общие замечания
:
*
Философия права издавна развивалась на почве естествен-
но-правовых воззрений. Возникнув в связи с критическим
отношением к существующему
1
, она отразила на себе особен-
ности направления, которому принадлежало некогда господ-
ствующее значение в юриспруденции. Печать дисциплины
этической с нормативным характером была традиционной ее
принадлежностью.
Важная и влиятельная, в качестве нравственно-критичес-
кой инстанции старая философия права всегда страдала неточ-
ностью специально-юридических определений. В этом отноше-
нии ее главный недостаток заключался в неумении найти гра-
ницы для понятия права, к которому она относила не только
положительные определения, но и нравственные требования.
Между тем значение последних, как бы оно ни было бесспорно,
имеет совершенно особый характер и не должно быть смеши-
ваемо с действием первых. Историческая школа не только не
устранила этого недоразумения, а напротив, способствовала
его утверждению в науке. Смешение начиналось у нее только
с другого конца, так как исходной ее целью было доказать не
действительность реального, а идеальность действительного,
что приводило, впрочем, к тому же расширению рамок сущес-
твующего на счет долженствующего. Однако важным резуль-
татом стремлений этой школы явилось то, что центр тяжести
перенесен был в область положительного права, которое вдруг
выросло в интересе и значении. Когда к этому присоединилось
более точное понимание существа положительных норм, необ-
ходимо должно было произойти и соответствующее изменение
См. выше, с. 7—10.
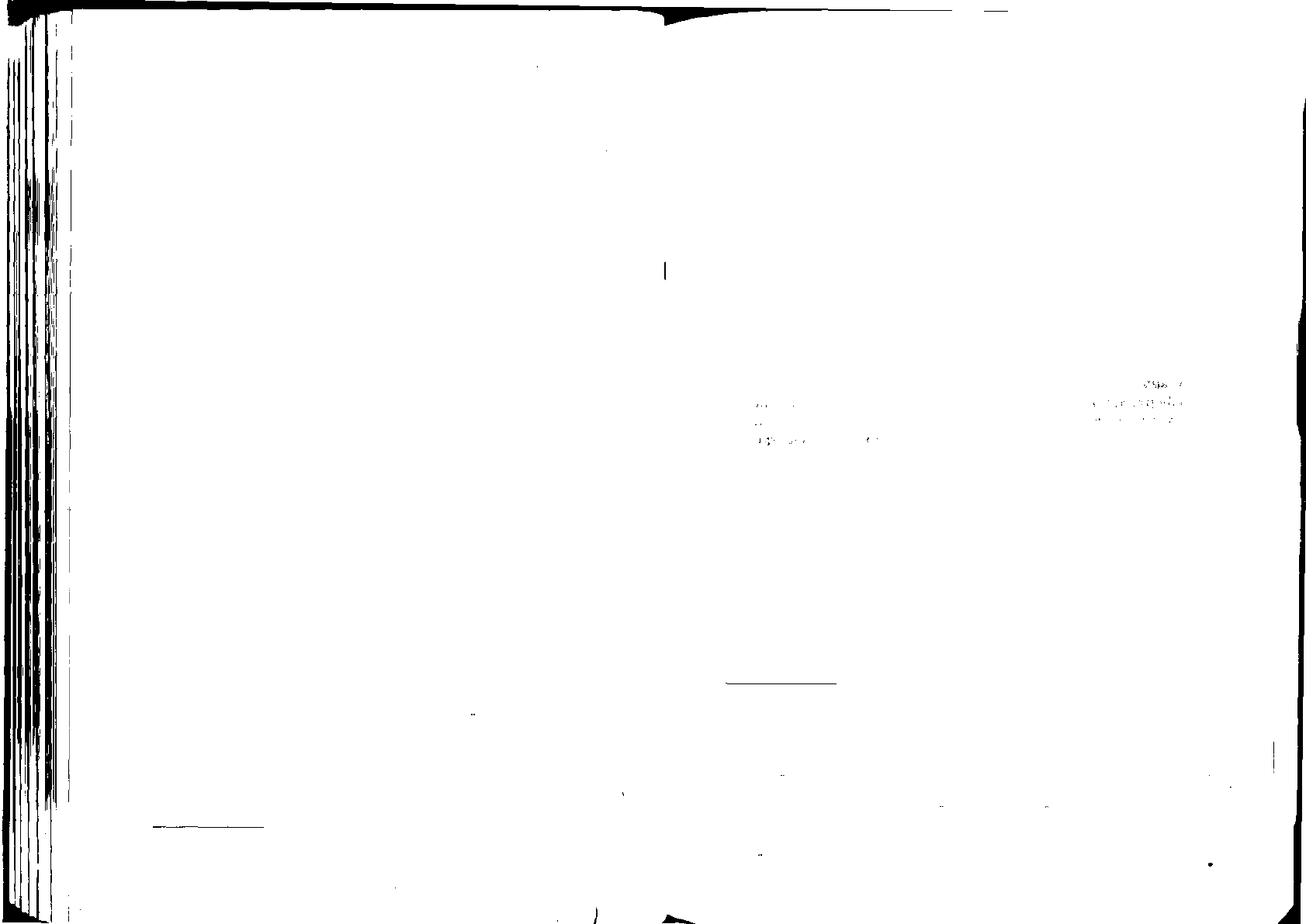
182
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
в содержании философии права. Таково было первое условие,
из которого объясняются новые ее тенденции.
Второе заключается в общем разочаровании опытами ес-
тественно-правовых построений, столь характерном для на-
шего времени. Утомленные противоречием отдельных систем,
современные юристы готовы отказаться от поисков идеальных
начал. Попытки старой философии права кажутся им зара-
женными наследственным грехом субъективизма и лишенны-
ми научного знания. Более того, самое осуществление в праве
нравственных начал начинает казаться иным исследователям
несбыточной мечтой, — «идеалом, сияющим издалека, подоб-
но недосягаемому созвездию», по выражению Меркеля. А вмес-
те с тем среди юристов все более утверждается сознание, что
положительное право, каково бы оно ни было по своим нрав-
ственным свойствам, имеет самостоятельный интерьер и осо-
бое значение, в качестве порядка, властно регулирующего об-
щественные отношения. Это не только реальная сила, которая
господствует над нами и с которой мы должны поэтому считать-
ся, но вместе с тем твердая почва, на которой воздвигается зда-
ние наших неотъемлемых прав и непререкаемых притязаний.
Вот почему точное знание действующего права имеет высокую
практическую важность. Современная юриспруденция проник-
нута этим убеждением. Философия права отвечает на вопросы
времени и со своей стороны старается способствовать изуче-
нию положительного материала. Отсюда ее стремление к ус-
тановлению точных юридических понятий, которые могли бы
служить отправными пунктами для специальных исследований.
Я заметил уже выше, что и это новое направление стано-
вится под знамя историзма. Его последователи не хотят знать
никакого иного права, кроме действительно исторического, то
есть строго позитивного. С этой точки зрения взгляды Савиньи
представляются им еще не проникнутыми истинным истори-
ческим духом. Опять старая доктрина объявляется неистори-
ческой
1
. «Durch die historische Schule, aber uber die historische
Schule hinaus» [«С помощью исторической школы — за ее пре-
делы» (нем,)]
2
— таков лозунг философии положительного пра-
ва, являющийся, впрочем, характерным для всей юриспруден-
ции нашего времени.
ГЛАВА VIII. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ взглядов САВИНЬИ И ПУХТЫ... 183
Поскольку это новое течение исходит из интереса к поло-
жительному праву и из стремления к точным юридическим оп-
ределениям, оно является не только законным, но и совершен-
но необходимым направлением мысли. В этом отношении ему
можно только посочувствовать. Другой вопрос, в какой мере
его основные тенденции устраняют задачи, преследовавшиеся
прежней философией права. Ни Меркель, ни Бергбом не ду-
мают, подобно Гуго, отрицать связь права с нравственностью;
еще менее склонны они идеализировать существующее подоб-
но Савиньи
1
. Их полемика с естественным правом объясняется
отчасти противодействием против смешения существующего
и долженствующего, в котором столь повинна была старая фи-
лософия, отчасти скептическим отношением к попыткам иде-
альных отношений. Чтобы оценить значение этой полемики,
мы должны войти в более подробное рассмотрение взглядов
отдельных представителей направления. •
1
-
"
1<!,iv
2. Меркель
2
а) В пользу преобразования философии права Меркель вы-
сказался впервые в известной своей статье, помещенной им в
1874 г. в журнале Грюнтуа
3
.
Основное утверждение Меркеля состоит в том, что фило-
софия права должна иметь предметом своего изучения тот же
самый положительный материал, что и юриспруденция. Задача
философии вообще заключается не в том, чтобы противопос-
тавлять миру действительности свои построения, а в том, что-
бы понимать существующее как оно есть. Поэтому и философия
права должна заниматься правом действительно существую-
щим. Обобщение конечных выводов, доставляемых специаль-
1
См. выше, с. 132.
2
Bergbohm. Jurisprudenz und Rechtsphilosophie. Leipzig, 1892. Bd. I. S. 25.
1
См. выше, с. 85—86.
2
Некоторые замечания о философских взглядах Меркеля можно найти
в книжке Петроне: Petrone. La fase recentissima della filosofia del dritto in
Germania. Pisa, 1895. P. 21—41 и в статье Гертлинга: Hertling. Ueber die
Methode und Aufgabe de Rechtsphilosophie // Philosophisches Jahrbuch
der Gorres-Gesellschaft. 1895. См. также рецензию Шютце в журнале
Грюнтуа (1879 г.).
s
MerkeL // Griinhut's Zeitschrift fur das privat- and offentliche Recht. Bd. I.
1874. S. 1—10, -102—121. Ср. также статью «Rechtsphilosophie» в сборнике
Фишера: Rechtsforschung und Rechtsunterricht auf den deutschen Univer-
sitaten. Hsg. v. O. Fischer. Berlin. 1893. S. 128ff.
1
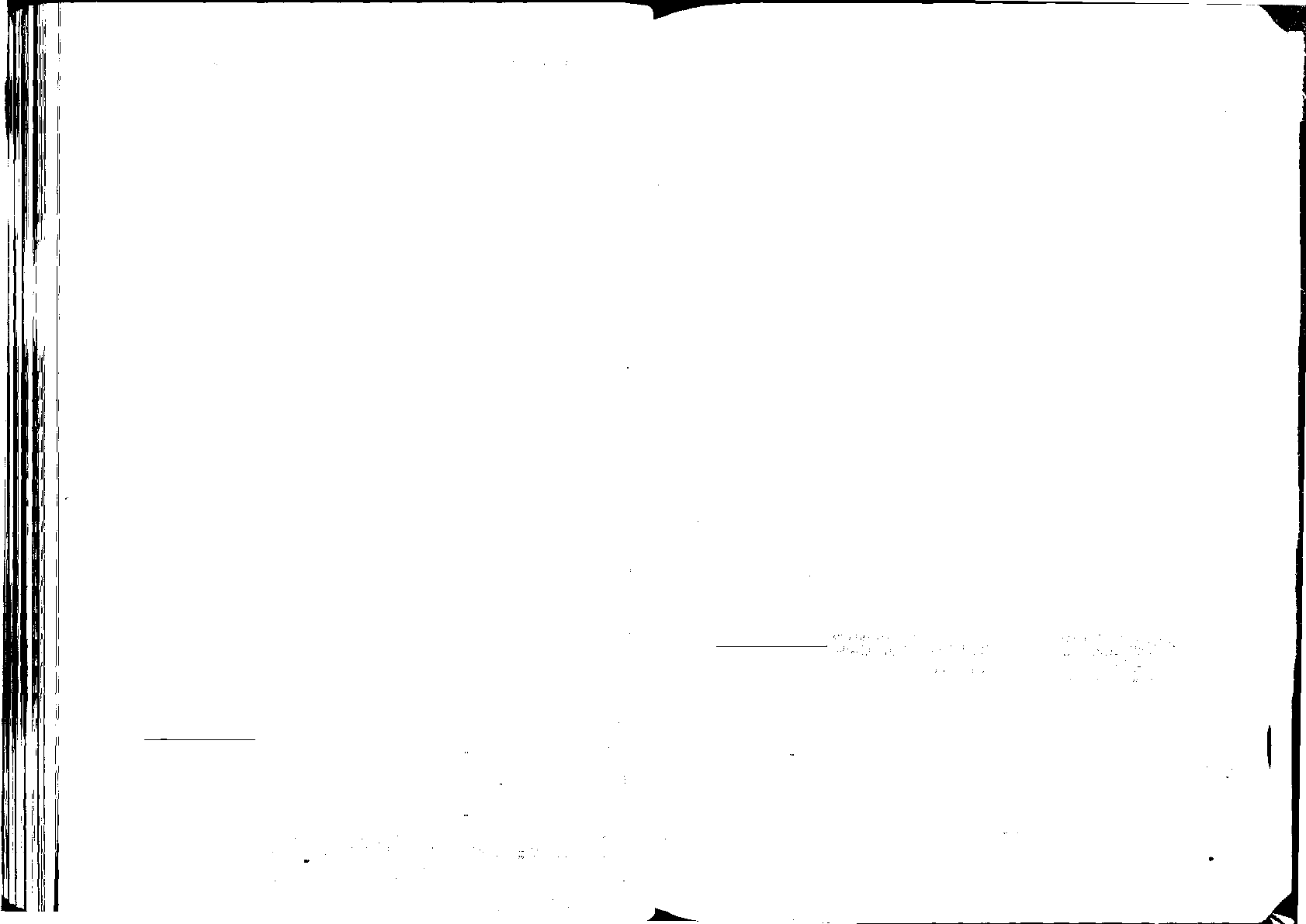
184
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
ГЛАВА VIII. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ взглядов САВИНЬИ И ПУХТЫ... 185
ными юридическими науками, — вот ее настоящая задача. Она
должна стать общей частью положительной юриспруденции
1
.
Вполне последовательно было осудить с этой точки зрения
прежнее идеалистическое направление, которое заявило при-
тязание на особую научную область. По мнению Меркеля, оно
должно быть отвергнуто вместе с тем дуалистическим взглядом,
который служит его предположением и согласно которому на-
ряду с правом положительным существует еще какое-то другое
право естественное (или идеальное, рациональное и т.п.). От-
носить понятие права к идеальным требованиям ошибочно и
произвольно. Если же устранить эту неправильность, то от со-
ответствующих научных стремлений останется лишь интерес к
идее, которая воплощается в положительном праве. «Но здесь
мы имеем дело не с чем-либо различным от (действительного)
права, а с его существенным моментом, с его собственной суб-
станцией». Таким образом, эта идея относится к той же самой
сфере, что и положительная юриспруденция. Нельзя также
удерживать раздвоения философии права и юридической
науки и в том смысле, чтобы к первой относить рассмотрение
содержания, а ко второй — изучение формы права. Разграниче-
ние в праве этих двух моментов и Меркель считает настоятель-
но необходимым
2
, но думает, что ни юриспруденция, ни фило-
софия права не могут заниматься исключительно каким-либо
одним из них, без ущерба для своих целей
3
. Наконец, и всякие
иные попытки обособления философии права представляют-
ся ему несостоятельными: в том или другом виде философия не
может обойтись без изучения конкретного юридического мате-
риала, который, в свою очередь, нуждается в ее обобщающих
указаниях
4
.
Взгляды Меркеля, очевидно, отражают на себе стремле-
ние юриспруденции к изучению положительного права как
единственно действительного. Идущие со времен Савиньи эти
стремления подкрепляются у него как более строгими пред-
ставлениями о существе права, так и методологическими тре-
1
Merkel. // Griinhut's Zeitschrift fiir das privat- and offentliche Recht. Bd. I.
1874.
S.
8-10, 402
ff.,
418.
2
Об этом он высказывается особенно ясно в Archiv fiir offentliche Recht.
Bd. VIII. 1893. S. 611.
3
Merkel. // Griinhut's Zeitschrift fiir das privat- and offentliche Recht. Bd. I.
1874. S. 410-412. •:-. -.•=:•... , .. .
4
Ibid. S. 415ff. ,, .h; .„ -•-;- ,...-<«••.•-
;
лю-
бованиями позитивизма, настаивающего на связи философии с
эмпирической наукой и со специальными ее разветвлениями
1
.
В этом именно смысле восполняется в его статье программа ис-
торической школы, о недостаточности которой он заявляет в
самом начале своих рассуждений
2
. Мы ничего не имеем возра-
зить против требований конкретного фактического изучения,
которое может лишь оказаться полезным для философских
выводов. Точно так же нельзя ничего сказать и против обоз-
начения философии права общей частью правоведения, если
только помнить, что она является вместе с тем и специальным
отделом философии. В этом последнем качестве она невольно
выходит из границ собственно юридической области, ища сбли-
жения с родственными научными сферами. Подобная поправка
нисколько не противоречит основной мысли Меркеля, для ко-
торого важно лишь признание единства специального объекта
изучения, то есть однородности понятия права для философа
и для юриста. Но сторонники идеалистического направления
могли бы заметить нашему автору, что отрицание дуалистичес-
кого воззрения на право не способно еще устранить нравствен-
но-критических стремлений старой философии: можно оста-
ваться верным строго юридическим понятиям и говорить об
идеальных требованиях, имеющих значение для права в силу
связи его с нравственностью
3
. В конце концов и Меркель при-
знает подобные требования, называя их даже традиционным
термином «высших критериев для оценки права» (die obersten
Wertmasse fiir seine Beurtheilung)
4
. Он думает только, что кри-
терии эти, находящиеся в пределах возможного развития дан-
ных условий, должны выводиться из рассмотрения действи-
тельности: отсюда мы заключаем, какое именно из возможных
1
Ibid. S. 403,412. ''' '
2
Ibid.S. 1-2.
:
> "
4
' "•
3
Образцом подобной постановки вопроса может служить сочинение
Штаммлера (Stammler) «Ueber die Methode der geschichtliche Rechtsthe-
orie» (Halle, 1888).
4
См., например: Rechtsforschung und Rechtsunterricht auf den deutschen
Universitaten. Hsg. v. O. Fischer. Berlin. 1893. S. 128. В видах точности
следует прибавить, что в этом пункте Меркель не имел определенного
мнения, то включая вопрос о нравственных критериях права в преде-
лы философского изучения (как в только что цитированном месте), то
объявляя его несоответствующим теоретическому характеру филосо-
фии (Griinhut's Zeitschrift fiir das privat- and offentliche Recht. Bd. I. 1874.
S. 418). Самый вопрос, однако, он считал вполне законным.
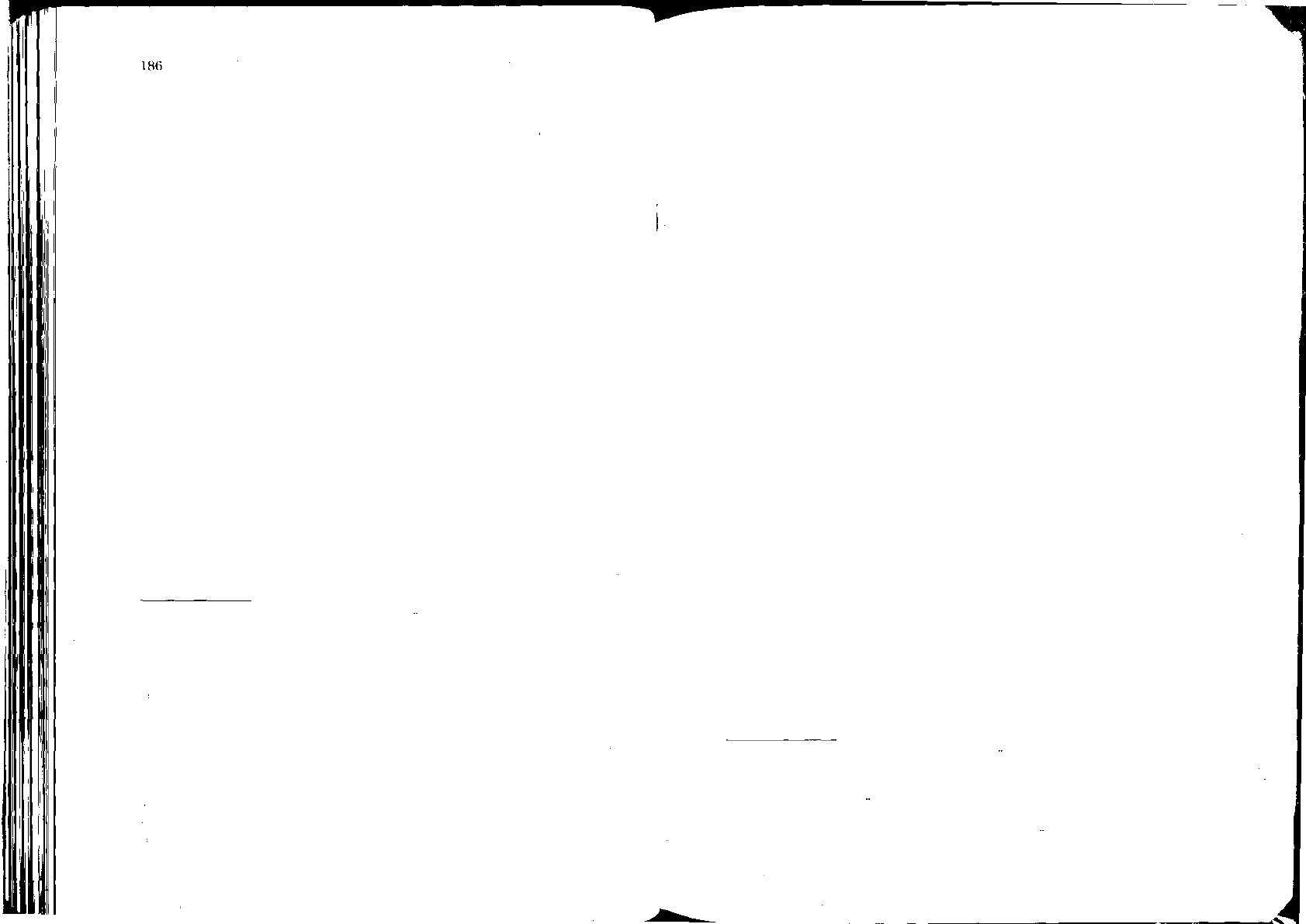
184 НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
ГЛАВА VIII. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ взглядов САВИНЬИ И ПУХТЫ... 187
направлений развития следует поддерживать. Представление о
долженствующем есть последствие нашего суждения о сущест-
вующем (das «Soil» ist nur eine Konsequenz des Urtheils liber das
«1st»). Медик из наблюдения здорового и больного человека вы-
водит представление о нормальном устройстве и нормальных
функциях человеческого организма. Ботаник тем же путем на-
блюдения приходит к установлению нормальных видов расте-
ний. Повсюду наблюдение жизни помогает нам определять иде-
альные формы развития, которые, смотря по значению их для
наших интересов, могут явиться вместе с тем и желательными
целями наших стремлений. Если при этом замешаны интересы
нравственные, то возникающее таким образом требование по-
лагает основу нравственному долженствованию
1
.
Последнее замечание Меркеля служит важной поправкой
к его утверждению, будто бы о долженствующем мы судим по
существующему. Желательные формы развития получают в
наших глазах этический характер тогда, когда они находят
опору в нашем нравственном сознании. В этической области
и следует поэтому искать критерии для моральной оценки пра-
ва. Примеры медика и ботаника нельзя назвать подходящими,
так как суждения их не имеют никакого отношения к нравст-
венности
2
. При установлении требований этических ознаком-
ление с существующими условиями необходимо лишь в целях
индивидуализирования предписаний морали. Сами же эти
предписания выводятся из совокупности наших нравственных
представлений.
1
Griinhut's Zeitschrift fiir das privat- and off'entliche Recht. Bd. I. 1874.
S. 418-419.
2
Примеры из области естественных наук приводили иногда Меркеля
к еще более рискованным сопоставлениям. Так, в рецензии на одну
из книг Шуппе (Philosophische Monatshefte. Bd. XXIV. 1888. S. 82) он
утверждает, что вопросы об объективных основаниях рациональной
. обязательности права так же далеки для юридической науки, как для
географии вопрос о том, «имеет ли какой-либо разумный смысл, что
источники Рейна лежат в Альпах». Если здесь имеется в виду юриспру-
денция догматическая, единственная цель которой — изучение сущес-
твующего права, то вопросы этические для нее, конечно, безразлич-
ны. Другое дело, если автор хочет вообще приравнять право объектам
внешней природы; в этом случае мысль его содержит грубое смешение
< понятий (см. по этому поводу замечания Штаммлера (Stammler. Ueber
die Methode der geschichtliche Rechtstheorie. 1888. S. 57 и 20—21) и Шуп-
пе (Schuppe. Das Gewohnheitsrecht. Breslau, 1890. S. 41. Note)).
Все эти соображения сами собой приводят нас к призна-
нию идеалистического направления философии права, кото-
рое развивалось в тесной связи с этикой. Реформа этого на-
правления должна заключаться не в полном устранении его
основной проблемы, а в ограничении его преувеличенных
притязаний и в восполнении его обобщений более точными
юридическими выводами. В этом отношении для нас еще дра-
гоценнее сознание Меркеля, что основные предписания права,
рассматриваемые со стороны их обязательной силы, являются
вместе с тем и предписаниями морали и в этом качестве состав-
ляют предмет особой дисциплины, имеющей самостоятельное
положение наряду с юридической наукой. Дисциплине этой
нельзя только присваивать название философии права; она
представляет собой часть этики, учение о справедливом (Lehre
vom Gerechten)
1
. Дело, конечно, не в названии; но едва ли мож-
но согласиться с тем, чтобы философия права, призванная рас-
сматривать свой предмет со всех сторон, не рассматривала его
и со стороны этической. Важно во всяком случае и то, что автор
признает указываемую здесь проблему, а вместе с ней и сущест-
веннейшую задачу идеалистической философии права. В своих
очерках общего правоведения и сам он не мог обойти этой зада-
чи вполне
2
. Он говорил здесь о нравственно-обязательной силе
права и о понятии справедливости как об одном из факторов
правообразования. Однако в отношении его к нравственным
началам сказываются все последствия воззрения, склонного
умалять их значение в истории. Во-первых, он подчеркивает
их субъективность и относительность, обусловленную зави-
симостью от изменчивых условий жизни; во-вторых, он всюду
старается отменить роль других факторов, ограничивающих
влияние нравственных сил. Не отрицая известных общих эле-
ментов нравственного развития, из которых, и по его мнению,
может черпаться масштаб для критики существующего права,
он считает этот масштаб одним из исторических данных, столь
же относительным, как и все прочие. В сущности, требования
1
Griinhut's Zeitschrift fiir das privat- and ofFentliche Recht. Bd. I. 1874.
S. 413-414.
2
См.: Merkel. Elemente der allgemeinen Rechtslehre // Holtzendorff, Franz
von (Hrsg.). Encyclopadie der Rechtswissenschaft in systematischer Bearbei-
tung herausgegeben unter Mitwirkung namhafter Rechtsgelehrter. V. Aufl.
1890. §8, 13, 14, атакже Idem. Juristische Encyclopadie. Berlin und Leipzig,
1885. §47, 48, 49.
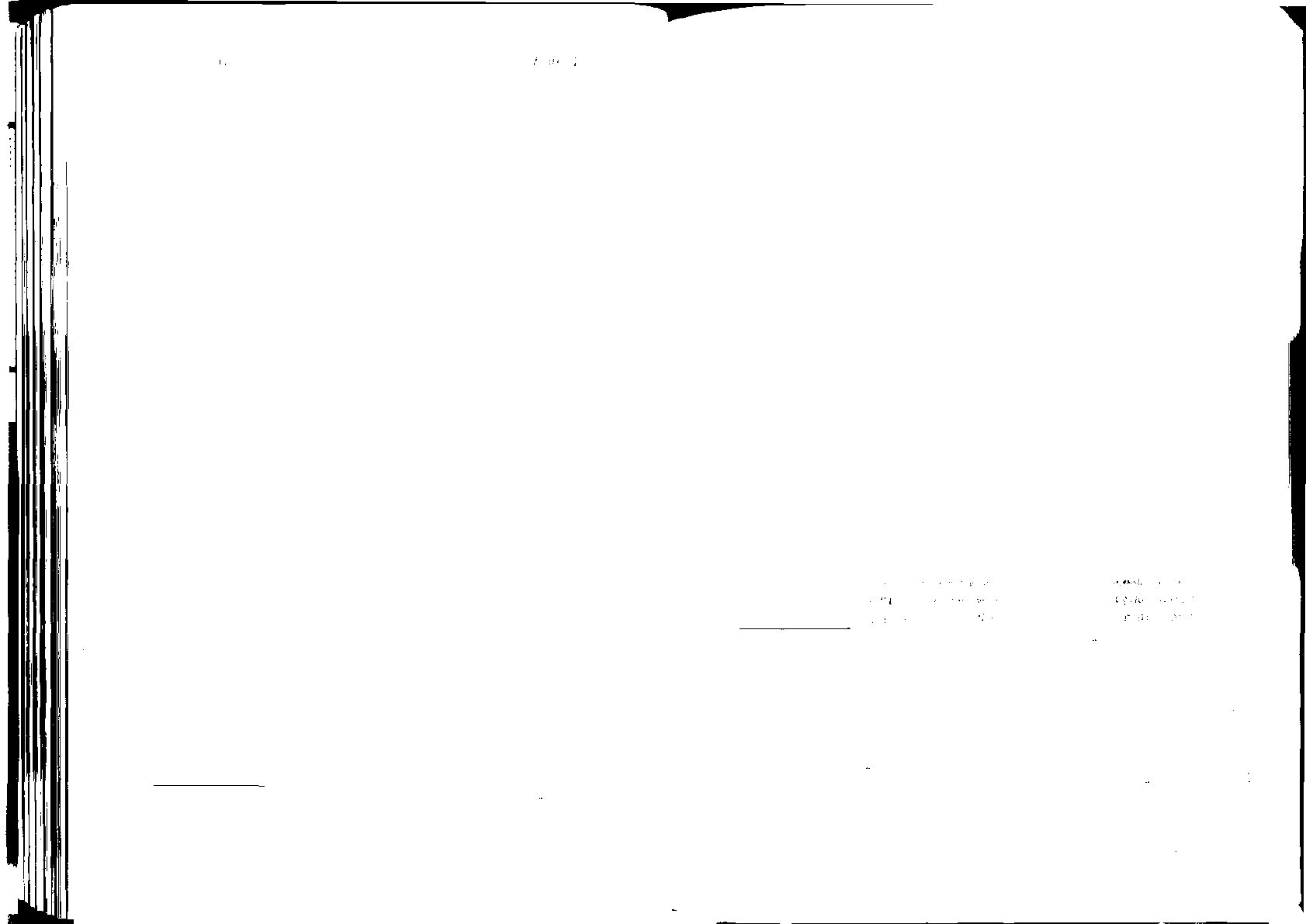
174
НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ПРАВА
морали не противопоставляются у него действительности как
долженствующие, а вставляются в число других факторов исто-
рии, утрачивая свое безусловное значение. Так видоизменяет
Меркель понятия идеалистической этики, приводя их в связь с
основными своими воззрениями. И здесь вопрос идет для него
лишь об анализе одного из исторических условий правообра-
зования, то есть остается в пределах исторического исследо-
вания действительности. Между тем, как он справедливо заме-
чает, для системы идеализма нравственный критерий имел бы
значение лишь в том случае, если бы он черпался из психоло-
гических или исторических фактов, которым присущ характер
долженствования. Отыскать точку зрения, с которой можно
было бы оправдать подобное значение нравственного прин-
ципа, Меркель считает невозможным, почему он и рекоменду-
ет совершенно отказаться от таких изысканий и ограничиться
изучением существующего. Это вновь возвращает нашего авто-
ра к его основному взгляду на задачи философии права
1
.
Мы не можем здесь входить в подробный разбор послед-
них заключений Меркеля: это значило бы разобрать одно из
основных разногласий идеализма и позитивизма, что заве-
ло бы нас слишком далеко. Заметим только, что точка зрения
автора оставляет без разъяснения одно из основных свойств
нравственных постулатов — их безусловный характер. Идеалис-
тическая этика не выдумала этого свойства, но отправлялась
от него, как от факта нравственного сознания, нуждающегося,
подобно всякому факту, в своем объяснении. Об изменчивос-
ти содержания моральных понятий в наше время бесполезно
спорить: это явление, на каждом шагу свидетельствуемое ис-
торией. Однако это не мешает нам говорить о безусловнос-
ти нравственных определений, которые, только облекаясь в
форму абсолютного долженствования, приобретают значение
этических норм. Классические выводы Канта могут служить в
данном вопросе лучшим средством ориентирования. Как бы то
ни было, Меркель признает однако же дуализм нравственного
сознания и положительного права, а следовательно, и возмож-
ность критики существующего. Он может как угодно истолко-
1
См. ко всему этому: Holtzendorff, Franz von (Hrsg.). Encyclopadie der Re-
chtswissenschaft in systematischer Bearbeitung herausgegeben unter Mit-
wirkung namhafter Rechtsgelehrter. V. Aufl. 1890. S. 90—91 (добавочный па-
раграф к очерку Гейера под заглавием «Zukunft der Rechtsphilosophie»).
ГЛАВА VIII. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ взглядов САВИНЬИ и ПУХТЫ... 188
вать сущность нравственных велений, и все же влияние их на
образование права остается бесспорным.
Придя к этому благоприятному для нас выводу, мы встре-
чаемся, однако, с новым рядом скептических замечаний писа-
теля. Если до сих пор мы находились на почве методологии, то
теперь вступаем в область истории. Путем соображений исто-
рического характера Меркель старается нам показать, сколь
ограниченное значение принадлежит в правообразовании
нравственному фактору. Ознакомление с исторической тео-
рией автора поможет нам окончательно выяснить его взгляд
на положительное право.
Ь) В своей исторической теории Меркель является учени-
ком Иеринга. Признавая значение начинаний Савиньи, он счи-
тает его точку зрения односторонней и недостаточной
1
. Но и к
идеям Иеринга он относится самостоятельно, стараясь дать им
дальнейшее развитие
2
. Попытка усовершенствовать теорию
правообразования представляет самый любопытный пункт его
философских воззрений
3
.
Существенная реформа, произведенная Меркелем в Иерин-
говой телеологии, состоит в разрушении ее оптимистического
характера. Господствующей идеей сочинения «Zweck im Recht»,
представляющего заключительное слово теории Иеринга, яв-
лялось предположение гармонии частных интересов, из сово-
купности которых образуется цель общественная. Возможность
индивидуальных противоречий, с такой ясностью намеченная
в брошюре «Der Kampf ums Recht», в позднейшем сочинении
1
См.: Merkel. // Griinhut's Zeitschrift fiir das privat- and offentliche Recht.
Bd. I. 1874. S. 1—2; подробнее в специальной статье: Idem. Ueber den Beg-
rifif der Entwicklung // Ibid. Bde III-IV. 1876-1877.
2
Меркель сам ясно определяет свое отношение к Иерингу в реферате о
своем предшественнике (Merkel. R. v. Jhering. Jena, 1893. S. 35).
3
К характеристике относящихся сюда взглядов Меркеля, кроме только
что цитированных статей, может служить статья: «Recht und Macht»
(Schmoller's Jahrbuch. Bd. V. 1881); соответствующие параграфы в «Ju-
ristische Encyclopadie» (Berlin und Leipzig, 1885) и «Elemente der allge-
meinen Rechtslehre» (в Holtzendorff, Franz von (Hrsg.). Encyclopadie der
Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung herausgegeben unter Mit-
wirkung namhafter Rechtsgelehrter. V. Aufl. Leipzig, 1890), а также очерк
по философии уголовного права «Vergeltungsidee und Zweckgedanke im
Strafrecht» (Strassburg, 1892). .
