Лоуэнталь Дэвид. Прошлое - чужая страна
Подождите немного. Документ загружается.


5
Eliade. Myth and Reality. P. 52.
154
(ренессансный человек изъяснялся довольно напыщенно). Но что бы он ни делал: собирал
античные камни или подбирал старинные слова, он «не засевает нового семени, не создает
нового замысла;... он отвергает подлинное творчество».
1
Отношение Ренессанса к прошлому оставалось сложным и двойственным. Невозможно дать
какой-либо общей, итоговой характеристики мысли того периода, столь разнообразны формы
ее связи с наследием, столь глубоко погружена она в собственные размышления, приобретая
при этом под воздействием национальной идентичности все большую фрагментированность.
Однако, ряд общих замечаний все же можно сделать. Ренессанс отличает прежде всего
отношение гуманистов к прошлому. Конечно, сам термин «Ренессанс» принадлежит нам, но
именно так люди того периода сами себя сознавали. Они видели, что сформировались под
воздействием тех форм и способов, в которых осознавали и возрождали прошлое, искали
общий язык со своими предшественниками. Понимая собственную потребность одновременно
в том, чтобы восхищаться, и в том, чтобы состязаться с классическим прошлым, они не просто
колебались между поклонением и отвержением, почитанием и кощунством, сохранением и
трансформацией, но им удавалось сохранять баланс между этими противоположностями. И
даже если гуманистам редко удавалось разрешить данное напряжение к собственному
удовлетворению, так это мало кому удается и до сих пор.
Ренессансное поклонение перед античностью одновременно предполагало и проклятия в
адрес средневекового прошлого. Отождествление с Грецией и Римом шло наряду с
непрестанными попытками откреститься от непосредственных предшественников, очерняя
репутацию средневековья и прославляя классические времена во всем, за исключением
христианства. Гуманисты не были ни первыми, ни последними, кто предпочитал отдаленных
предшественников ближайшим, известный пример — имперский Рим и революционная
Франция. Однако предпочтения Ренессанса не были ни горестной ностальгией, ни рацио-
нальным основанием для революции. Они послужили ядром самосознания. Возрождая
отдаленное прошлое для своих собственных целей, Ренессанс стал первой эпохой, которая
сознавала себя как «современную», в отличие и от непосредственного прошлого, на которое
взирало с сомнением, и от более удаленного прошлого, из которого сотворила себе кумира.
Сознание удаленности, подражательность и сам образ возрождения оставляли гуманистов в
неопределенности по поводу собственной способности или даже права на то, чтобы пытаться
превзойти бремя прошлого, которое они первоначально взвалили себе на плечи с ревностью
крестоносца. Подобное действие, способное, в конце концов, привести к разъединению или
полному уничтожению наследия, которое служило
1
Greene. Light in Troy. P. 240—241. См.: Du Bellay. Amiquitez de Rame (1558), sonnets 19, 27, 32. P. 27—43.
155
пробным камнем их идентичности. Но даже если подобные сомнения сгущались, они не
устраняли общей уверенности в том, что сколь бы ни были поразительны достижения
прошлого, нынешние авторы могут с ними сравниться, а потому должны стремиться к тому,
чтобы превзойти их. Великие работы их современников укрепляли гуманистов в подобном
убеждении. «Иногда я благодарен судьбе, что родился именно в этот век, который дает
бесчисленное количество людей, столь совершенных в различных искусствах и занятиях, что
они могут состязаться даже с древними», — размышлял Руччини.
1
«Коль скоро мы видим, как
в наше время возрождается литература, — писал Бюде, — что мешает нам ожидать в скором
времени появления новых Демосфенов, Платонов, Тусидидов и Цицеронов?»
2
Современные
авторы должны превзойти древних, утверждает Вивес, поскольку они уже осознали, что
сущность человеческого мышления составляет прогресс.
3
Растущая вера в материальный прогресс и зарождение национальной гордости, чувство
превосходства христианства над язычеством, вытеснение латыни местными языками; понятие
истории, находившей в античности параллельные примеры, но одновременно и стандарты
всеобщего устремления; совершенствование энергичного и сознающего себя соперничества;
принятие того, что восстановление античности, воскрешение давно погребенного прошлого
было новым и творческим актом, — таковы были принципиальные черты, позволившие
представителям Ренессанса использовать прошлое с пользой, усвоить его явные

преимущества без того, чтобы погрязнуть в его не менее многообразных тяготах.
От «Querelle» к Просвещению
В словах, как и в моде, держись одного правила;
Одинаково фантастичны и слишком новое, и слишком старое;
Постарайся не стать первым, на ком это новое опробуют,
Но и не будь последним, кто продолжает держаться за старое.
Александр Поуп. Эссе о критике
4
Пороки и добродетели прошлого стали восприниматься еще острее в период, непосредственно
следовавший за Ренессансом. Разразившаяся в XVII в. «querelle»
5
между старыми и
современными авторами развела по разные стороны тех, кто продолжал настаивать на непре-
ходящем превосходстве классической древности, и тех, кто верил, что современники могут
или даже уже превзошли древних и потому сокрушался об имеющемся в их отношении
раболепстве. Лишь немногие
1
Ruccini, 1473. Цит. по: Gombrich. Renaissance conception. P. 2.
2
Bude, цит по: Kelley. Foundations of Modern Historical Scholarship. P. 78.
3
Vives. De disciplina (1531). Цит. по: Baron. 'Querelle. P. 13.
4
Pope Alexander. An Essay on Critisism, 1711, lines 333—6, 1:276.
5
Querelle (фр.). — ссора, перебранка; распря, раздор. — Примеч. пер.
156
полностью отождествляли себя с прошлым или же полностью от него открещивались, однако
втянутые в борьбу приверженцы обеих сторон нагнетали страсти и подталкивали к
формированию крайних позиций.
В чем причина яростности этой распри и каким образом она в итоге развеялась, коль скоро ее
не удалось разрешить? Ее суть и полемическую риторику составляют три взаимосвязанные
линии: предполагаемый упадок всего сущего в природе, влияние печати на отношение к
прошлому и антагонизм между защитниками классических традиций и новым поколением
ученых, полагавших собственный опыт и наблюдения более надежными проводниками в
мире.
Упадок в природе
Широко распространенное убеждение во всеобщем упадке настроило многих людей в конце
XVI—начале XVII вв. считать все, относящееся к прошлому, более совершенным, нежели все,
имеющее отношение к настоящему. Истоки и следствия этой гипотезы мы подробнее рас-
смотрим в главе 4. Здесь же будет достаточно отметить, что ренессанс-ное переоткрытие
величия античности, по видимости, подтверждало представление о всеобщей деградации в
отношении человеческого интеллекта. По сравнению с хлынувшим потоком классического
познания настоящее казалось «каменным» или «железным» веком в сравнении с «золотым»
веком прошлого; очевидное превосходство древних авторов подкрепляло сетования по поводу
нынешнего упадка.
1
Вера в то, что природа следует своим курсом и что все это грозит конечным распадом, застила
глаза многим современникам в отношении достоинств их собственных времен. Они
оценивали современную эпоху как шаг назад потому, что считали присущую ей
имморальность ответственной за продолжающийся упадок. Убеждение в том, что прежние
времена — лучшие времена привело к тому, что Гордон Дэвис называет «групповым
комплексом неполноценности на фоне гигантов»,
2
державшимся столь долго лишь верой в
конечное искупление. Упадок стал притчей во языцех, особенно для английской протестант-
ской мысли, начиная от «Горящей звезды» Френсиса Шеклтона (A Blazing Starre (1580)
Francis Shakleton), через «Падение человека» Джорджа Гудмена (Fall of Man (1616) George
Goodman), и кончая «Священной теорией Земли» Томаса Бернета (Sacred Theory of the Earth
(1684) Thomas Burnet). Однако представление о общем упадке не ограничивалось только
Англией. «Что мы, выродки, будем делать в этом своенравном веке?» — задавался вопросом
Рубенс. Казалось, что такова Божья воля, чтобы людские таланты приходили в упадок по мере
старения
1
Harris Victor. All Coherence Gone. P. 135—136; Williamson. Mutability, decay, and seventeenth-century melancholy. P. 135.
2
Davies Gordon. Earth in Decay. P. 6.
157
мира.
1
Стоя ближе к изначальному совершенству природы, еще неискаженное старческими
немощами человечество в эпоху античности было сильнее и мудрее, и доказательством тому
— герои-гиганты в античной скульптуре и ренессансной живописи.

Противники доктрины упадка указывали на то, что обилие, постоянство и стабильность
природы говорят нам о том, что прогресс возможен, не исключено, даже неизбежен.
Поскольку космос остался со времен античности неизменным, рассуждал Луи Ле Руа, так же
обстоит дело и со способностями человека. В самом деле, полнота природы порукой тому, что
современные авторы способны превзойти древних.
2
Человечество не проявляет никаких
следов упадка, утверждал Джордж Хэйкуилл, идет ли речь о силе или стати, уме или
изобретательности, или же манерах и гражданском состоянии.
3
Действительно, успехи в
религии, истории, математике живописи и науках неисчислимы. А предубеждение по поводу
упадка современности и превосходства древности можно отнести на счет почтенного возраста
людей, «пожелавших вновь испытать удовольствие юности», будучи при этом «столь при-
верженными к древности, что позабыли, в какой стране и каком времени живут».
4
«Угрюмость и сварливое настроение стариков, вечно жалующихся на тяготы нынешних
времен» и «неумеренно восхищающихся Antiquitie» — следствия их собственной старости.
«Люди думают, что мир меняется, тогда как в действительности меняются они сами».
5
К концу столетия упадок природы не подтверждали уже ни теология, ни эмпирические
свидетельства, а потому это убеждение перестало быть значимым аргументом в пользу
превосходства прошлого. Последующие дебаты по поводу упадка свелись в итоге к вопросу
об упадке искусств. Во всех же прочих сферах природы и материальной жизни набирали силу
идеи прогресса.
Последствия книгопечатания
С конца XVI в. распространение книгопечатания подкрепило убеждение человека того
времени в том, что он уже превзошел достижения предшественников. Подобный оптимизм
строился на нескольких основаниях. Печать позволяла обеспечить сохранность драгоценных
текстов без утомительного рукописного копирования, а энергия, сбере-
1
Rubens. De imiiatione statuarum (с. 1608). Цит. по: Muller. Rubens's theory and practice. P. 231.
2
Louis Le Roy. De la vicissitude, ou variete des choses en 1'univers (1575). Цит. по: Kel-ley. Foundations of Modern
Historical Scholarship. P. 83.
3
Hakewill. An Apologie or Declaration of the Power and Providence of God. 1635. Bks 3 and 4.
4
Le Roy. De la vicissitude, quoted, and Jean Bodin. Methodus adfacilem historiarum cognitionem (1566). Цит. по:
Harris. All Coherence Gone. P. 100—101, 104. См. также: Le Roy. Excellence of this age. P. 91—101.
5
Hakewill. Apologie, Bk I, Ch. 3, sect. 5, 1:25. См.: Tuveson. Millennium and Utopia. P. 58.
158
женная таким образом в сфере восстановления и сохранения текстов, могла быть направлена
на творческую деятельность, что позволяло выйти из-под бремени имитации.
С распространением книгопечатания также отпал тот упрек, что, поскольку рукописное
копирование текстов, скорее, искажало и размывало античную ученость, чем развивало ее, а
ошибки со временем только нарастали, то первенством и правотой в наибольшей степени
обладали древние авторы. Широкое распространение печати также облегчило сопоставление
классических текстов, что зачастую роковым образом сказывалось на их репутации. Коль
скоро источники часто не согласовывались между собой, отличающиеся варианты явно несли
в себе ошибки, то никакому из традиционных авторитетов нельзя было доверяться в полной
мере. Таким образом уже сама возможность сохранения прошлого при посредстве печати, по
заключению Эйзенштейна, вела человека к вопросу об авторитете. «Культ вековой мудрости»
клонился к закату по мере того, как великие древние авторы, прежде почитавшиеся
непогрешимыми, теперь предстали всего лишь «индивидуальными авторами, которым
присущи все человеческие недостатки... и плагиат».
1
Раскрытие несметного числа подделок и
транскрипционных ошибок углубило недоверие к свершениям прошлого, превозносимым
рукописными текстами. Античных историков обвиняли в небрежности и предвзятости, их
работы считали пекущимися лишь о собственных интересах, а их времена — недостойными
почитания последующих поколений.
2
Книгопечатание не только сохраняло славу и обнажало ошибки прошлого, оно также
превратило рост познаний человечества в кумулятивный процесс, противостоящий забвению
и искажению. Коль скоро каждый современный автор мог учитывать все предшествующие до-
стижения прошлого, подобное кумулятивное наследие сообщало ему ipso facto
3
превосходство
над древними, даже если как индивид он и уступал им. Пьер из Блуа в XII в. провидчески
изрек: «Мы — карлики, стоящие на плечах гигантов, благодаря этому мы видим дальше

них».
4
Распространение книгопечатания превратило метафору современников, стоящих на
плечах (или на головах) гигантов древности, в расхожую фразу. Даже если сами по себе они
всего лишь карлики в сравнении с древними, современные авторы владеют такими секретами,
которых древние были лишены просто в силу того, что жили раньше. Последующие ученые
не только основывались на аккумулированных знаниях прошлого, но также и извлекали
пользу из его ошибок. «Мы в долгу перед древними, — утверждал Фонтенель, — за то, что
они исчерпали практически все ложные теории, какие только могли
1
Eisenstein. Printing Press. P. 289—290, 112—125; quotation on p. 122.
2
Hazard. European Mind. P. 35—37; Momigliano. Ancient history and the antiquarian. P. 10—18.
3
В силу самого факта, тем самым (лат.) — Примеч. пер.
4
Peter ofBlois. Epistolae (1180). Цит. по: Merton. On the Shoulders of Giants. P. 216.
159
быть».
1
И хотя Фонтенель явно недооценил извечную способность человечества к ошибке,
мысль, тем не менее, верная: пробы и ошибки прошлого избавили современность от ложных
ходов.
Действительно, временная дистанция воспринималась как то, что делает современников
подлинными древними. «...Древностью следует почитать престарелость и великий возраст
мира, а это должно отнести к нашим временам, а не к более молодому возрасту мира, который
был у древних», — этот афоризм Бэкона часто повторяли впоследствии.
2
Накопление делают,
по мнению Паскаля, прогресс неизбежным:
Всю последовательность человеческих существ на протяжении веков следует рассматривать как единого
человека, непрерывно живущего и обучающегося, и это показывает сколь неоправданно почтение, которое
оказываем мы философам древности... Древний возраст универсального человека следует искать не во временах,
близко отстоящих от рождения, но во временах, от него наиболее удаленных. Те, кого мы называем древними, в
действительности жили во времена юности мира, детства человечества; и если мы добавим к их знанию опыт
последующих столетий, то древность, которую мы в них почитаем, следовало бы искать в нас самих.
3
Инверсия древности и современности долгое время оставалась популярным тропом,
принижающим прошлое. «Я чту древность, но то, что обычно называют старыми временами, в
действительности — время молодости», — считает Гоббс.
4
«Благодаря длительности своих
трудов, — писал Эдвард Янг, современные люди, избегающие поклонения прошлому,
однажды «сами могут стать древними».
5
Освобождая человека от излишнего преклонения
перед авторитетом прошлого, сохраняющая сила печати сделала прошлое еще более
тягостным, хотя и в иной форме. Прежние примеры совершенства превратились в вечные
образцы (для подражания), и наследие каждого последующего поколения становилось все
большим бременем для последующих поколений: простое накопление сведений уже само по
себе сдерживало усилия по достижению превосходства над предшественниками.
«Приобретение познаний требует времени, которое можно было бы посвятить изобретениям»,
— отмечает Адам Фергюсон (Adam Ferguson). Прежние достижения на «всяком пути
изобретательности» препятствуют новым усилиям. «Мы становимся учениками или
почитателями, вместо того,
1
Fontenelle. Digression sur les anciens et les modernes. 1688. P. 165. См.: Фонтенель Б. Отступление по поводу
древних и новых // Рассуждения о религии, природе и разуме. М.: Мысль, 1979.
2
Bacon F. Novum Organum, I, Ixxxiv. P. 82; Advancement of Learning, Bk I. P. 78. (Бэкон Ф. Соч. М., 1978. Т. 2. С.
45—46; см. также: «Действительно, правильно говорится: «Древнее время — молодость мира». И конечно,
именно наше время является древним, ибо мир уже состарился, а не то, которое отсчитывается в обратном
порядке, начиная с нашего времени». Бэкон Ф. Соч. Т. 1. С. 112). См. также: Leyden. Antiquity and authority.
3
Blaise Pascal. Fragment d'un traite du vide
1
(c. 1651)//Pensees. 2:271. См.: Паскаль Б. Мысли. М., 1994.
4
Answer of Mr. Hobbes to Sir William Davenant's preface before Gondibert. 1650. 4:456.
5
Young Edward. Conjectures on Original Composition. 1759. P. 31—32.
160
чтобы быть соперниками; и пытаемся заменить знанием книг состязание с пытливым и живым
духом, каким они были написаны».
1
Таким образом слишком-уж-бессмертные сокровища
прошлого последовательно развенчивали саму уверенность в себе, первоначально пробуж-
денную миром печати. Столкнувшись с кумулятивным характером накопления достижений
предшественников, современные люди вынуждены были либо признать собственную
слабость, либо же отрицать прошлое в целом. Как мы увидим, эта дилемма приобрела
решающее значение для поэтов и философов эпохи пост-просвещения.
Новая наука
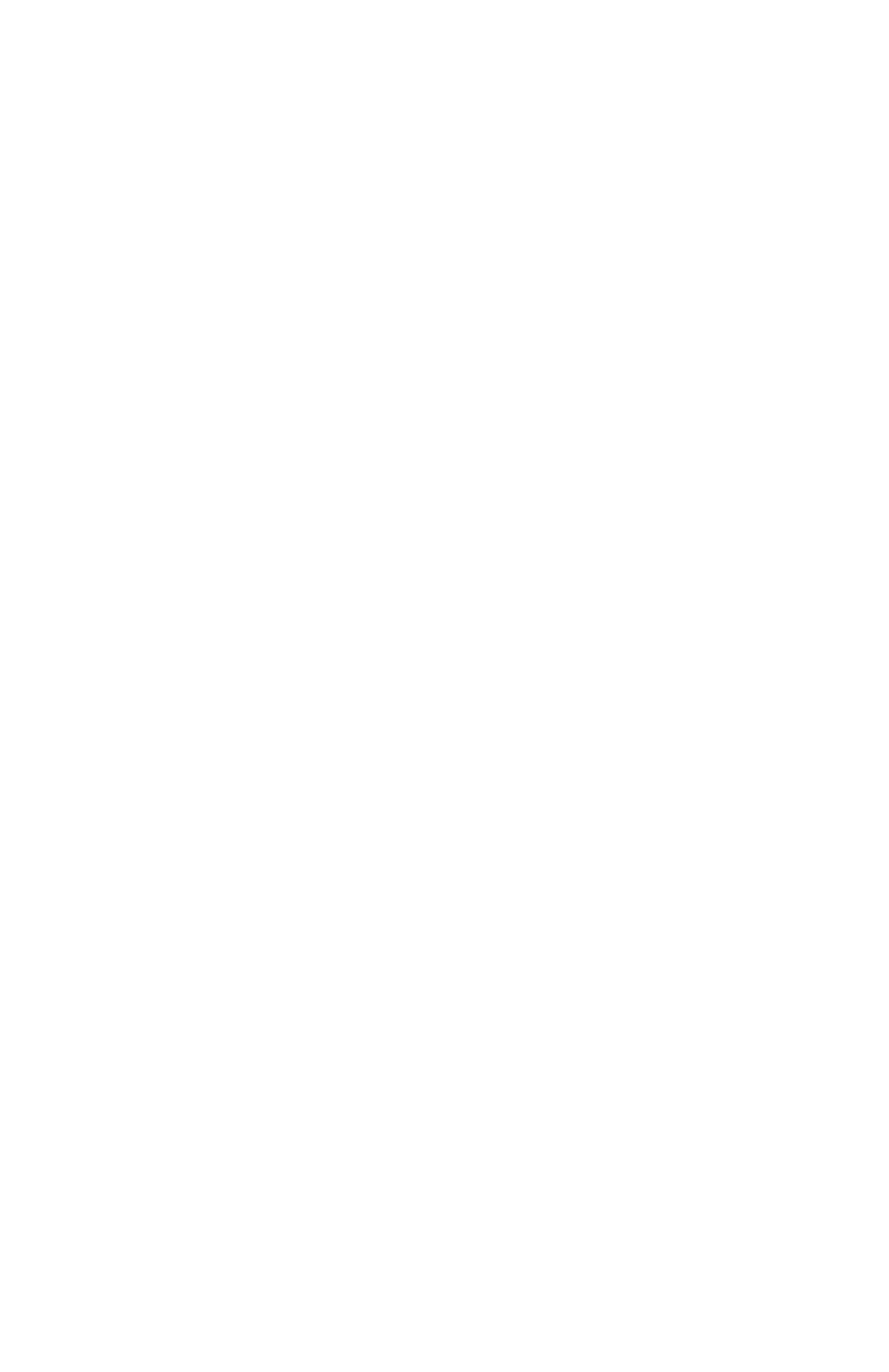
Однако в наибольшей степени поляризацию конфликта древних-современных авторов вызвал
нарождающийся в Британии и Франции XVII в. дух науки (science).
2
Достоверность
непосредственного чувственного опыта привела многих ученых к убеждению, что
современные наблюдения и эксперименты должны дополнять, исправлять и даже вытеснять
прежнее знание. Уильям Гильберт посвятил свое сочинение De magnete (1600) людям,
«которые ищут знание не в книгах, но в самих вещах».
3
Как задавался вопросом один из таких
людей веком позже, почему мы должны «подчиняться авторитету Древних, если собственный
опыт может научить нас куда лучше?»
4
Достигнутые успехи отчетливо показали, сколь
многому еще чему предстоит научиться. Путешествия Колумба продемонстрировали,
насколько невежественными в фундаментальной географии были древние, а кругосветное
плавание Магеллана оставило далеко позади античные открытия.
Естествоиспытатели считали, что неумеренное восхищение античностью является серьезным
препятствием на пути науки. Уильям Уатт выражал сожаление по поводу того, что
современным открытиям не доверяют, потому что по любому поводу обращаются к мнению
древних, а это мешает новым открытиям.
5
«Излишне большое почтение к Древности — это
ошибка, в исключительной степени губительная для развития Науки, — пишет Ной Биггз, —
как будто могилы наших Предков подобны Геркулесовым столбам, на которых написано Ne
Plus Ultra».
6
1
Adam Ferguson. Essay on the History of Civil Society. 1767. Pt V, sect. 3. P. 217.
2
Напомним, что в английском языке существует два достаточно различных термина, которые обычно переводятся
на русский словом «наука»: science — естественная наука и scholarship — гуманитарная наука. Здесь речь идет об
естествознании. — Примеч. пер.
3
William Gilbert. Цит. по: Armstrong. Introduction to Bacon. Advancement of Learning. P. 9. Но Эйзенштейн
отмечает, что Гильберт, по-видимому, почерпнул из книг не меньше, чем из собственных наблюдений и
экспериментов (Printing Press. P. 520); см. также: Zilsel. Origins of William Gilbert's scientific method.
4
Jeremy Shakerly. Anatomy of Urania Practice (1649). Цит. по: Jones R. F. Ancients and Moderns. P. 123.
5
William Watt, 1633. Цит. по: Jones. Ancients and Moderns. P. 72—74.
6
Noah Biggs. Mataeotechnia medicinae praxeos (1651). Цит. по: Jones. Ancients and Moderns. P. 132.
6 Д. Лоуэнталь 161
Наиболее влиятельным, хотя, по-видимому, и последним полемическим критиком прошлого
был Френсис Бэкон. Считая сильной стороной древних авторов абстрактные размышления,
Бэкон обвинял их в том, что они слишком поспешно переходили к обобщениям на основе
всего лишь нескольких примеров, «ибо открытия новых вещей должно искать от света
природы, а не от мглы древности».
1
И хотя последователи Бэкона зачастую выражались с еще
большей страстью, никто из них не ратовал за полное отречение от прошлого. Они хорошо
знали, чем обязаны своим предшественникам: прежде всего, распространением в печатном
виде многочисленных наблюдений прошлого, как и появлением новых инструментов,
усиливавших наши способности наблюдения природы. Превозносить одних только древних,
как и одних лишь новых авторов было бы столь же глупо, сколь и нелепо. «Старое завидует
росту нового, а новое, не довольствуясь тем, что привлекает последние открытия, стремится
совершенно уничтожить и отбросить старое», — предупреждает Бэкон от обеих крайностей.
2
Инновации лучше всего продвигаются по путям, намеченным накопленным опытом.
Однако лишь в конце XVII в. нападки приверженцев традиции вынудили некоторых ученых
усилить свои претензии и открыто призвать к отказу от определенных классических
традиций.
3
В ответ на обвинение в том, что они отвергают освященные временем традиции
ради самодостаточных новаций, члены Королевского общества резко возражали, что видят в
самой природе авторитет, более изначальный, чем древние авторы, и всего лишь избавляются
от испорченных копий оригинала.
4
Изначальная древность природы стала излюбленным
аргументом против обвинений в святотатстве. Если теологи осуждали открытие факта
изменений берегов Балтики как противоречащего книге Бытия, ученые отвечали на это, что «и
Балтийское море, и книга Бытия сотворены Богом, и... если между двумя этими творениями
существует противоречие, то ошибка, должно быть, связана и имеющимися у нас копиями
книги, нежели с Балтийским морем, которое является оригиналом».
5
Но не одни только ученые сетовали на то, что поклонение классической учености мешает
удовлетворению нынешних потребностей. Развитие литературы на местных языках делало
греческую и латинскую литературу все более неуместной. И если при их первом
переоткрытии классические авторы произвели огромное впечатление, то впоследст-

Nec plus ultra (лат.) — непревзойденный, самый лучший. — Примеч. пер.
1
Bacon F. Novum Organum. I, cxxii. P. 109; also I, cxxv. P. 111 (см.: Бэкон Ф. Соч. Т. 2. С. 72).
2
Bacon F. Advancement of Learning (1605). Bk I. P. 77 (Бэкон Ф. Соч. Т. 1. С. 112). Действительно, Бэкон написал
специальный трактат «О мудрости древних» (De sapien-tia veterum, 1609. См.: Бэкон Ф. Соч. Т. 2).
3
Jones. Ancients and Moderns. P. 184—201, 237—240.
4
Sprat. History of the Royal Society (1667). P. 371. «Современные» авторы из протестантов проповедовании возврат
к «мудрости Адама», что должно было знаменовать собой конец земной христианской драмы Rattansi, review of
Jones. Ancients and Moderns. P. 254).
5
Charles Ducros. Les Encyclopedistes (1900). Цит. по: Arthur Wilson. Diderot. P. 143.
162
вии их величие стало настолько общеизвестным, что превратилось в общее место.
Классическая ученость оказывала ослабляющее воздействие там, где поклонение ей имело
обязательный характер, как, например, в английских университетах: в уставе Оксфордского
университета 1583 г. записано, что «бакалавры и магистры, не следующие Аристотелю в
точности... повинны уплатить пеню в пять шиллингов за каждый пункт расхождения».
1
Противники подвергали университеты яростной критике за «громадный объем пустой
учености» и «клочки латыни, распространяющие старые ошибки и препятствующие
появлению новых истин».
2
«Оборачиваясь назад и предписывая самим себе правила,
почерпнутые из древности, мы затормаживаем и сокращаем наше влечение даже к тому, чего
легко можно было бы достичь», — пишет Кла-рендон.
3
«Нет... большего препятствия на пути
разыскания истины или совершенствования знания, нежели... излишнее восхищение теми, кто
прошел этим путем прежде, подобно тому, как овцы ступают след в след за идущими
впереди».
4
Приверженцы классики отвечали в том же духе: они защищали древних авторов как
прародителей, выдержавших испытание временем истин и обвиняли невежественных ученых
в том, что те сошли со «старого проторенного и известного пути для того, чтобы искать пути
неведомые, извилистые и непроходимые».
5
Древняя ученость обладала в их глазах
непререкаемой моральным достоинством. Они опасались, что наступление науки на
античность послужит предзнаменованием материализма, который уничтожит религию,
разрушит образование и ожесточит общество. Отказ от почитания древних был для них
одновременно и бунтарским, и антиэстетичным.
6
Последней похвалой в адрес античной учености были «Эссе о древней и современной
учености» Уильяма Темпла (1690)
7
и «Битва книг»
1
Цит. по: Mclntyre. Giordano Bruno. P. 21. См.: Highet. Classical Tradition. P. 276.
2
Biggs. Mateotechnia, and Francis Osborne. Miscellany of Sundry Essayes... (1659). Цит. по: Jones. Ancienis and
Moderns. P. 100, 146.
3
Кларендон Эдуард (Эдуард Хайд) (Hyde), (1609—1674), английский государственный деятель, министр Карла I и
Карла II, лорд-канцлер Англии (1660—1667), автор первой книги об истории Английской революции. В период
революции один из лидеров роялистской партии. Обласканный после реставрации монархии королем, Кларендон
все же в итоге был обвинен в государственной измене и умер в изгнании. Главное историческое сочинение
«История мятежа и гражданских войн в Англии» (1704) написано с крайне консервативных позиций. — Примеч.
пер.
4
Clarendon. Of the Reverence Due to Antiquity (1670). P. 218, 239.
5
Alexander Ross. Arcana microcosmi (1652). Цит. по: Jones. Ancients and Moderns. P. 122. В ходе полемики важность
антитезы древних—современных авторов была, по всей видимости, преувеличена. Ее следы полностью
отсутствуют во многих значительных работах по натуральной философии, а сам диспут часто велся не в терминах
«древние против современных», а «Аристотель против древних» (Rattansi. Обзор в: Jones, Ancients and Moderns. P.
254).
6
См., в особенности: Meric Casaubon and Henry Stubbe. Цит. по: Jones. Ancients and Moderns. P. 241—262.
7
Уильям Темпл (1628—1699) — английский государственный деятель и дипломат. Помимо дипломатических
достижений, большое влияние на культуру XVIII в. оказали
163
Джонатана Свифта. Согласно Темплу, древние превосходили современных авторов во всех
отношениях. Свифт же порицает чрезмерное доверие к гению современности, считая его
эгоистичным и непродуктивно близоруким. Развивая образ Эзопа, он сравнивает современных
авторов с пауком, поднаторевшем в архитектуре и математике, но отказывающимся
признавать какие-либо обязательства и потому испускающего из своих внутренностей
ядовитую паутину. Напротив, пчелы (древние авторы), не обладая ничем, кроме собственных
крыльев и голоса, собирают взятки из всякого подобающего источника, а потому их мед и
воск доставляет человечеству «Сладость и Свет».
1
Однако в отличие от ренессансных пчел,

нацеленных на состязательность, пчелы Свифта не трансформируют и не переваривают то,
что добыли. Это упущение подводит в конце XVII в. итог бесплодности позиции древних.
Науки против искусств
К этому времени на крайних позициях querelle оставались лишь немногие, большинство же
стремилось к достижению баланса между достоинствами и недостатками прошлого и
настоящего. «Людям свойственно ошибаться, — писал Альгерон Сидни, — и это удел
наилучших и наимудрейших — открывать и исправлять то, что свершили их предки, или же
совершенствовать то, что ими было придумано».
2
Кларен-дон сохранял «полнейшее
почтение» к древним отцам церкви как к «великому свету, воссиявшему во тьме веков; мы
восхищаемся их учением и набожностью и удивляемся тому, как им удалось достичь этого во
времена варварства и невежества». Однако «наилучший способ сохранения почтения в
соответствии со временем» — это «надеяться и верить, что в последующие века мы будем
знать больше и сами станем лучше».
3
К концу XVII в. древние и новые авторы в принципе находились в состоянии войны, но на
практике уже поделили честь и славу. Querelle все в большей степени вела к тому, чтобы
развести искусства и науки как разные сферы. Научное знание носило отчетливо
кумулятивный характер, значительные коллективные усилия добавлялись к корпусу познания.
Но в сфере художественного таланта подобных кумулятив-
его философские взгляды и литературный стиль. Большая часть литературных произведений была написана им
уже после отхода от государственной деятельности и была собрана и подготовлена к публикации Джонатаном
Свифтом, его секретарем в период с 1689 по 1699 гг. Элегантный разговорный стиль эссе послужил в
значительной степени образцом для собственных творений Свифта, в частности его «Битвы книг», задуманной
как ответ критикам «Эссе о древней и современной учености» Темпла. — Примеч. пер.
1
Swift. Battle of the books (1698). P. 151. См.: Свифт Дж. Полная и правдивая повесть о разразившейся в прошлую
пятницу битве древних и новых книг в Сент-Джейм-ской библиотеке // Избранное. Л.: Худож. лит., 1987.
2
Algeron Sidney. Discourses Concerning Government. 1698. Ch. 3, sect. 25. P. 364.
3
Claredon. Of the Reverence Due to Antiquity. P. 237, 224, 220.
164
ных достижений не наблюдалось, а наличие или отсутствие превосходства зависело от
индивидуальных усилий. Для современного поэта или художника, архитектора или
композитора достижения прошлого были скорее обузой, чем благом, свидетельством величия,
с которым он редко когда мог состязаться.
1
Казалось, такова природа науки, что совре-
менники должны одержать верх над древними, и такова природа искусств, что они должны им
уступить.
Уже само это различение несло в себе некий урон для усилий художников. Провозглашая
прогрессивный дух современной науки, Уильям Уоттон признавал, что прошлое может по-
прежнему затмевать настоящее в искусстве и в философии, где о достижениях судят не на
кумулятивной основе.
2
Уильям Коллинз считал искусство исключением на фоне достижений
нынешнего дня:
Всякое растущее искусство продвигается от ступени к ступени,
Труд ложится на труд, а век совершенствует век:
Лишь Муза одна воплощает свое неистовство иначе,
И удостаивает благороднейшим великолепием свои прежние стадии.
3
Аналогичное различение проводил и Джозеф Пристли: коль скоро наука не знает границ,
открытия Ньютона не обескуражили прочих философов, но, напротив, вдохновили их на
новые открытия; но поскольку на пути художественного совершенства стоят ощутимые
границы, предшествующие достижения закрывают новые перспективы.
4
Однако далеко не все считали, что все современное искусство в целом уступает древнему.
Буало признавал, что современный эпос, ораторское искусство, элегия и сатира не
соответствуют уровню классиков эпохи Августа, однако выражал надежду, что его
собственный век дал величайшие достижения в области трагедии, философии и лирической
поэзии.
5
Однако, по замечанию Поля де Мана, литературные приверженцы современности
сами в общем и целом обладали куда меньшим талантом, нежели защитники древних.
6
Таким образом, если науки стремительно избавлялись от зависимости от древности, то
искусство испытывало на себе двойной гнет прошлого. Поэтам в XVIII в. приходилось
состязаться не только с классическими предшественниками, но и более близкими фигурами,
такими

1
Kristeller. Modern system of the arts. P. 525—526; Scheffer. Idea of decline in literature and the fine arts in eighteenth-
century England.
2
Wotton William. Reflections upon Ancient and Modem Learning. 1694. P. 5, 9.
3
Collins William. Epistle addressed to Sir Thomas Haruner. 1744. P. 391.
4
Joseph Priestly. Lectures on History, and General Policy. 1788. P. 382. Позже Джон Стюарт Милль проводил
аналогичное разделение, различая образованных людей и массы: «Наиболее мудрые люди в любом веке обычно
превосходят в мудрости мудрецов любого другого предшествующего века, поскольку ... обладают и пользуются
постоянно растущими накоплениями идей всех веков; но большинство ... использует идеи лишь своего времени, и
никакие другие» (Spirit of the age, 1831. P. 36).
5
Boileau to Charles Penault. Цит. по: Highet. Classical Tradition. P. 281.
Буало (Буало-Депрео) Никола (1636—1711), французский поэт и критик, теоретик классицизма. — Примеч. пер.
6
Man Paul de. Blindness and insight. P. 153—154.
165
как Монтень и Рабле, Спенсер и Мильтон. «Достоинства их непосредственных
предшественников» усложняют правление государям, как отмечает Сэмуэль Джонсон, и «с
такими же трудностями сталкиваются и знаменитые писатели».
1
Отдаленное прошлое может
казаться восхитительным, однако недавнее прошлое, по выражению Юма, «притупляет
соперничество и гасит пыл благородной юности». Столкнувшись с множеством примеров
природного красноречия, человек «естественным образом сравнивает с ними собственные
юношеские упражнения, и, коль скоро он чувствует между ними громадную разницу, это от-
вращает его от любых дальнейших попыток, и он уже не решается вступить в состязание с
теми авторами, к которым испытывает восхищение». Однако лишь через соперничество
можно избавиться от непомерного почитания прошлого; «благородное соперничество — вот
источник всякого совершенства. Восхищение и скромность естественным образом гасят
подобное соперничество».
2
Никто не ощущал эту дилемму острее, чем Гете — один из тех,
кому удалось ее разрешить. По его мнению, это демоны «желая подразнить и подурачить
человечество, время от времени позволяют возникнуть отдельным личностям», — Рафаэлю,
Моцарту, Шекспиру, — «столь обольстительным и великим, что каждый хочет им
уподобиться, однако возвыситься до них не в состоянии».
3
Подобное искушение было, по
мысли Вико, столь губительным, что ни один талантливый художник не мог себе позволить
находиться в окружении шедевров прошлого; люди, «наделенные превосходящим гением,
должны убирать шедевры своего искусства из виду».
4
Уже само признание непревзойденного мастерства прежних эпох низводило художников и
поэтов XIX в. на уровень подчиненности. Сакрализованное прошлое не оставляло
современному духу никакого другого занятия, кроме как подражать несравненным
предшественникам. Постоянным рефреном звучало слово «невозможно». По заключению
Ричарда Штиля (Steele), «коль скоро природа остается неизменной, невозможно, чтобы какой-
либо из современных авторов живописал ее иначе, нежели так, как это делали древние»,
5
оригинальность
1
SamuelJohnson. The Rambler. N 86. 12 Jan. 1751 // Johnson. Works, 2:87.
2
Hume. Of the rise and progress of the arts and sciences (1742), 3:196. (См.: Юм Д. О возникновении и развитии
искусств и наук // Соч. Т. 2. М. С. 627—650.) Непосредственным предшественником самого Юма был Веллюс
Velleius (Historiae Romanae, с. A.D. 30; см.: Scheffer. Idea of decline. P. 157—160). Юм также винил иностранные
заимствования: «Причиной нашего столь незначительного прогресса в этой области является множество образцов
итальянской живописи, привезенных в Англию вместо того, чтобы побуждать к деятельности наших
художников».
3
То Eckermann, 6 Dec. 1829 // Goethe. Conversational Encounters. P. 208. См.: Эккер-ман И.-П. Разговоры с Гете. М.,
1986. С. 329.
4
Fico. On the Study Methods of Our Time (1709). P. 72: «To обстоятельство, что у нас есть Геркулес Фарнезе и
прочие шедевры античной скульптуры ... помешало нашим скульпторам в полной мере реализовать собственное
мастерство» (Р. 71). См.: Bloom. Poetry and Repression. P. 4.
5
Steele Richard. The Guardian. Цит. по: Bate. Burden of the Past. P. 40.
166
немыслима. «Невозможно для нас, живущих при скончании веков мира, — писал Аддисон, —
производить наблюдения,... на которые не оказывали бы влияние другие».' Великие
предшественники «завладели нашим вниманием и тем самым мешают тому, чтобы мы
должным образом исследовали самих себя; они создают предвзятое мнение в пользу
собственных способностей, и тем преуменьшают наше чувство собственных [способностей];
они устрашают нас блеском своей славы, и тем самым под гнетом неуверенности погребают

нашу силу».
2
Phihsophes* французского Просвещения также исключали искусство из общего движения
прогресса. Вольтер считал, что единственной альтернативой «бессмысленной
эксцентричности» является рутинная имитация; Кондильяк полагал, что упадок воображения
очевиден, а исчерпание искусства неизбежно.
4
Сидящий у ноги классического колосса
художник Генри Фюзели воплощает в себе позицию современного искусства, одновременно
вдохновленного и подавленного величием прошлого.
5
Ощутимое превосходство предшественников привело к тому, что поэты, художники и
критики XIX в. стали считать упадок искусств повсеместным. Однако подобный пессимизм
исходил из оснований, в корне отличных от не вызывавшего более доверия тезиса об «упадке
природы». Моральный и художественный упадок казался следствием общего прогресса
знания и цивилизации, а оскудение воображения — конечной платой за успехи науки.
6
Считалось, что материальные достижения лишили поэтов и художников страсти, ржа
критицизма разъедает легкость стиля, а появление массовой аудитории ведет к разрушению
эстетических стандартов. Боязнь оригинальности многократно умножила эти недостатки, а
отсутствующий творческий импульс в то же время отвергался как outre
1
и неподобающий. По
мнению Джеймса Марриотта, сознание совершенства прошлого провоцировало чрезмерное
стремление к новизне, вызывая тем самым деградацию искусства. Современных авторов,
полных амбиций превзойти совершенство прошлого, «влекло искушение свернуть [с
проторенных дорог] на неизбитые тропы изящества и манерности», что в итоге привело в
тому, что Вольтер именовал у их предшественников «прекрасной простотой природы».
8
Поскольку
1
Addison. Spectator. N 253. 20 Dec. 1711. 2:483—4: «Мы уступаем ныне древним в поэзии, ораторском искусстве,
истории, архитектуре и во всех благородных искусствах и науках, которые зависят более от гения, нежели от опыта, но
превосходим их ... в дурных виршах, ... бурлеске и всех прочих тривиальных искусствах осмеяния» (ibid., N249. 15 Dec.
1711,2:467).
2
Young. Conjectures on Original Composition. 1759. P. 9.
3
Философы (фр.). — Примеч. пер.
4
Bate. Burden of the Past. P. 46.
5
Henry Fuseli. The Artist Moved by the Grandeur of Ancient Ruins (1778—1779). Цит. no: Honour. Neo-classicism. P. 53.
6
Manuel. Shapes of Philosophical History. P. 67—68.
7
Outre (фр.). — преувеличенный, утрированный. — Примеч. пер.
8
Marriott. 1755, cited, and Voltaire. An essay on last (1757). Цит. по: Scheffer. Idea of decline. P. 162, 164.
167
умеренные отчаялись достичь славы, «а процветающие могут счесть эту цель слишком
ненадежной», то, по мнению Голдсмита, защитная реакция современных талантов «может в
конце выродиться в нужду и бесстыдство», потому что лишь заносчивые или отчаявшиеся
люди могут ставить перед собой цель усовершенствовать прошлое.
1
По мнению лорда
Кэймса, в упадке отчасти повинен современный вкус к сложности и новизне — хотя он также
ощущал, что достижения прошлого столь велики, что «исключают всякое соперничество»
даже в' науке, где «великий Ньютон, превзойдя всех древних, не оставил соотечественникам
ни малейшей надежды на то, чтобы с ним сравниться».
2
Аналогичная ситуация складывалась и в скульптуре. По словам Роберта Куллена,
совершенство прошлого довлело над современной скульптурой, «с необходимостью разрушая
то благородное соперничество, которое одно в состоянии стимулировать движение к
совершенству.... Понимая, что не в состоянии превзойти те великие образцы, которые видит
перед собой, художник малодушно отказывается от всяких подобных попыток. Вся слава уже
поделена, большей славы и почета добиться невозможно, и рвение художника поверяется
восприятием того, что он не может превзойти», или, возможно, даже сравняться со своими
предшественниками.
3
Каким образом querelle сказалась на приверженности прошлому или настоящему, старому и
новому? Как и в случае Ренессанса, к какому-то однозначному выводу придти невозможно.
Некоторые исследователи считают, что идея прогресса никогда прежде не имела столь
очевидного триумфа. Еще накануне эпохи Просвещения европейские ученые, по мнению
Поля Хазарда, «внезапно отказались от культа античности», считая, что в прошедших четырех
тысячелетиях истории «совсем нечем гордиться, но, напротив, что они лежат на нас
непереносимым бременем», они «повернулись к прошлому спиной, как к чему-то мимолетно-

му, ускользающему, как Протей, что невозможно ни ухватить, ни удержать, чему-то
изначально и неискоренимо обманному» и ненадежному. К концу XVII в. «прошлое со всеми
его великими свершениями уже не ставили ни во что».
4
Philosophes XVIII в. благодарили
судьбу за то, что человечество уже оставило позади это бесславное прошлое, об ужасах
которого они беспрестанно твердили.
5
Только те, кто совершенно невежествен в истории,
могут сожалеть о старых добрых днях, утверждает Шастелюкс (Chastelux), никакое прошлое
не было таким счастливым,
1
Goldsmith. Enquiry into the Present Stale of Polite Learning in Europe. 1759. P. 260.
2
Kames. Sketches of the History of Man. 1788. 1:296—7; см. также: Р. 281—282. В Италии «Микеланджело,
Рафаэль, Тициан и др. подобны высоким дубам, что заставляют молодую поросль держаться в отдалении и
перехватывают у них солнечный свет соперничества». (Р. 300).
3
Robert Cullen. Lounger. N 73. 1786. Цит. по: Scheffer. Idea of decline. P. 173.
4
Hazard. European Mind. P. 29—30.
5
Becker. Heavenly City of the Eighteenth-Century Philosophers. P. 118.
168
как настоящее. «Какой образованный человек по-настоящему пожелал бы жить, —
спрашивает аббат Морель (Abbe Morellet), — в то варварское и поэтическое время, которое
живописал Гомер?»
1
С точки зрения Вольни, пышный блеск древних империй не сделал их
обитателей ни мудрыми, ни счастливыми.
2
Античность принижали для того, чтобы
подчеркнуть прогресс, совершенный современными людьми — и, как показывают
приведенные примеры, рассеять давние следы ностальгии.
«Прошлое закончилось; на его месте воцарилось Настоящее!» Эта фраза, конечно, не является
точным выражением характера времени. Вновь обретенная уверенность в прогрессе не
отменяет прежних сомнений, многое продолжает связывать нас с прошлым. Как мы видели,
даже столь уверенный в современности человек как Бэкон сохранял уважение к древности.
Веком позже Джон Локк назвал querelle конфликтом между безрассудными предрассудками.
Было совершенно «фантастичным и нелепым» приписывать «все знание только древним, или,
наоборот, современникам»; следует «и у тех и у других собирать все, что приносит свет».
3
Наследием querelle осталось сочетание веры в шествие прогресса и апатии перед лицом
великих предшественников, двойственность по поводу подлинной роли прошлого в
настоящем. Спорные прежде вопросы — идея упадка, стремление к освобождению науки от
классических прецедентов, роль местных языков — были либо разрешены, либо сошли со
сцены. Однако сама страстность querelle породила новые вопросы и вновь свела прошлое и
настоящее как непримиримых соперников.
В конечном итоге отличительной чертой научного знания стал кумулятивный прогресс, но в
культуре и искусстве великие предшественники все еще подавляли пыл современников, и
новизна считалась не достоинством, а, напротив, недостатком. В обеих сферах признавали
силу прошлого (к счастью, или к несчастью), но в науке и материальной цивилизации человек
ощущал, что впитал в себя и превзошел прошлое, тогда как в приходящем в упадок искусстве
слава античности преследовала современных авторов по пятам, заставляя чувствовать себя
всего лишь запоздалыми эпигонами. Следование за предшественниками имело в себе
некоторый творческий импульс в эпоху Ренессанса, но теперь превратилось всего лишь в
символ подчинения, имитация стала окончательно несопоставимой с инновацией. А потому
революционное и романтическое иконоборчество стало главным вызовом весу и авторитету
прошлого.
1
Chastellux. Essay on Public Happiness. 1772; Morellet. Цит. по: Bury. Idea of Progress. P. 192—193.
2
Volney. Ruins; or, A Survey of the Revolutions of Empire (1789), Ch. 11. P. 49—61.
3
John Locke. Conduct of the Understanding. 1706. Sect. 24. Partiality. P. 47—8. См.: Локк Дж. Об управлении
разумом // Соч. Т. 2. М., 1985. С. 239—240.
169
Викторианская Англия
Новое основывается здоровым и крепким старым и поддерживается им, черпает свою недюжинную силу из их глубин и
незапамятных истоков, хотя и с теми препонами и помехами, которые может выдержать только англичанин. Но ему нравится
ощущать тяжесть прошлого на своей спине, и более того, отягощающая его старина уже пустила корни в его существе, и стала,
скорее, чем-то вроде горба, так что от него уже не избавиться, разве что разрезав целое на куски... И поскольку он чувствует
себя вполне комфортно с таким покрытым плесенью приращением, лучше уж он будет мириться с ним дальше, пока можно.
Натаниелъ Готорн. О Варвике^
Беспрецедентные перемены в Европе и Северной Америке XIX в. решительным образом
