Курочкина Г.И. Философия социально-гуманитарных наук
Подождите немного. Документ загружается.


Поэтому он разделяет идеи Гегеля и о том, что истинный
метод есть «деяние самого дела» и это деяние не должно
входить во внутреннюю область мысли со своими
собственными домыслами, ибо мыслить - значит «развернуть
дело в его собственной последовательности».
«Придерживаясь» Гегеля, опираясь на его
диалектические идеи, Гадамер стремится «сделать шаг дальше
гегелевского понимания» тех проблем, которые он находит
важными для разработки своей концепции. Наиболее ценным
у Гегеля он считает то, что в рамках мыслительной
последовательности вещи сами собой переходят в свою
противоположность и «опыт перехода в противоположное» -
это и есть подлинный опыт диалектика: «Мышление получает
возможность, даже не касаясь сути, рассматривать про-
тивоположности - таков опыт мысли, на который опирается ге-
гелевское понятие метода как саморазвертывания чистой
мысли в систему целостной истины» /20, с.537/.
Именно этот опыт мысли и берет Гадамер прежде всего
при построении своей философской герменевтики, полагая,
что именно Гегель продумал, прорефлектировал то
историческое измерение (т. е. развитие через
противоположности), в котором коренится проблема
герменевтики. Подчеркивая важность диалектики Платона и
Гегеля для решения данной проблемы, Гадамер отмечает, что
и в герменевтическом опыте мы сталкиваемся с диалектикой, с
переходом в свою противоположность, с историчностью и
целостностью. Так, он пишет, что «само дело - смысл текста -
добивается нашего признания. Движение истолкования
является диалектическим … прежде всего потому, что
толкующее слово, «попадающее» в смысл текста, выражает
целостность этого смысла и, значит, дает бесконечности
смысла конечное выражение» /20, с.538/. И вообще «наукам о
духе» должно быть свойственно, чтобы все присущее им
частное познавалось в целостности нашего человеческого,
разумного существования.
73

7. Для Гадамера характерно всемерное подчеркивание
диалогического характера философской герменевтики как
логики вопроса и ответа, как своеобразной философии
понимания. Диалог (беседу) Гадамер считает - вслед за
Сократом и Платоном - основным способом достижения
истины в гуманитарных науках. Всякое знание, по его мнению,
проходит через вопрос, причем вопрос труднее ответа (хотя
часто кажется наоборот). Поэтому диалог, т. е. вопрошание и
ответствование, есть тот способ, которым осуществляется
диалектика. Решение вопроса есть путь к знанию, и конечный
результат здесь зависит от того, правильно или неправильно
поставлен сам вопрос.
Сущность знания, согласно Гадамеру, заключается в том,
что оно не только выносит правильное суждение, но
одновременно с этим и на тех же основаниях исключает
неправильное. «Ведь знать всегда означает: одновременно
познать противоположное. Знание в своей основе
диалектично. Знание может быть лишь у того, у кого есть
вопросы, вопросы же всегда схватывают противоположности
между «да» и «нет», между «так» или «иначе» /20, с.429/.
Искусство вопрошания - это сложное диалектическое
искусство искания истины, искусство мышления, искусство
ведения беседы, разговора, которое требует прежде всего,
чтобы собеседники слышали друг друга, следовали за мыслью
своего оппонента, не забывая, однако, «сути дела», о котором
идет спор, а тем более не пытаясь вообще замять вопрос.
Вот почему, подчеркивает Гадамер, чтобы вопрошание
было действительным искусством, а разговор (спор) -
подлинным и продуктивным, но не «софистической
интерпретацией текстов», крайне важной «является
внутренняя последовательность, с которой продвигается
вперед развиваемая в диалоге мысль. Вести беседу - значит
подчиняться водительству того дела, к которому обращены
собеседники. Чтобы вести беседу, нужно не играть на
74

понижение аргументов собеседника, но суметь действительно
оценить фактическую весомость чужого мнения» /20, с.432/.
Таким образом, диалог, т. е. логика вопроса и ответа, и
есть логика «наук о духе», к которой мы, по мнению Гадамера,
несмотря на опыт Платона, подготовлены очень слабо.
Подчеркивая тесную связь между вопрошанием и
пониманием, немецкий мыслитель утверждает: «Кто хочет
мыслить, должен спрашивать», т. е. должен ставить проблемы
и правильно разрешать их.
8. Согласно Гадамеру, понимание человеком мира и
взаимопонимание людей осуществляются в «стихии языка».
Последний рассматривается как особая реальность, внутри
которой человек себя застает. «Я полагаю, - пишет философ, -
что не только процедура понимания людьми друг друга, но и
процесс понимания вообще представляет собой событие языка
даже когда речь идет о внеязыковых феноменах или об умол-
кнувшем и застывшем в буквах голосе» /19, с. 44/.
Всякое понимание есть проблема языковая, и оно
достигается (или не достигается) в «медиуме языковости».
Иначе говоря, все феномены взаимосогласия, понимания и
непонимания, образующие предмет герменевтики, суть
явления языковые. Как «сквозная основа» передачи
культурного опыта от поколения к поколению, язык
обеспечивает возможность традиций, а диалог между
различными культурами реализуется через поиск общего
языка.
Итак, исходный пункт герменевтики - языковая форма
выражения мышления. При этом понимание и
взаимопонимание имеют в качестве своих условий критику,
борьбу с косностью и исторический подход к языку.
Последний подход очень важен потому, что вместе с новыми
взглядами зарождается и оформляется новая речь и на почве
изменившейся жизни и изменившегося опыта вырастают
новые языковые соподчинения и новые формы речи.
75
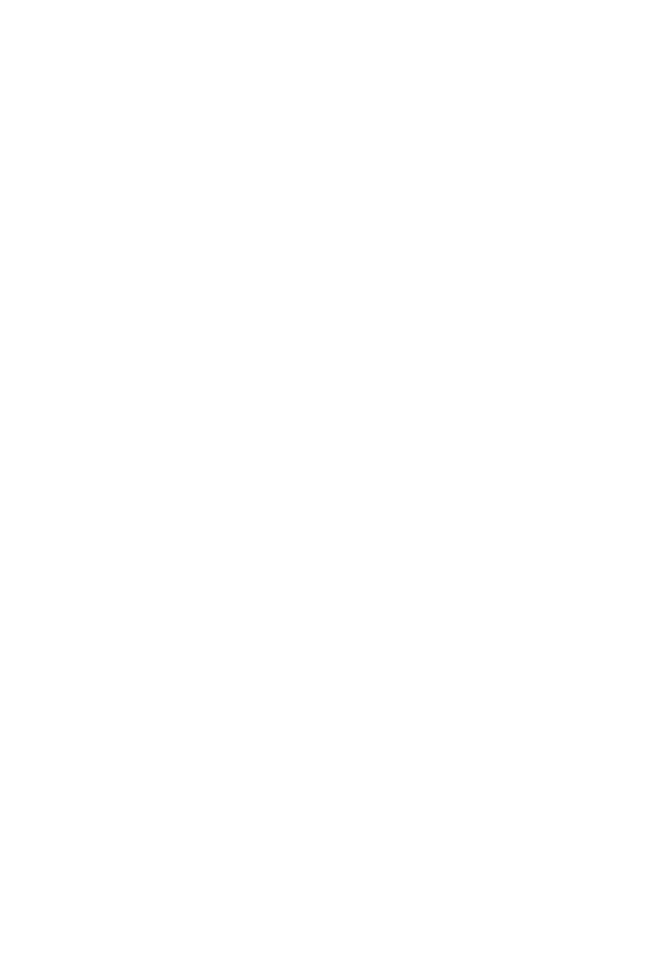
Таким образом, процесс постижения смысла,
осуществляемый в понимании, происходит в языковой форме,
т. е. есть процесс языковый. Язык есть та среда, в которой
происходит процесс взаимного договаривания собеседников и
обретается взаимопонимание по поводу самого дела. Такое
взаимопонимание и достигается «на путеводной нити языка»,
и языковая структура нашего опыта мира способна охватить
самые многообразные жизненные отношения.
К несомненным заслугам Гадамера относится концепция
языка, разработанная в рамках герменевтики, но имеющая
принципиальное значение для гуманитарной эпистемологии в
целом. Гадамером подмечено, что язык не является
инструментом, орудием, которое можно применять или не
применять (быть временно как бы безъязыким) в зависимости
от потребности. В действительности мы «всегда охвачены
языком», не существуем без него, если даже молчим, не
говорим, «в языке мы обычно так же дома, как и в мире».
Он определил три основные характеристики языка,
которые не учитываются в полной мере при его когнитивных
оценках. Прежде всего - это «реальное самозабвение языка» -
удивительное свойство, проявляющееся в том, что все
«параметры» языка - структура, грамматика, синтаксис и
другие не осознаются в живом языке, и можно даже выявить
зависимость: чем язык более живой, тем он менее осознается,
как бы прячется за тем, «что им сказывается». Нужны
специальные усилия для выделения лингвистических
характеристик, что возможно лишь при отстраненном,
абстрактном отношении к языку или необходимо при изуче-
нии чужого языка. Если это учесть, то роль языка в познании
должна рассматриваться не только в плане когнитивных и
коммуникативных возможностей, но и с учетом тех явно не
обозначенных представлений о мире (картины мира),
традиций культуры, менталитета говорящих и мыслящих на
этом языке, которые проявляют в самом говорении как живом
знании и общении, т.е. в реальной жизни языка и человека в
76

нем. И тогда на первое место выходят не только формально и
достаточно жестко организованные свойства и параметры
языка, но и его неопределенные, стихийные, подразумеваемые
и неявные смыслы и значения, что так значимо для
гуманитарного знания. Само отношение к четкости и
нечеткости в языке существенно меняется.
Вторая характеристика языка, выделяемая Гадамером, -
«безличность» - означает, что говорение не относится к сфере
«Я», но к сфере «Мы» и формы протекания разговора
(диалога) можно описать понятием игры, «игры речей и
ответов». Эта особенность языка также значима для
понимания его миссии в познании, поскольку помогает
уловить возникающее в диалоге единство языка с
виртуальными феноменами познания - новой реальностью,
возникающей в диалоге, а также в скрытых смыслах текстов,
возникающих на границе двух сознаний - автора и читателя.
Язык как говорение - сфера «Мы» - позволяет познавать еще
одну особенность. Это не само слово, но «тон, сила, модуля-
ция, темп, с которыми проговаривается ряд слов, - короче,
музыка за словами, страсть за этой музыкой, личность за этой
страстью: стало быть все то, что не может быть написано» /21,
с.751/.
Третье качество, по Гадамеру, - универсальность языка
как универсальность разума, с которой «шагает в ногу» умение
говорить; сам разговор «обладает внутренней
бесконечностью», его «обрыв» сохраняет возможность
возобновления бесконечного диалога, в пространстве которого
находятся все вопросы и ответы. Он иллюстрирует это
положение конкретным примером – опытом перевода и
переводчика, который «должен отвоевать внутри себя
бесконечное пространство говорения, которое соответствует
сказанному на чужом языке» /22, с.140/.
2.3. Особенности гуманитарного знания
в творческом наследии М.М. Бахтина
77

Бахтин М.М. (1895-1975) – исследователь творчества
Достоевского и Рабле, проблем эстетики, истории и теории
литературы, социологии личности. Но в первую очередь, он
философ, разрабатывавший на протяжении всей своей жизни
проблемы диалога как широкой мировоззренческой концепции
и парадигмы гуманитарного исследования. Отметим главные
методологические идеи русского мыслителя.
Бахтин М.М. наметил, по существу, ряд
фундаментальных программ создания принципиально нового
видения и изменения ситуации в философии познания.
Наиболее плодотворная и вдохновляющая его идея —
построение учения о познании не в отвлечении от человека,
как это делается в теоретизированием мире естествен-
нонаучного рационализма, но на основе доверия целостному
субъекту - человеку познающему Бахтин оставил нам
размышления о философских основах гуманитарных наук.
«Критерий здесь не точность познания, а глубина
проникновения. Здесь познание направлено на
индивидуальное. Это область открытий, откровений, узнаний,
сообщений. Сложность двустороннего акта познания-
проникновения. Активность познающего и активность
открывающегося (диалогичность). Умение познать и умение
выразить себя. «Предмет гуманитарных наук - выразительное
и говорящее бытие» /26, с.315/.
B работе «Автор и герой в эстетической действительно-
сти» Бахтин, анализируя то, что он называет «эстетической
реальностью», связывает эстетический подход с наличием
двух несовпадающих сознаний (автора и героя). За счет этого
несовпадения (позиции «вненаходимости»,
«трансгредиентности» по отношению к сознанию героя) автор
не просто художественно описывает героя, но полностью его
определяет и завершает. «Эстетическое событие, - пишет Бах-
тин, - может совершиться лишь при двух участниках,
предполагает два несовпадающих сознания. Автор - носитель
78

напряженно-активного единения, трансгредиентного каждому
отдельному моменту его. Сознание автора есть сознание
сознания, то есть объемлющее сознание героя и его мир,
сознание, объемлющее это сознание героя моментами,
принципиально трансгредиентными ему самому, которые,
будучи имманентными, сделали бы фальшивым это
сознание» /23, с.22/.
Бахтин подчеркивает, что завершение и определение
внешнего и внутреннего мира человека, так же как его
объективная характеристика, возможны лишь в результате
существования «Другого»; только в рамках отношения «Я и
Другой» возможно определение и завершение человека,
возможен сам эстетический акт познания. «В категории Я моя
наружность не может переживаться как объемлющая и
завершающая меня ценность, так переживается она лишь в
категории Другого, избыток видения - почка, где дремлет
форма и откуда она и развертывается, как цветок». В отличие
от героя, утверждает Бахтин, автор всегда остается
незавершенным, совпадающим с сами собой. Если поведение
автора определяется смыслом конкретной бытовой ситуации,
ее событиями и предметом, напряженными ценностно-
смысловыми отношениями существования, то поведение героя
полностью завершается и определяется позицией, оценкой и
творческим художественным заданием автора.
В другой работе этого периода - «Марксизм и философия
языка» - Бахтин (языком В. Волошинова) развивает идею
«языкового общения» или взаимодействия. Он доказывает, что
всякое речевое высказывание, не исключая и эстетического,
является «моментом непрерывного речевого общения»,
которое может быть представлено как широко понимаемый
диалог («реальной единицею языка - речи (Sprach als Rede),
как мы уже знаем, является не изолированное единичное
монологическое высказывание, а взаимодействие по крайней
мере двух высказываний, т. е. диалог») /24, с.97, 115/.
79
Третья идея - многоголосья, неслиянности сознания
героев в романах Достоевского. Обсуждая логику построения
романтического характера, Бахтин отмечает здесь три важных
момента: во-первых, автор должен определить и завершить
«самочинную», «творчески одинокую», «ценностно-
инициативную личность»; во-вторых, ценность и единство
всех определений подобной личности задается категорией
«идея» («индивидуальность романтического героя
раскрывается не как судьба, а как идея, или, точнее, как
воплощение идеи») и, в-третьих, автор как бы вносит свое
отношение к герою в его сознание. «Романтизм, - пишет
Бахтин, - является формою бесконечного героя, рефлекс
автора над героем вносится вовнутрь героя и перестраивает
его, герой отнимает у автора все его трансгредиентные
определения для себя, для своего саморазвития и
самоопределения, которое вследствие этого становится
бесконечным» /23, с.157/.
Анализируя творчество Достоевского, которого Бахтин
относил к романтикам, он обнаружил, что с точки зрения
«литературно-критической мысли творчество Достоевского
распалось на ряд самостоятельных и противоречащих, друг
другу философских построений, защищаемых его героями.
Среди них далеко не на первом месте фигурируют и
философские воззрения самого автора» /25, с.5/. Бахтин
приходит к мысли, что герой Достоевского как творческая
ценностно-инициативная личность «идеологически автори-
тетен и самостоятелен, он воспринимается как автор
собственной полновесной идеологической концепции, а не как
объект завершающего художественного видения». Отсюда в
романах Достоевского, утверждает Бахтин, «множественность
самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний,
подлинная полифония полноценных голосов». Необходимое
условие самостоятельности голоса героя, показывает Бахтин, -
его идеологичность («Он не только сознающий, - он идеолог»).
В свою очередь, «условие создания образа идеи у
80

Достоевского - глубокое понимание им диалогической
природы человеческой мысли, диалогической природы идеи.
Идея - это живое событие, разыгрывающееся в точке
диалогической встречи двух или нескольких сознаний».
Далее Бахтин действует вполне по рецептам научного
познания: он сводит новые случаи к уже изученным, т.е.
представляет интересующие его феномены как диалог, про-
тивостояние голосов, идеологические отношения и т. д. Во-
первых, далее само согласие он трактует как диалог. «Нужно
подчеркнуть, - пишет Бахтин, - что в мире Достоевского и
согласие сохраняет свой диалогический характер, то есть
никогда не приводит к слиянию голосов и правд в единую
безличную правду» /25, с.161/.
Во-вторых, слово в произведениях Достоевского Бахтин
представляет как диалог, столкновение идей, голосов: «Жизнь
слова - в переходе из уст в уста, из одного контекста в другой
контекст». Слово человек «получает с чужого голоса и
наполненное чужим голосом». В произведениях Достоевского,
подчеркивает Бахтин, «явно преобладает разнонаправленное
двухголосное слово, притом внутренне диалогизированное и
отраженное чужим словом: скрытая полемика, полемически
окрашенная исповедь, скрытый диалог».
В-третьих, на основе представлений о диалоге, а также
противостояния «Я и Другого», Бахтину удается объяснить в
романах Достоевского функцию двойников. По сути,
показывает Бахтин, герой и его двойник моделируют амбива-
лентность сознания героя (столкновение и противостояние его
внутренних голосов). «В «Двойнике» второй герой (двойник)
был прямо введен Достоевским как олицетворенный второй
внутренний голос самого Голядкина. Два героя всегда
вводятся Достоевским так, что каждый из них интимно связан
с внутренним голосом другого».
Наконец, Бахтин показывает, что такие предшествующие
полифоническому роману литературные жанры, как
81

«сократический диалог» и мениппея, также основываются на
диалоге и идеологических отношениях.
Таким образом, Бахтин строит полноценную теорию,
которая включает идеальные объекты и действия с ними.
Теперь главный вопрос: что во всех этих теоретических
построениях от гуманитарного познания? Во-первых, Бахтин
тоже имеет дело с текстами, в данном случае Достоевского, и
эти тексты по-разному интерпретируются искусствоведами
(литературоведами). «Поэтику Достоевского» Бахтин начинает
с разбора литературоведческих точек зрения на произведения
Достоевского и полемики с ними. При этом он предлагает свое
собственное новаторское прочтение текстов Достоевского. Во-
вторых, полемизируя с другими литературоведами и создавая
собственное прочтение и объяснение Достоевского, Бахтин
реализует свои ценности и взгляды на мышление, литературу,
творчество. Короче говоря, бахтинская теория творчества
Достоевского валентна личности Бахтина. Но внутри
субъективной бахтинской «рамки» реализуется строгий
объективный научный подход: формулируются проблемы и
эмпирические особенности произведений Достоевского (их
требуется объяснить теоретическим путем), строятся
идеальные объекты, более сложные случаи сводятся к более
простым и уже изученным, проводятся культурно-истори-
ческие обоснования. Но есть еще один важный момент.
Читая Бахтина, стараясь его понять, вживаясь в реаль-
ность, о которой Бахтин говорит, переживая события этой
реальности («вненаходимости», напряженно-активного
единства», «Я», «Другого», «почки, где дремлет форма и
откуда она развертывается, как цветок», «диалога», «голоса»,
«идеи как живого события, разыгрывающегося в точке
диалогической встречи», «неслиянности сознаний»,
«полифонии голосов» и т. д.), мы не просто что-то узнаем о
человеке, его сознании и поведении. Мы сами оказываемся
включенными в мир человеческого (наш голос так же значим,
как и другие голоса); понимаем, что наша жизнь и сознание
82
