Кожинов В.В. Происхождение романа
Подождите немного. Документ загружается.


ным выражением мыслей». Но именно поэтому «изящная проза едва ли
не труднее стихов и периодов; ибо там есть причины к извинению;
здесь нет никаких»
1
.
Это рассуждение, выглядящее теперь несколько наивно, по сути
своей очень точно. В свете его становится ясно, в частности, почему и
до сил пор прозу определяют через стих, как некое отклонение,
отталкивание от поэзии. И если глубже вникнуть в суть проблемы,
становится ясно, что подлинно художественная проза — это
действительно высшая, наиболее зрелая стадия развития искусства
слова. Она в самом деле сложнее и труднее стихов, ибо стих (да и
ритмическую прозу) организует, формирует вполне определенный,
заранее заданный ритмический канон. Он уже выработан традицией, и
писатель опирается на его прочный фундамент. Между тем в прозе
писатель должен в гораздо большей мере создавать «на пустом месте»,
иметь дело с изменчивой и привольной стихией лишенного метра
повествования. В частности, писатель должен постоянно избегать
всякой заданности, устойчивого ритма.
Становящаяся русская проза стремится последовательно
отграничиться от поэзии, что ясно видно во многих известных
суждениях Пушкина. Он отмечает, в частности, что романы
необходимо писать «со всею свободою разговора или письма», а «что
касается до слога, то чем он проще, тем будет лучше».
После созревания подлинной прозы формы ритмической прозы
отходят на второй план литературы, становясь узколокальной,
специфической сферой (обычно они употребляются в лироэпичеоких
произведениях и различного рода стилизациях). Это не значит, однако,
что строение прозы как таковой вообще не подчинено никаким
закономерностям. В зрелой прозе складывается особый, прозаический
ритм, ритм прозы (это понятие качественно, принципиально
отличается от понятия «ритмическая проза»). Так, прозаический
1
Цит. «Риторику» Кошанского по исследованию В. В. Виноградова «О
художественной прозе». М. — Л., ГИЗ, 1930.
351

ритм уже совершенно четко и очевидно формируется в повествованиях
Пушкина.
Становление русской прозы в творчестве Пушкина интересно
исследовано А. З. Лежневым
1
. Автор ставит, в частности, и
общетеоретическую проблему ритма прозы, который «не имеет ничего
общего с «ритмической прозой»... Элементами, образующими ритм
прозы, являются: протяженность фраз, взаимоотношения их структуры
(например, параллелизм), связь их между собой... То есть ритм здесь
создается не... «молекулярными» колебаниями внутри фразы или
отрезка фразы, как в стихе». Он создается «движением сравнительно
крупных масс, смысловых единиц, тем, как они сцепляются друг с
другом»
2
.
В ритмической прозе, как и в поэзии, смысловые единицы
«подчеркнуты» их совпадением с четкими, родственными и
равномерными единицами ритма — организованными внутренним
метром, клаузулой и определенностью длины отрезками речи. Между
тем в прозе перед нами как бы обнаженный ритм взаимосвязанных
смысловых единиц; он лишь в очень слабой степени подтверждается
отдаленным сходством самих отрезков речи, выражающих эти
соизмеримые единицы смысла.
Это вовсе не значит, что ритм поэзии сам по себе «бессмыслен».
Нет, своеобразие состоит в том, что в поэтическом произведении ритм
содержит более или менее определенный, заранее заданный и единый
смысл. А в прозе смысл ритма столь же изменчив и многозначен, как
изменчивы и многообразны отрезки, на которые членится свободная
прозаическая речь. Ритм прозы гибко меняется в зависимости от темпа
и характера изображаемых событий и переживаний.
Ритм прозы как раз и способен объективировать, сделать
осязаемыми те зыбкие оттенки и тончайшие сдвиги повседневного
прозаического бытия и сознания личности, которые осваивает
искусство романа. Важ-
1
А. З. Лежнев Проза Пушкина. Опыт стилевого исследования. М., Гослитиздат,
1937.
2
Указ. соч. стр. 197 — 202.
352

но подчеркнуть, что явление, называемое ритмом прозы, — в такой же
степени художественное, литературное явление, как и стиховой ритм.
Только наивные люди могут полагать, что речь романа тождественна
речи обычного устного или письменного рассказа, — как будто бы
переход от стиха к прозе означал только то, что люди стали писать
художественные произведения «просто» и точно так, как они говорили.
Зачем бы тогда понадобилась, например, напряженная и поистине
великая работа над речью, проделанная «школой Ларошфуко» во
Франции, Гёте — в Германии, Пушкиным — в России? Пушкин
говорил, что в прозе «мы принуждены создавать обороты слов для
изъяснения понятий самых обыкновенных». Было бы нелепо
истолковать это в том смысле, что в России вообще не умели говорить
об «обыкновенных» вещах. Дело идет о создании прозаических
«оборотов» для объективации того нового художественного
содержания, которое уже ощутил Пушкин и которое он позднее
воплотил в своих романах и повестях. А эти содержательные формы
прозы создать было не менее трудно, чем, скажем, формы нового
русского стиха, шлифовавшиеся уже в течение столетия.
Проза романа — в какой бы внешней манере он ни был написан
(рассказ от первого или третьего лица, переписка, диалог, сказ,
дневник) — есть искусно созданная форма художественного
повествования, а вовсе не копия обычной разговорной речи. И, в
частности, эта художественная проза имеет свой собственный,
творчески созданный ритм, который несет в себе глубокий
эстетический смысл и осуществляет изобразительные и выразительные
цели.
В течение длительного времени ритм новой прозы, качественно
отличающий ее от простой, повседневной речи людей, не осознается. И
художники, и теоретики полагают, что писатель-прозаик пишет так же,
как вообще говорят люди. Но уже в середине XIX века огромное
художественное значение ритма прозы было глубоко осознано
Флобером и особенно ясно сформулировано его учеником Мопассаном.
«Обычно широкая публика, — писал Мопассан в
353

1876 году, — называет «формой» определенное благозвучие слов,
расположенных в закругленные периоды, фразы со звучным
вступлением и мелодическим понижением интонации в конце, а
поэтому она в большинстве случаев и не подозревает, какое громадное
искусство заключено в книгах Флобера.
У него форма — это само произведение: она подобна целому ряду
разнообразных форм для литья, которые придают очертания его идее,
то есть тому материалу, из которого писатель отливает свои
произведения... Форма бесконечно разнообразна, как и те ощущения,
впечатления и чувства, которые она облекает, будучи неотделимой от
них. Она соответствует всем их изгибам и проявлениям, находя
единственное и точное слово, нужное для их выражения, особый
размер и ритм, необходимый в каждом отдельном случае...»
(Мопассан, т. 13, стр. 7. — Курсив мой. — В. К.).
Мопассан еще склонен видеть в этом открытие самого Флобера. На
самом деле, Флобер одним из первых создает прозаический ритм
сознательно. Но ритм прозы естественно складывается и в той же
книге Прево, которая создала «обаятельную форму» романа, и в более
ранних образцах жанра. Этот ритм, как я уже пытался показать,
отчетливо проступает в «Житии» Аввакума.
В XX веке проблема ритма находится уже в центре внимания любого
крупного прозаика. Соответственно возникает широкий интерес к
изучению ритма в более ранних явлениях прозы. Так, создается целый
ряд работ о ритме прозы Пушкина, который сам еще явно не осознавал
своей всегдашней заботы о ритмическом строении прозаического
повествования. Идея о том, что последующая стадия развития есть
верный ключ к предшествующим стадиям, находит в этом яркое
подтверждение.
Можно бы привести длинный ряд высказываний прозаиков XX века,
свидетельствующих о первостепенной роли специфического ритма в
прозе. Ограничусь одним, очень выразительным признанием
Пришвина, который говорил, что в уже написанном проза-
354

ическом тексте очень трудно изменить даже имя героя, ибо «тогда
нужно бывает, чтобы в новом имени было непременно столько же
слогов, иначе ритм будет нарушен, фраза перестанет звучать»
1
.
К сожалению, законы и типы прозаического ритма еще почти совсем
не изучены. Ясно одно: ритм прозы воплощает ту специфическую
художественную содержательность, которая присуща роману и
родственным ему прозаическим жанрам — повести, рассказу. В
частности, очень существенно замечание Флобера, что в прозе
«необходимо глубокое чувство ритма; ритма изменчивого», ибо
«прозаик ежеминутно меняет движение, окраску, звук фразы сообразно
тому, о чем он говорит»
2
. Без ритма вообще невозможно
искусство, ибо
без него нельзя создать ту «прочность», ту воплощенность речи,
которая является первым условием существования подлинного образа.
Но в прозе ритм противоречиво соединяет прочность и изменчивость.
К прозаическому ритму в полной мере можно отнести то, что метко
сказал В. Р. Гриб о прозаическом искусстве Прево в целом:
органическое сочетание кристальной ясности и радужной
изменчивости, геометрической уравновешенности и трепетной,
зыбкости; рассудочности и мягкого лиризма.
4
Ритм прозы — это сложная и многогранная проблема. В этой работе
о происхождении романа можно и нужно лишь поставить ее. Столь же
кратко мы остановимся на проблеме литературности романа — то
есть проблеме его принципиально письменного и, далее, печатного
бытия.
Казалось бы, это уже самый внешний и чисто технический момент,
не имеющий большого значения для
1
М. М. Пришвин. Собрание сочинений, т. 4. М., Гослитиздат, 1957, стр. 352.
2
Ги де Мопассан. Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 203.
355

художественной природы произведения. В действительности это
совсем не так. Литературность романа — существеннейшее свойство,
без анализа которого невозможно понять этот жанр.
Во-первых, тот факт, что роман создается как произведение,
предназначенное специально для печати, для чтения (а ранее
произведение создавалось прежде всего для устного исполнения), ведет
к глубокой перестройке всей художественной материи. С другой
стороны, литературная, печатная форма романа есть не просто
безразличная, бессодержательная оболочка произведения: сам этот
способ существования, как я попытаюсь показать, словно вбирает в
себя специфическую содержательность жанра.
Не будем забывать, что термин «литература» возникает
сравнительно поздно и означает он «буквенное», то есть письменное,
искусство слова, возникновение романа есть возникновение не только
прозы, но и литературы в собственном смысле слова. До этого
искусство слова не является в собственном смысле «литературой». Не
только древний фольклор, но и гомеровский эпос, античная лирика и
драма, средневековые поэмы, мистерии, ранние «рыцарские романы»,
поэзия трубадуров и миннезингеров, фабльо, шванки, фацетии и т. д.
существуют прежде всего для слушателей — как исполняемая голосом
поэзия. Записанные тексты представляют собой лишь средство для
исполнителей — как своего рода ноты. В значительной степени это
относится и к ренессансной поэме и новелле. Только после широкого
распространения книгопечатания, изобретенного в XV веке,
постепенно изменяется положение. В XVI веке ренессансные
«рыцарские романы» впервые выступают как произведения,
обращенные к читателям. Лишь в этот момент начинается
литература — то есть «буквенное», а не «звуковое» искусство.
Переход к литературе — чрезвычайно богатая и сложная проблема;
здесь невозможно даже кратко охарактеризовать все ее стороны. Я беру
из нее лишь то, что необходимо для теории романа. Прежде всего надо
ясно сознавать, что вплоть до нового време-
356

ни искусство слова существует как искусство звучащее, всецело
обращенное к слушателям. Поэтому не только Аристотель, но даже еще
и Гегель рассматривают искусство слова в одном ряду с музыкой, видя
в поэзии и музыке две разновидности единого вида. Гегель (не говоря
уже о теоретиках античности, средневековья, Возрождения,
классицизма) утверждает, что «говорящий индивид есть единственный
носитель... действительности поэтического произведения. Поэтические
произведения должны произноситься, должны петься,
декламироваться, воспроизводиться самими живыми субъектами
подобно музыкальным произведениям... Печатные или писаные
буквы... лишь безразличные знаки для звуков...» (т. XIV, стр. 223 —
224), то есть своего рода нотная запись.
Очевидно, что эта позиция Гегеля была уже — даже по отношению к
немецкому искусству слова — несколько архаична: гётевские «Вертер»
и «Мейстер» едва ли нуждались для своего полноценного
художественного существования в произнесении. Но для нас важно
само это историческое свидетельство; лишь после Гегеля начинается
пересмотр старого понимания искусства слова в связи со становлением
и развитием литературы в собственном смысле. А исполнение
произведений вслух выступает теперь как самостоятельное,
находящееся уже вне пределов литературы искусство — искусство
чтеца, декламатора, примыкающее к театральному искусству.
Стоит сопоставить два рассказа о восприятии словесного искусства.
Тургенев вспоминал, что он впервые приобщился к словесности,
слушая чтение секретаря его матери, Ф. И. Лобанова. Замечательна
сама манера чтения: «Каждый стих... он читал сначала, так сказать,
начерно, скороговоркой, а затем тот же стих читал набело, громогласно,
с необыкновенной восторженностью». Здесь искусство слова предстает
как принципиально звучащее, и Лобанов поступает подобно музыканту,
нащупывающему ритм и мелодию. И это глубоко типично для самого
бытия словесного искусства в России начала XIX века.
Но вот о своем первом восприятии «силы словес-
357

ного искусства» рассказывает Горький. Он говорит о впечатлении
«чуда», которое вызвали у него печатные страницы великих
произведений: прямо из букв возникали фигуры людей с их речами и
жестами: «В этом был скрыт непостижимый фокус, и, — я не
выдумываю, — несколько раз, машинально и как дикарь, я
рассматривал страницы на свет, точно пытаясь найти между строк
разгадку фокуса».
Тургенев же замечает: «Меня чрезвычайно занимал вопрос и
вызывал на размышления, что значит прочитать сначала начерно и
каково отлично чтение набело, велегласное».
Эти совершенно различные пути приобщения к искусству слова —
не просто результат случайного своеобразия индивидуальной судьбы
двух людей. В этом различии выражается различие двух
специфических эпох словесного искусства, — хотя между описанными
Тургеневым и Горьким событиями и лежит всего каких-нибудь
полстолетия. Ведь наставник Тургенева воспитан поэтической
обстановкой конца XVIII — начала XIX века. Перелом же происходит
лишь в 1830-х годах, когда в России устанавливается литература как
таковая.
Все это имеет самое непосредственное отношение к проблеме
романа. Ибо роман и есть основной и едва ли не самый ранний жанр
литературы. Даже новелла Возрождения еще связана теснейшим
образом с четным исполнением. Роман же создается именно для
чтения. Не случайно Ралф Фокс говорил в своей книге: «Роман...
является... созданием прежде всего печатного станка»
1
. Правда, это
сказано, пожалуй, не вполне точно. Печатный станок был скорее
необходимым условием создания романа, но едва ли можно сказать, что
роман создан самим открытием книгопечатания. Технические
изобретения всегда выступают лишь как средство искусства;
содержание дает развивающаяся человеческая действительность в ее
целостности. И очень характерно, что роман как тако-
1
Ралф Фокс. Роман и народ. Л., Гослитиздат, 1939.
358
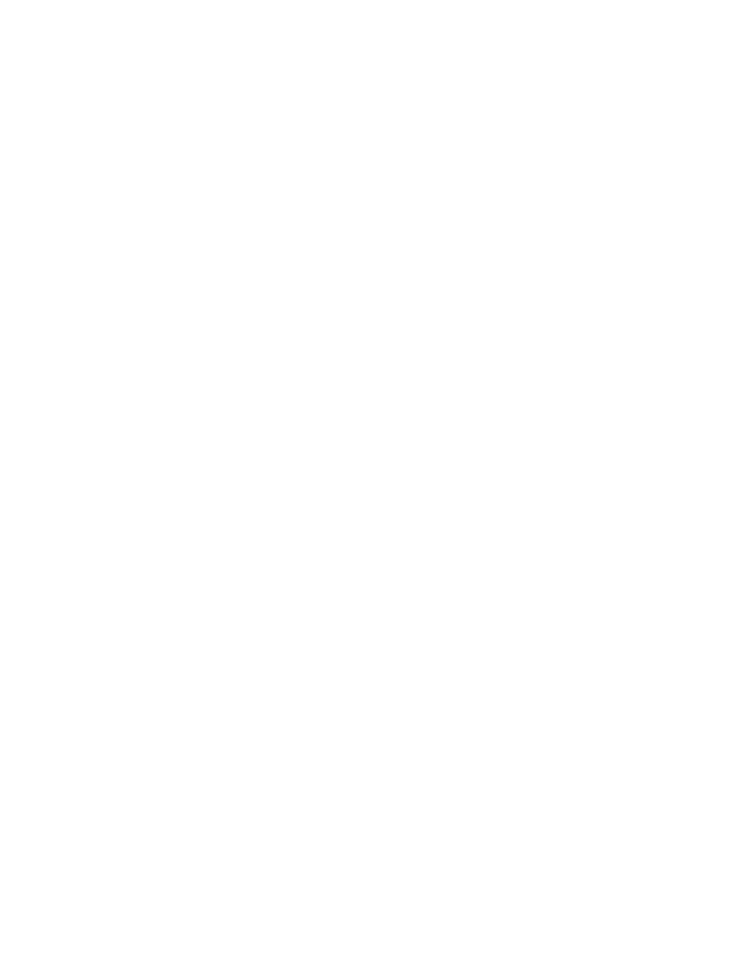
вой — этот принципиально «печатный» жанр, для которого массовая
книга становится неотъемлемой формой существования и развития, —
складывается примерно на столетие позднее появления первых
специально предназначенных для печати произведений — «рыцарских
романов».
Как уже говорилось, рыцарские повести становятся массовой
печатной книгой в 20 — 30-х годах XVI века, в Испании, где выступает
первый «литературный делец» Фелисьяно де Сильва. В течение XVI
века было издано очень большими по тому времени тиражами около
120 рыцарских книг, «libros de cavallerias», которые читала вся
Испания
1
. Это были едва ли не первые собственно литературные
произведения, предназначенные именно для читателей. Однако высшие
образцы ренессансного рыцарского эпоса представлены все же в
поэмах Ариосто, Тассо, Спенсера, отчасти даже Камоэнса и Эрсильи —
произведениях, сохранявших поэтический характер, рассчитанных еще
на слушателя. Прозаическая и печатная, обращенная к читателю форма
была, если так можно выразиться, не адекватной для героического
рыцарского жанра, для этого «высокого» эпоса.
Имеет смысл сопоставить историю становления романа с историей
киноискусства. Рождение последнего произошло лишь через 25 — 30
лет после изобретения кинотехники. И вначале новую технику
пытаются использовать для «репродуцирования» театра, пантомимы,
циркового искусства. Первые образцы киноискусства органически
возникают в результате сложных метаморфоз, совершающихся на
экране с мелодрамой (у Дэвида Гриффита) и клоунадой (у Чарли
Чаплина). Но думается все же, что подлинное рождение кино
произошло лишь в творчестве Эйзенштейна и его современников (то
есть в середине 1920-х годов), когда новое искусство полностью
преодолело свой «репродукционный» характер, стало осваивать мир
совершенно самостоятельно.
Точно так же прозаические рыцарские книги были
1
См. К. Н. Державин. Сервантес, стр. 173.
359

своего рода печатными «репродукциями» поэтического эпоса, которые
в большей степени деформировали уже сложившийся вид словесного
искусства, чем создавали нечто новое. Массовая печатная книга могла и
даже с необходимостью должна была оформить качественно новый
жанр романа, установившийся лишь к XVIII веку.
Соотношение романа и поэзии во многом аналогично соотношению
киноискусства и театра. Роман уже не воспринимается
непосредственно чувственно — как слышимая, произносимая живым
голосом (часто даже в музыкальном сопровождении) поэзия —
средневековые chansons de geste, поэма Данте, терцины которой
распевают на улицах, передаваемые из уст в уста фацетии, фабльо,
шванки, сцены «Романа о Лисе», баллады и романсы. Чувственно
воспринимаются в романе только равнодушные печатные строки, в
которых нет очевидного ритма, звуковых повторов, рифм и ассонансов.
Но зато роман обращен к массам людей, живущих в любом уголке
мира.
(Так же и кино, теряя, в сравнении с театром, эффект
непосредственного восприятия живых людей, объемной глубины
пространства, очевидной реальности цвета и звука, обретает вместе с
тем свою массовость и «многократность».)
Однако важнее для нас другое. Роман в силу самого своего
прозаического (во всех разносторонних смыслах) существа отнюдь не
деформируется, не ослабляется в облике печатной, обращенной к
читателям книги. Для поэзии как таковой книга действительно есть
своего рода «репродукция» (как кинофильм, зафиксировавший
театральный спектакль). Произведение поэзии должно исполняться
перед кругом слушателей — подчас даже с музыкой. Оно в самом деле
что-то (иногда очень многое) теряет при простом чтении книги; оно
рассчитано на другое, оно создано для живого звучащего бытия. Еще в
поэтике Буало искусство слова трактуется как всецело звучащее,
слышимое. Совершенство чувственно воспринимаемой материи
произведения предстает как задача первостепенной важности:
360
