Кони А.Ф. Избранные труды и речи
Подождите немного. Документ загружается.


точки зрения, но понятным и объяснимым с этических позиций. Отстраненные в
силу закона от решения вопросов о применении уголовного права присяжные
выносили оправдательные приговоры, когда считали справедливым и
милосердным освободить виновного от сурового наказания. В таких случаях, как
отмечал А. Ф. Кони, наделенные нравственным чувством присяжные кладут на
одну чашу весов тяжесть содеянного, а на другую - душевные и физические
страдания, материальную нужду, которые толкнули подсудимого на
преступление; пребывание под стражей, подчас чрезвычайно длительное, до
суда. Присяжные также не могли отрешиться от представления о
развращающем воздействии мест, где осужденные отбывают наказание. В
качестве примера А. Ф. Кони приводил оправдательный приговор по делу
семнадцатилетнего безработного, застигнутого с поличным при взломе шкафа с
провизией, или дело юного "бомбиста", исключенного из училища за невзнос
платы и упавшего от голодного обморока в доме, куда пришел грозить свертком
газетной бумаги в виде бомбы. В таких ситуациях у присяжных складывается
убеждение, что подсудимый своими страданиями уже искупил содеянное.
Оправдательный приговор мог выражать и осуждение незаконных,
безнравственных действий потерпевшего, которые и побудили обвиняемого к
насилию, как это было с В. Засулич.
Наряду с этим отмечалась особая склонность присяжных заседателей
выносить оправдательные приговоры по делам о преступлениях против порядка
управления, в которых потерпевшим выступает не живое конкретное лицо, а
совокупность чиновничьих предписаний. Так, 62 процента общего числа
оправдательных приговоров пришлось на дела о нарушениях паспортной
системы. Эта система, созданная исключительно в полицейско-розыскных
целях, опутывала цепями ищущих заработка безземельных крестьян,
препятстсвовала свободному обращению рабочей силы в стране, затрагивая
таким образом и интересы предпринимателей.
С цифрами в руках А. Ф. Кони показал неосновательность мнения, будто
суд присяжных не осуществляет репрессивую политику, систематически
оставляет безнаказанными преступников. Так, если на протяжении ряда лет
обвинительные приговоры окружного суда, вынесенные без присяжных,
составляли 74,5 процента к общему числу приговоров, а обвинительные
приговоры Судебной палаты с участием сословных представителей - 68
процентов, то соответствующий показатель суда присяжных составил лишь
немногим меньше - 65 процентов. И это при том, что присяжным приходилось
рассматривать наиболее сложные и спорные дела *(44).
А. Ф. Кони констатировал и ошибочные решения, иногда принимаемые
присяжными заседателями. Но причины этих ошибок он видел не в
демократических началах деятельности суда присяжных, а в привходящих
обстоятельствах. Опираясь на конкретные факты, А. Ф. Кони отмечал
неудовлетворительный состав, небрежность работы комиссий, изготовляющих
общие списки присяжных заседателей (в списки часто включали лиц, уже
умерших и престарелых, по возрасту не подлежащих вызову в качестве
присяжных, и др.); прекращение выплаты пособий присяжным из крестьян как
компенсации за отвлечение от хозяйственных занятий; безнаказанность
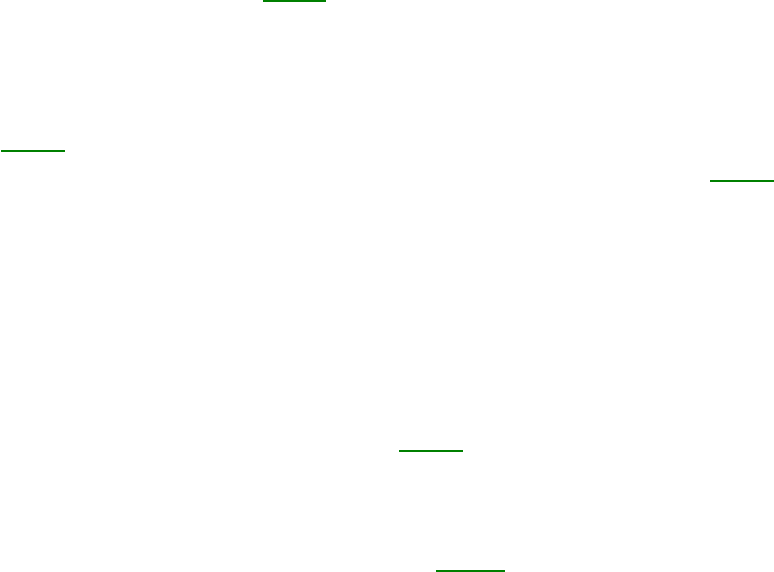
уклонения чиновников и дворян от обязанностей присяжного; формализм в
принесении присяги; не всегда удовлетворительное руководство судебным
процессом со стороны председателя; недостаточная подчас культура судебных
прений.
В то же время А. Ф. Кони опровергал несправедливые упреки суду
присяжных заседателей. Так, утверждениям об их пассивности, малой
самодеятельности он противопоставляет факты, когда после несогласия
коронных судей с обвинительным вердиктом присяжных дело передавалось в
новый состав присяжных, и те снова вопреки мнению коронных судей
подтверждали решение о виновности. Рассматривая десятки тысяч дел,
присяжные проявляли способность установить истину, нередко при крайне
сложных, запутанных обстоятельствах.
Милосердие же, побуждавшее присяжных оправдывать подсудимого,
когда, несомненно, содеянное им преступление вызвано острой нуждой или
бесчеловечностью потерпевшего,- в глазах А. Ф. Кони являлось более высоким
благом, нежели механическое следование букве закона.
А. Ф. Кони не раз отмечал важную роль суда в правовом воспитании
присяжных - представителей народных масс: "Люди, оторванные на время от
своих обыденных и часто совершенно бесцветных занятий и соединенные у
одного общего, глубокого по назначению и по налагаемой им нравственной
ответственности дела, уносят с собой, растекаясь по своим уголкам, не только
возвышающее сознание исполненного долга общественного служения, но и
облагораживающее воспоминание о внимательном отношении к людям и о
достойном обращении с ними" *(45).
В оправдательных приговорах при бесспорной доказанности обвинения
по делам, затрагивающим интересы самодержавного государства, подобно делу
В. Засулич, А. Ф. Кони находил "драгоценное для политика указание - указание
на глубокое общественное недовольство правительством и равнодушие к его
судьбам" *(46). С сожалением А. Ф. Кони отмечал, что "именно на эту-то сторону
- то близоруко, то умышленно - не обращалось никакого внимания" *(47).
В иных делах присяжные оправдывали подсудимого, выявив причины и
условия, которые способствовали совершению преступления. Так, по делу
восемнадцатилетнего письмоносца Алексеева, обвинявшегося в утрате части
вверенной ему корреспонденции, просидевшего восемь месяцев под стражей,
присяжные вынесли оправдательный приговор ввиду того, что Алексеев
физически не в силах был доставить массу писем, приходившуюся на его долю.
Опубликованный вслед за слушанием дела отчет о деятельности петербургских
письмоносцев показал, что нагрузка каждого из них за последние три года
возросла в среднем почти в полтора раза *(48).
Большое значение придавал А. Ф. Кони решениям суда присяжных как
показателям "для законодателя, не замыкающегося в канцелярском
самодовольстве, а чутко прислушивающегося к общественным потребностям и к
требованиям народного правового чувства" *(49). Но где было взяться такому
законодателю? Единственный позитивный пример, который смог привести А. Ф.
Кони, касался упомянутых уже паспортных дел, по которым присяжные
оправдывали подсудимых в двух случаях из трех, отвергая, по существу, закон.

Но реакция правительства была лукавой: уголовная ответственность за
нарушения паспортной системы была не отменена, но снижена, и в результате,
дела об этих нарушениях, перейдя в ведение других судов, стали неподсудны
присяжным. Однако в результате - и то благо - тяжесть уголовной репрессии
уменьшилась *(50).
Участие в рассмотрении дела из двенадцати заседателей, конечно,
увеличивало, материальные издержки. Но они, по мнению А. Ф. Кони, вполне
окупались преимуществом этой формы правосудия. "Дешевый суд дорого стоит
народу" - эти мудрые слова И. Бентама не раз напоминал А. Ф. Кони.
В 1894 г. началось новое наступление на "суд улицы". Министр юстиции
Н. В. Муравьев в очередном "всеподданнейшем докладе" предложил царю
упразднить основные либерально-демократические институты Реформы 1864 г.,
прежде всего суд присяжных. Для рассмотрения этих предложений была
образована комиссия, которую сам Муравьев и возглавил. Членом комиссии был
назначен А. Ф. Кони, к тому времени уже обер-прокурор уголовно-кассационного
департамента Сената и сенатор.
В рамках работы этой комиссии было проведено под руководством А. Ф.
Кони совещание старших председателей и прокуроров судебных палат. А. Ф.
Кони произнес убедительную речь в защиту суда присяжных. Большиство
участников совещания (18 из 20) проголосовало за сохранение этого суда. Свою
позицию А. Ф. Кони последовательно отстаивал в заседаниях комиссии на
протяжении пяти лет ее деятельности, а также в печати. В составе самой
комиссии, тенденциозно подобранной Муравьевым, А. Ф. Кони неоднократно
оказывался в меньшинстве, представляя мотивированные особые мнения. В
конечном счете предложения упразднить суд присяжных так и не воплотились в
закон.
Крупный советский ученый профессор И. Д. Перлов писал, что А. Ф. Кони
"решительно отбивал все атаки на суд присяжных" *(51). Я бы сказал: вел
тяжелые арьергардные бои, страдая от потерь, теряя соратников, в невероятно
трудных условиях спасал то, что можно было спасти. И благодаря этому
институт присяжных заседателей, пусть урезанный, истерзанный, пережил,
однако, и царского министра Муравьева, и царский режим.
Опубликованным 24 ноября 1917 г. первым Декретом Советской власти о
суде все судебные учреждения прежних режимов упразднялись. Пункт 8
Декрета предусматривал: "Для борьбы против контрреволюционных сил в видах
принятия мер ограждения от них революции и ее завоеваний, а равно для
решения дел о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими
злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и пр. лиц,
учреждаются рабочие и крестьянские революционные трибуналы, в составе
одного председателя и шести очередных заседателей, избираемых губернскими
или городскими Советами Р., С. и Кр. депутатов" *(52). Вскоре, 19 декабря 1917
г., Народный комиссариат юстиции издал инструкцию по применению Декрета. В
ней, в частности, разъяснялось, что заседатели избираются на один месяц из
общего списка заседателей путем жеребьевки. В Декрете о суде N 2 от 7 марта
1918 г. институт заседателей в советском уголовном процессе получил
дальнейшее развитие. В нем предусматривалось участие в судебном

разбирательстве по уголовному делу двенадцати заседателей под
председательством одного из постоянных членов суда. Председательствующий
участвовал в совещании заседателей, но лишь с правом совещательного голоса
*(53) (заметим попутно, что в пользу предоставления председательствующему
права давать разъяснения заседателям в ходе их совещания неоднократно
высказывался А. Ф. Кони).
В наше время, когда процесс углубления демократии побуждает к поиску
новых форм государственной и общественной деятельности, полезно вспомнить
о борьбе мнений вокруг суда присяжных заседателей, доводы "за" и "против" в
этой борьбе.
На вершине уголовной юстиции
А. Ф. Кони руководил гражданским департаментом Судебной палаты
более трех лет, когда о нем вспомнили, чтобы назначить обер-прокурором
уголовного кассационного департамента Сената. В дореволюционной России
Сенат был высшим судебным органом, осуществляющим надзор за
деятельностью всех судебных учреждений. В нем рассматривались
кассационные жалобы и протесты на приговоры окружных судов и судебных
палат. В качестве суда первой инстанции Сенат мог рассматривать дела
высших сановников. Из состава Сената формировались особые присутствия для
рассмотрения политических дел. Свое согласие на службу в Сенате А. Ф. Кони
оговорил тем, что его не будут использовать в таких делах. Обер-прокурор
Сената давал заключения об оставлении в силе или об отмене приговоров, на
которые принесены жалобы или протесты. Таким образом, А. Ф. Кони была
предложена одна из высших, если не высшая должность в системе уголовной
юстиции.
Последовали возражения, внушительные и решительные. К. П.
Победоносцев писал царю: "Назначение это произвело бы неприятное
впечатление, ибо всем памятно дело Веры Засулич, а в этом деле Кони был
председателем и выказал крайнее бессилие, а на должности обер-прокурора
кассационного департамента у него будут главные пружины уголовного суда в
России".
Александр III оправдывался перед своим временщиком: "Я протестовал
против этого назначения, но Набоков уверяет, что Кони на теперешнем месте
несменяем, тогда как обер-прокурором при первой же неловкости или
недобросовестности может быть удален со своего места" *(54).
Сам А. Ф. Кони принял новое назначение охотно. От рутинной,
однообразной практики гражданского суда предстояло вернуться к живому
слову, к борьбе за справедливость на самом остром и ответственном
направлении. Обер-прокурором, а затем и сенатором А. Ф. Кони прослужил в
уголовном кассационном департаменте шестнадцать лет - с февраля 1885 по
1900 гг.
Многие дела, рассмотренные в Сенате с участием А. Ф. Кони, вошли в
летопись российского судопроизводства. Одно из них - дело Василия

Протопопова, земского начальника Харьковского уезда, кандидата прав. По
Закону 12 июля 1889 г. мировые суды в сельской местности упразднялись, и их
функции были возложены на земских начальников, возглавлявших полицейскую
службу. А. Ф. Кони не раз критиковал этот закон, указывая, что соединение в
одних руках полицейской службы и суда ведет к произволу. Его прогноз
подтверждался повсеместно. Но случай с Протопоповым превзошел самые
мрачные ожидания. Видимо, это был крайне распущенный агрессивный
психопат. Знакомство с подчиненными после вступления в должность он начал
угрозами "бить морды городовым, если они не будут отдавать ему честь". Затем
он незаконно арестовал и избил нескольких крестьян, объявил на сельском
сходе, чтобы к нему ни с чем не обращались, предупредив, что иначе "жалобы
будут на морде, а прошение на задней части тела". Крестьяне решили, что
возвращается крепостное право. Начались волнения. На подавление их были
брошены войска. Среди участников волнений произведены аресты.
Четырнадцать крестьян осуждены к лишению свободы. Только после этого совет
Министерства внутренних дел постановил предать Протопопова суду.
Харьковская судебная палата приговорила его к увольнению от должности. Но и
этот предельно снисходительный приговор Протопопов обжаловал в Сенате. Он
писал, что приговор разрушает его служебную карьеру, ссылался на молодость
и неопытность.
В своем заключении А. Ф. Кони показал фактическую и юридическую
обоснованность приговора, не оставив тени сомнений в том, что обладатель
звания кандидата прав в действительности оказался "кандидатом бесправия"
*(55). Это было первое дело о должностных преступлениях земского
начальника. Оно привлекло внимание общественности, вызвало отклики в
печати. Комментарии прогрессивных журналистов выходили за рамки данного
процесса. В деле Протопопова видели закономерный результат антинародной
политики администрации. Министерство внутренних дел сделало свои выводы:
ни одного дела против земского начальника после этого уже возбуждено не
было.
Историческое значение имело и дело о так называемом мултанском
жертвоприношении. Одиннадцать крестьян села Старый Мултан, удмуртов по
национальности, были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в
убийстве с целью жертвоприношения языческим богам. Полиция, используя
фальсификацию доказательств, пытки, добилась признаний, от которых
обвиняемые затем отказались. Один из них во время расследования умер.
Большое участие в этом деле принял писатель В. Г. Короленко. Он пригласил в
качестве защитника выдающегося адвоката Н. П. Карабчевского, обратился за
разъяснением к ученым этнографам и медикам.
Суд, первый раз рассматривавший дело, троих подсудимых оправдал и
семерых признал виновными. Обвинительный приговор был отменен. При
повторном рассмотрении дела те же семеро вновь были осуждены. И опять по
жалобам защитников дело слушалось в Сенате. Ситуация осложнилась
вмешательством Победоносцева. Виновны или невиновны арестованные - его
не интересовало. Но осуждение их казалось Победоносцеву очередным
торжеством православия над язычниками и он нажимал на все рычаги, чтобы
обвинительный приговор остался в силе. На Победоносцева оглядывался и
министр юстиции. Но А. Ф. Кони действовал без оглядок. Он скрупулезно
проверил дело и выявил ряд допущенных судом серьезных процессуальных
нарушений. Эти нарушения имели общую тенденцию: все они препятствовали
выявлению оправдывающих обстоятельств. Особое внимание сенаторов А. Ф.
Кони обратил на то, что сам факт существования у удмуртов обычая
человеческих жертвоприношений, оспариваемый этнографами и другими
учеными, не получил в материалах дела достоверного подтверждения.
Констатация же такого обычая авторитетным приговором суда означала бы
создание опасного прецедента. Склонив большинство Сената к повторной
отмене приговора, А. Ф. Кони не только оградил подсудимых от незаконного
наказания, но и защитил малую притесняемую народность от домыслов,
приписывающих ей ужасные кровавые обычаи. Дело в третий раз было
рассмотрено судом первой инстанции, который оправдал всех подсудимых.
Одним из проявлений общего кризиса самодержания являлось падение
престижа и влияния государственной православной церкви. Множились и росли
разнообразные секты; учащались случаи высказываний и действий,
подрывающих авторитет церкви и религии; крестьяне прибалтийских губерний,
насильственно обращенные в православие или добровольно в него вступившие,
чтобы избавиться от духовного гнета своих протестантских пасторов,
разочаровывались и возвращались к прежнему вероисповеданию.
Правительство реагировало на это полицейско-судебными
преследованиями. Участились уголовные дела о принадлежности к "вредным"
сектам, об отпадении от православия, о "совращении в ересь", о кощунстве,
богохульстве и пр.
Убежденный сторонник принципов свободы совести и веротерпимости, А.
Ф. Кони всеми силами противился этим преследованиям. В своих заключениях
по делам о преступлениях против церкви и православной веры он настаивал на
отмене обвинительных приговоров и оставлении в силе приговоров
оправдательных. Где невозможно было добиться полного прекращения дела, он
предлагал изменить квалификацию преступления, чтобы значительно смягчить
наказание. В делах, по службе ему недоступных, А. Ф. Кони использовал свои
связи, чтобы добиться оправдания или смягчения участи осужденных. Эти дела
часто затрагивались в переписке А. Ф. Кони с Л. Н. Толстым, к которому
стекались жалобы со всей Руси.
Так, 5 апреля 1900 г. Кони сообщал: "Я уже писал Вам по делу Ерасова
(крестьянина, осужденного за богохульство. Л. Н. Толстой просил помочь ему.-
А. Л.). Ничего нельзя было сделать. Чаще и чаще приходится мне терпеть
поражение по такого рода делам. Иногда приходишь домой из заседания совсем
с измученным сердцем - и редки случаи радости по поводу спасения какого-
нибудь несчастливца. На днях, впрочем, удалось мне добиться кассации двух
возмутительных дел. Пастор был приговорен к исключению из службы за то, что
допустил к исповеди и причастию девушку, крещенную в лютеранство
родителями, насильственно записанными в православие... Сенат оправдал
пастора, прекратив дело о нем. По другому делу был осужден раскольник,
выбивший кадушку с водою из рук священника, пришедшего с полицией и

понятыми насильственно крестить его внука, несмотря на протесты и плач
лежавшей в постели родительницы. Мы отменили предание суду. А сколько
таких дел не доходит до Сената!" *(56). В другой раз он мог порадовать Л. Н.
Толстого чем-то достигнутым по его просьбам: "По делу старика Кирюхина есть
надежда на исполнение его ходатайства о возвращении его в Томскую
губернию... По делу Чичерина (о богохулении, о распространении раскола)
состоялось определение уголовного кассационного департамента, которым
усмотрены признаки кощунства, наказываемого гораздо слабее. Дело для
нового приговора возвращено в суд" *(57).
В некоторых случаях действия А. Ф. Кони в этом направлении поражают
своим бесстрашием. В конце прошлого века в Прибалтике царские чиновники-
руссификаторы в союзе с православными церковниками развернули кампанию
против протестантских пасторов. Им предъявлялось обвинение в "совращении в
инославие", предусмотренном статьей 187 Уложения о наказаниях и влекущем
ссылку в Сибирь с лишением всех прав состояния. "Преступления" этих
священников заключались в том, что они по просьбе родителей, обманным
путем обращенных из протестантства в православие, допускали их детей к
конформации и причастию по протестантским обрядам. Первым по такому
обвинению был осужден Рижским окружным судом престарелый пастор Гримм.
Его дело было пробным шаром, за которым должны были последовать еще 55
подобных дел. В порядке апелляции дело Гримма рассматривала
Петербургская судебная палата. Член Палаты Н. А. Булатов, посоветовавшись с
А. Ф. Кони, убедил Судебную палату признать действия Гримма подпадающими
под статью 193 Уложения. Разница была громадная. Статья 193
предусматривала за первый случай временное удаление от места службы, а за
второй - лишение сана и отдачу под надзор полиции. Но на это решение
прокурор Судебной палаты А. М. Кузминский принес протест в Сенат. А. Ф. Кони
был ознакомлен с отчетом лифляндского генерал-губернатора Зиновьева,
который, между прочим, сожалел, что столь важный для ограждения в крае
интересов православной церкви приговор окружного суда по делу пастора
Гримма отменен Судебной палатой, и выражал надежду на отмену этого
решения Сенатом по протесту Кузминского. И за этим последуют другие
приговоры по аналогичным делам. Против этого места в отчете царь синим
карандашом написал: "И я надеюсь обратить на это дело особое внимание
министра юстиции".
А. Ф. Кони направил министру юстиции Н. А. Манасеину письмо, в
котором юридически обосновал правильность решения Судебной палаты. Он
также указал на неизбежные политические последствия превращения пасторов
в мучеников за веру, напомнив, что такие преследования обращают все
симпатии местного населения к преследуемым, а негодование совестливых
людей - к правительству. При этом А. Ф. Кони предупредил, что, несмотря на
резолюцию царя, не даст иного заключения, как об отклонении протеста.
На следующий день А. Ф. Кони был вызван к министру. На вопрос, что
делать, Кони напомнил, что министр вправе поручить дачу заключения по делу
Гримма обер-прокурору общего собрания сенаторов. Дальнейшее течение
разговора Кони описывает следующим образом:
- Да ведь это значит вас обидеть и подорвать ваш авторитет перед
Сенатом,- воскликнул Манасеин.- Вы, пожалуй, после этого не захотите
оставаться обер-прокурором?
- Вероятно,- сказал я.- Но это- единственное средство исполнить волю
государя.
- Нет, нет, я на это не пойду,- нервно сказал Манасеин,- но помогите,
придумайте, что сделать!
- Доложите государю мое письмо.
Манасеин принял этот совет. Но получилось так, что в Гатчину на доклад
к царю он смог попасть только в тот день и почти в те же часы, когда А. Ф. Кони
выступал со своим заключением по делу Гримма в Сенате. После бурного
обсуждения большинство сенаторов стало на точку зрения А. Ф. Кони. А тем
временем в Гатчине царь ознакомился с письмом А. Ф. Кони и согласился,
чтобы дело Гримма было разрешено по закону. Так что на этот раз обошлось...
По должности обер-прокурора кассационного департамента Сената А. Ф.
Кони обычно не занимался надзором за предварительным следствием. Однако
когда 18 октября 1888 г. произошло крушение царского поезда в Борках,
руководство расследованием было возложено на него. И здесь, неустанно
стремясь к истине, пренебрегая какими-либо иными целями, кроме обеспечения
законности, А. Ф. Кони не упустил случая нажить влиятельных врагов. Он
сделал вывод, что главными виновниками катастрофы были министр путей
сообщения Е. Н. Посьет, главный инспектор железных дорог Российской
Империи К. Г. Шернваль и другие крупные железнодорожные чиновники, а также
члены правления акционерного общества, владевшего железной дорогой. Царь
помиловал виновных. Но число недругов в придворной среде у А. Ф. Кони от
этого не убавилось.
Вскоре после избрания в 1900 г. А. Ф. Кони Почетным членом Академии
наук он оставил судебную деятельность. И хотя Кони продолжал
государственную службу сенатором в общем собрании Сената, а с 1907 г. также
членом Государственного совета, он получил возможность уделять больше
времени научно-литературной, а также общественной деятельности. В этот
период выходят в свет новые издания "Судебных речей", сборник материалов о
жизни и деятельности прогрессивных российских юристов "Отцы и дети
судебной реформы", первые тома собрания сочинений "На жизненном пути",
комментированный Устав уголовного судопроизводства. Своими трудами А. Ф.
Кони закладывает основы отечественной судебной психологии. Одним из
первых он обратился к психологической природе следственных и судебных
ошибок, к памяти и вниманию как факторам формирования свидетельских
показаний. Особо значительны разработки А. Ф. Кони в сфере судебной этики.
Выстраданные многолетней судебно-прокурорской работой его положения о
нравственных основах судопроизводства и - шире - уголовной политики во
многом сохраняют теоретическое и практическое значение в наши дни. К этому
направлению примыкает и историко-биографический очерк А. Ф. Кони о великом
человеколюбце XIX в. московском тюремном враче Федоре Петровиче Гаазе.
Кроме того, А. Ф. Кони преподает уголовное судопроизводство в
Александровском лицее и читает курс публичных лекций в Петербургском

народном университете (Тенишевских курсах). Не прекращалось активное
участие в законопроектной работе Государственного совета, где А. Ф. Кони
энергично, хотя часто безуспешно, отстаивал гуманные и демократические
предложения. Он выступал за распространение условного досрочного
освобождения на политических заключенных, за предоставление женщинам
равных прав с мужчинами на получение наследства, на занятие адвокатурой и
др.
* * *
После Октябрьской революции А. Ф. Кони остался вне государственной
службы. Он был стар. Принять новый общественный строй с невиданным
доселе политическим режимом, приспособиться к скудному, нередко голодному,
холодному быту в разоренной стране было трудно. Его звали за рубеж под
предлогом лечения, в котором он действительно нуждался. И власти не
препятствовали выезду. А. Ф. Кони, однако, отклонил эти приглашения и остался
на родине.
С энтузиазмом писал А. Ф. Кони Н. Н. Полянскому в сентябре 1919 г. о
своей педагогической деятельности: "Последней и я отдался всемерно. Читаю в
Институте живого слова (очень интересное и своеобразное учреждение) курс
"прикладной этики" и курс "истории и теории искусства речи" (6 лекций в
неделю); в Университете - "уголовное судопроизводство" (4 лекции в неделю),
или, по новой терминологии, "судебную деятельность государства"; в
"Железнодорожном университете" (есть и такой) - 2 лекции "этики общежития";
кроме того, читаю серию лекций... в Музее города и выступаю иногда публично с
благотворительными целями. Так, еще вчера читал я, в пользу бедствующих
писателей, о Достоевском. Наконец, в Институте живого слова по воскресным
дням я устраиваю практические занятия в ораторских упражнениях по судебным
и политическим вопросам, причем обнаруживаются недюжинные молодые
таланты. Меня эти занятия очень увлекают, а отношение ко мне молодежи
очень трогает.
И какая страшная ирония судьбы: 54 года назад я был оставлен
Московским университетом по кафедре уголовного права. Обстоятельства
заставили уйти с этой дороги и прослужить, трудно и настойчиво, не сходя с
судейского пути, 53 года - и вот судьба меня возвращает на кафедру!.. Трудно
предугадывать будущее, но профессура так меня захватила, что я даже не
хотел бы вернуться в судебную деятельность" *(58). И это - на восьмом десятке,
в годы гражданской войны и разрухи, в голодном и холодном Петрограде, да
еще с тяжелой хромотой - последствием давнего перелома ноги, когда
доводилось из конца в конец города плестись на костыльках.
Деятельность А. Ф. Кони в тот период была подлинным подвигом во имя
любви к своему народу. В январе 1924 г. Академия наук торжественным
заседанием отметила 80-летие А. Ф. Кони. В ознаменование этого события был
издан юбилейный сборник. И перешагнув в девятый десяток, А. Ф. Кони
неустанно продолжал литературную и просвещенческую деятельность: готовил
к публикации свои уникальные воспоминания, выступал с лекциями.

Весной 1927 г., читая лекцию в холодной, неотапливаемой аудитории, А.
Ф. Кони простудился и заболел воспалением легких. Вылечить его уже не
смогли. 17 сентября 1927 г. Анатолия Федоровича Кони не стало.
Труды А. Ф. Кони и сегодня служат делу укрепления законности, развития
правовой культуры, охраны прав личности.
А.WМ.WЛарин
Юридические статьи. Заметки. Сообщения
История развития уголовно-процессуального законодательства в России
*(59)
Законы о судопроизводстве уголовном, помимо своего значения как ряда
действующих правил об отправлении уголовного правосудия, имеют значение
историческое, политическое и этическое. Историческое - в смысле показателя
путей и степени развития народа к восприятию господствующих форм и обрядов
уголовного процесса и усвоению себе связанных с ними учреждений;
политическое - в смысле обеспечения личных прав и свободы и степени
ограничения самовластия органов правосудия и произвола в способах
отправления последнего; этическое - в смысле развития правосознания народа
и проникновения в процессуальные правила нравственных начал. С этих точек
зрения особенного внимания заслуживает та роль, которую играет в выработке
приговора внутреннее убеждение носителей судебной власти. Ближайшее
знакомство с историческим развитием процесса показывает, что, имея задачею
быть живым выразителем правосудия, судья не всегда, однако, принимал
одинаковое участие в исследовании истины и роль, которая отводилась его
внутреннему убеждению как основанию приговора, не была однородна в разные
исторические периоды. Народный суд гелиастов под председательством
архонта в Древней Греции, присяжные судьи (judices jurati) под руководством
претора в Риме до IV века до Р. Х. и франко-германский суд лучших людей,
созываемый вождем мархии, являются представителями чисто обвинительного
начала и решают судебный спор лишь по тем доказательствам, которые
представлены истцом - обвинителем и ответчиком - обвиняемым. К
доказательствам греческого и римского процессов - задержанию с поличным,
собственному признанию и показаниям свидетелей - эпоха leges barbarorum
*(60) присоединяет свои, выдвигая на первый план очистительную присягу
подсудимого и поручителей за него из свободного сословия, с заменою ее
ордалией, т. е. испытанием огнем, водою и железом. Феодальная система
передает суд в руки сеньора, патримониального владельца, по уполномочию
которого его заместитель (во Франции - бальи) судит обвиняемого при
сотрудничестве определенного числа равных последнему по званию людей.
Процесс остается тем же, но в числе доказательств преобладает судебный
поединок, получающий особенное развитие в XI и XII столетиях и почти
совершенно упраздняющий свидетельские показания. Так совершается
