Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры
Подождите немного. Документ загружается.


113
XX века, но и, главное, его музея. Такого типа музеи сегодня знакомы каждому: это очень
простое по архитектуре, пустое, стерильное пространство обязательно с белыми стенами.
Картины развешаны свободно, на большом расстоянии д^уг от друга, иногда по одной на стене,
скульптуры и объекты стоят в середине зала, окруженные достаточно большим свободным
пространством. Вещи равномерно освещены, обычно направленным или рассеянным неоновым
светом. В таком специализированном визуальном контексте даже обычные предметы легко
принять за произведения искусства: «Пожарный рука^ в современном музее выглядит не как по-
жарный рукав, а как эстетическая загадка» [Цит. по: Сотетрогагу сиИигек оГш'8р1ау.., 1999. С.
26].
Белый куб очень точно отражает тенденцию искусства к максимальной автономизации, а
художественного музея — к полной деконтекстуализа-ции искусства, он есть, в некотором
смысле предельная точка этой тенденции —-чистоеи абсолютное пространство,
предназначенное исключительно для презентации искусства, которую словно бы и не должно
нарушать вторжение человека. Человек, зритель в концепции белого куба представляет собой
«глаз вне телесной оболочки», «развоплощенный глаз» (термин Б. О'Дохерти).
Белый цвет постепенно стал основным, если не единственным, фоном в залах музеев
современного искусства, которое и создавалось преимущественно в расчете на пустое
пространство и белые стены музеев и галерей. Белая стена оказывается интегрированной в
произведение, которое ктому же обычно не имеет рамы. Роль белой стены в современном музее
вообще довольно амбивалентна: с одной стороны, ее присутствие вполне активно, она
подчеркивает существенные формальные качества экспонируемого искусства, с другой
стороны, она как бы полностью невидима, и эта ее невидимость выражает неприемлемость для
экспонатов любого контекста, кроме совершенно нейтрального.
В такой адекватности белого куба модернистскому искусству кроется причина повсеместного
успеха и неослабевающей популярности этого типа художественного музея. Будучи по чисто
визуальному проявлению абсолютно нейтральной музейной средой, он тем не менее, конечно,
определяет характер восприятия и понимания искусства. Стерильное, изолированное от
внешнего мира пространство белого куба как бы категорически утверждает, что искусство не
имеет ничего общего с суетой окружаюшеи жизни, оно принадлежит «универсальному и
вневременному царству Духа» [Випсап, 1978. С. 46]. Музейные залы такого типа—это
пространство для сосредоточенного, благоговейного созерцания, в них царит атмосфер
3
114
пкви, ку^
а
не
проникает хаос обычной, повседневной жизни. Алгоритм
„алия такой атмосферы точно и лаконично сформулировала Кэрол Дун-
«Чем более «эстетизируется» инсталляция, чем меньше на экспози-
объектов и чем более пусты стены, — тем более сакральным стано-
ится музейное пространство» [Оипсап, 1995. С, И],
Так, на новом витке развития культуры музей снова превращается в Храм. 5го естественный
процесс для новой культурной структуры, где при ослаблении роли религии функцию
ритуальности берет на себя искусство. Культурная форма «музей» оказалась способной отчасти
заместить форму религиозного ритуала, и это говорит о том, что такого рода функции имма-
нентно присущи ей по сути, о чем свидетельствуют и многие ее «доинсти-туцнональиые»
варианты, и ее первые институционализированные формы (музей-храм культуры романтизма).
Конечно, все культурные формы как «органы» культуры, подобно органам биологического
организма, способны тем или иным способом компенсировать функции ослабевшего или
утраченного органа. Так, функции той же самой сдавшей позиции религии в некотором смысле
перенимает наука — вспомним обожествление науки, сделавшее ее «новой религией», а
культурах позитивизма XIX века или сциентизма прошлого столетия. Однако науке как
культурной форме такого рода функции в сущности не свойствены, поэтому «новой религией»
наука могла стать только в идеологическом аспекте, но никак не в формально-структурном
плане культуры.
Вернемся к белому кубу. Вго пионером был Музей современного искусства в Нью-Йорке,
приобретший всемирную известность и огромный авторитет с конца 30-х годов, а особенно в
50-е годы. Примечательно, что установки его создателей, выразившиеся, в частности, в
архитектуре здания, были направлены вначале как раз на радикальный разрыв с храмоподобной
музейной архитектурой, по традиции господствовавшей в США до Второй мировойвойны:
отказ от церемониальной лестницы — вход прямо с улицы; никаких грандиозных колонн —
плоский чистый фасад на одной линии с Другими зданиями. Архитектура этого музея вообще

была близка образу игантского универмага. Тем не менее МОМА (Мивешп оГМоаегп Аи) все-
^ки стал музеем-храмом, не на чисто внешнем уровне давно выхолощен-
1Г
°, формального
архитектурного образа, а на глубинном функциональ-
м
Уровне ошйшснля «искусства — музея
— человека».
Б. Демократизация культурной формы «музей» во второй половине
XX века
Против «буржуазного эскапизма»
В контексте культурного и политического радикализма конца 60-х-на-чала 70-х 1ОДОВ музеи
белого куба и, в частности, МОМА были подвергнуты резкой критике за их отрыв от реальности
и «буржуазный эскапизм». Политизация искусства, выдвинутые леворадикалами требования
возвращения искусства к проблемам реальной жизни, разоблачение идеологического, то есть
«буржуазного» характера музея, когорый обслуживал вкусы социальной и культурной элиты,
присели к тому, что музеи озаботились «воссоединением с настоящей жизнью» и соответствием
истинным интересам массовою посетителя.
Такого рода попытки были предприняты в разных нацравлениях. Во-первых, музеи стали
активно выставлять политически ангажированное концептуальное искусство, а также новое
тогда искусство американскою поп-арта и европейского «новот реализма», работающего с
элементами повседневной реальности и даже ее огбросами и аппропрпирующего образный
резервуар рекламы, масс-медиа и ион-культуры. Во-вторых, были приложены усилия к тому,
чтобы изменить отношения со зрителем — ярким примером может служить выставка «Дилаби»
(Динамический лабиринт) 1962 года в музее Стеделийк-музее в Амстердаме. Эта выставка была
не только пересмофом взаимоотношений художника и музея, но, кшвное, попыталась
превратить посетителя из дистанцированного наблюдателя в активного участника. Художникам,
среди которых были такие известные персонажи., как Роберт Раушенберг, Жан Тэнгели, Ники
де Сен Фа ль и другие, была предоставлена полная свобода в создании музейной среды,
которую они сконструировали большей частью из мусора, выброшенного после демонтажа
выставки на помойку. Идея была в том, что посещение музея должно провоцировать, будить
мысль, вдохновлять и доставлять удовольствие и таким образом перекрывать ту самую пропасть
между искусством и повседневной жизнью. Вместо того, чтобы выражать великие идеи,
искусству предписывалось здесь создавать ощущение беззаботной игры, предоставляя
посетителю разнообразные иизушшшеитактнльныв стимулы. Складывалось впечатление почти
анархистского для музея удовольствия и снятия традиционных правил музейного поведения,
поскольку посетителя приглашали не только прикасаться к произведениям искусства, но и
манипулировать ими. «Дилаби» материализовала идею, которая
116
леделила траекторию развития музеи на два последующих десятилетия:
ю
0
восстановлении
связи между искусством и обществом. Тенденция к трансформации художественного музея в
более открытое демократическое учреждение нашла программное воплощение в Цеп-
е
кобур в
Париже ( 1 977 г). Расположенный в офомном здании футуристической архитектуры • — Бобур
представляет собой нечто гораздо большее, чем традиционный музей, — о чем говорит и его
полное название «Национальный Центр искусства и культуры имени Жоржа Помииду». Кроме
коллекции современного национального искусства и выставочных галерей, он включает в себя
публичную библиотеку, центр промышленного дизайна, несколько кинозалов и музыкальный
центр. Интеграция таких разнообразных культурных «точек» в прозрачном и динамичном
«контейнере» должна была, по замыслу его создателей, служить демократизации культуры,
снимая привычное разфаничение между «высоким» и «низким», Во многом Центр Помпиду
стал настоящим триумфом новой тенденции, превзойдя самые оптимистические ожидания
касательно его популярности у широкой публики. Но успех был чисто внешним, задача
«размывания границ» гак и не была решена: «Когда идешь по этому комплексу, предназ-
наченному для того, чтобы любой посетитель, даже тот, кто боится музеев, чувствовал себя
здесь как дома, то кажется, что страх перед культурой, о котором так много говорят, вдруг
превратился в свою противоположность, то есть в сплошное удовольствие и неразборчивое
потребление коктейля из живописи, скульптуры, интерьерного оформления, кафетерия, мест,
где малышей уговаривают порисовать, и проч.» [8р1ез, 1982. С. 130]. Другой критик Бобура,
Жан Бодрийяр, говорит о несоответствии экстерьера здания и его музейной начинки, о том, что
Центр Помпиду представляет собой способ укрощения мощной энергии политического акти-
визма 1 968 года, что под лозунгом демократизации культуры он просто подрывает ее
[ВаийпНап], 1982. С. 6]. Бодрийяр, вероятно, слишком кате-^ричен, однако в широкой
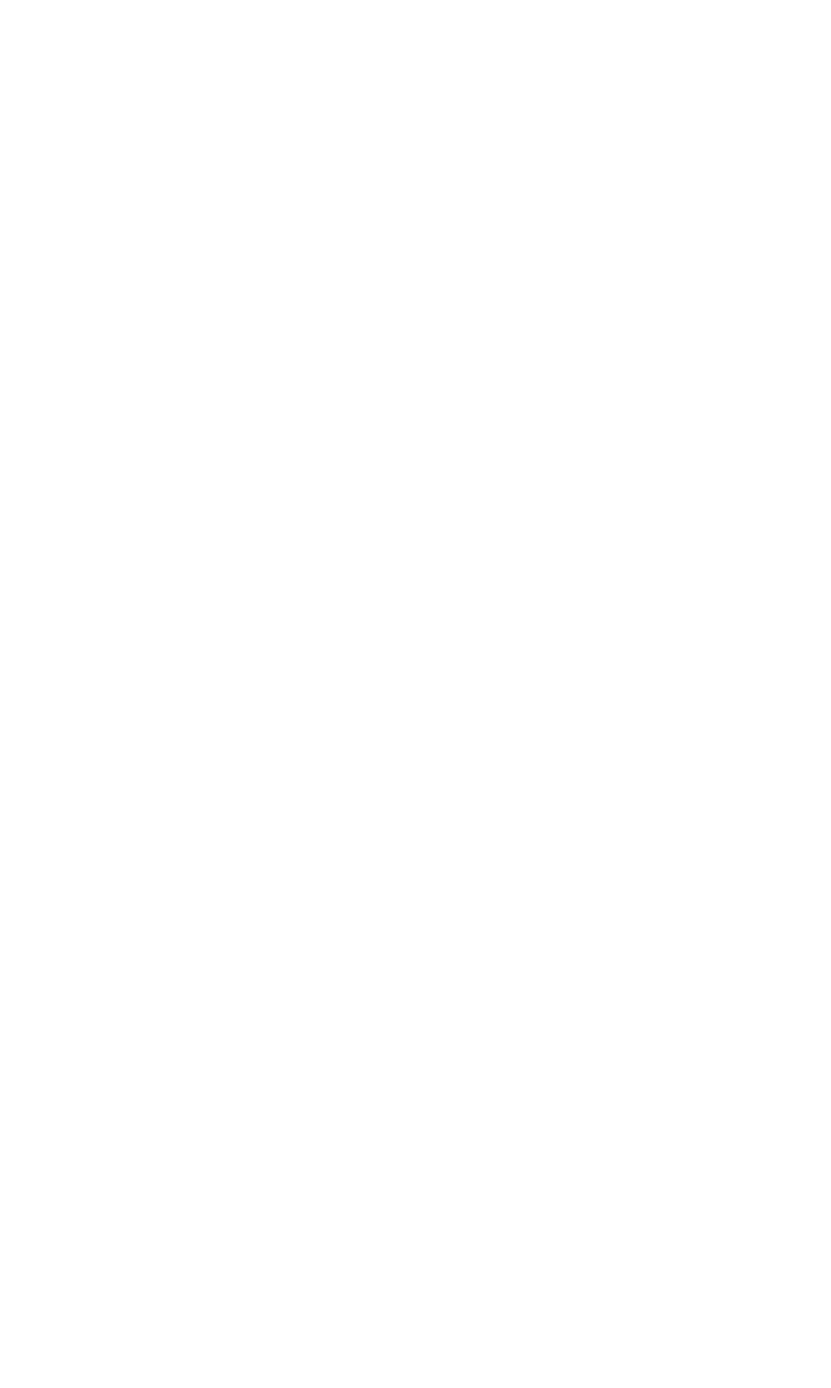
популярности Бобура нельзя не видеть указания на опасность движения искусства и культуры в
сторону «рынка» и «зре-инща». Что же касается основной воодушевляющей идеи этого проекта,
есть демократизации музейной публики, то она так и не была реалида-
а
'- как показывают
демографические и социологические исследования центре Помпиду, те, кто посещают
постоянную экспозицию и художй-'еннъш выставки, — в противоположность посетителям
других частей плекса. особенно тех, куда вход бесплатный, • — обладают тем же са-
1
^'рным и
социальным стстусом, что и посетители других, «обыч-
иальным стстусом, что и посетители > художественных музеев [Нешпсп, 1988. С. 199-212].
117
Новая идеология художественного музея, нашедшая свое наиболее яркое воплощение в
парижском Бобуре, была на самом деле нетак нова. Она появилась еще в конце 40-х—
начале 50-х годов вместе с нараставшей тогда демократизацией музейной аудитории, а
утвердилась в художественном музее действительно только в конце бО-х-70-х годах.
Демократическая идеология музея связана, в первую очередь, с необходимостью
приобщения к искусству все более широкой публики, когда остро встает задача ее
эстетического воспитан;^. Как оказалось, ни передача историке-художественных знаний в
«академических» экспозициях традиционного музея, логика которых оставалась для
рядового зрителя недоступной, ни попытка воспитать у зрителя навык углубленного,
интуитивного постижения художественных ценностей в музеях типа «экспонате в фокусе»,
не способны действительно ввести человека в мир искусства, К тому же демократизация
художественной жизни выразилась не только в увеличении числа посетителей музеев и
выставок и расширении их социального спектра, но и в протесте против самой позиции тех,
кто занимался эстетическим просвещением масс: против поучающей, сухой, чересчур
научной интонации музейщиков традиционного толка и против элитарной, снобистски-
замкнутой «посвященности» создателей эстетизирующих музейных экспозиций.
Теперь основную задачу работы со зрителем, — наряду с привитием навыков
самостоятельного творчества и творческого отношения в окружающему миру, для чего
организовывались многочисленные кружки, студии, курсы, и т. д., — видели, в первую
очередь, в обучении языку искусства. В решении же этой дидактической задачи наиболее
действенным оказалось простое физическое сопоставление тех или иных произведений,
которое иллюстрировало некую категорию художественной образности и наглядно
объясняло ее более внятно, чем пространный сопровождающий текст. В обучении языку
искусства особенно эффективными стали те методы, которые апеллировали не столько к
логико-вербальной, сколько к конкретно-образной компоненте мышления. Ведь
метафоричность художественного мышления и языка с трудом поддается вербализации, а
всякого рода сопоставления, аналогии, контрасты близки ей по самой своей природе.
Пример успешной реализации таких задач эстетического воспитания — выставка «Язык
формы в изобразительных искусствах» в Художественной галерее Йельского университета
в Нью-Хэвене в 1961 году. На этой выставке путем сопоставления произведений разный
эпох, разных стран и разных мастеров была сделана попытка выявить общие формальные
элементы и их значение для передачи творческого замысла ху-
118
лож
яика: рядом с гравюрой Жака Вийона «Бодлер» экспонировался «Пор-
т
рет молодой
девушки» из терракоты (ок. 1530 г., приписывается Джиро-ламо деляа Робби а); акварель
Пауля Клее «Красно-зеленые ступени» 1921 года соседствовала с картиной маслом на
дереве «Рождество Христово», созданной Амброзиусом Бенсоном в XVI веке; литография
Фер-нана Леже «Композиция» 1953 года — с бронзовым талисманом из Ирана,
атрибутированным 1200-800 гг. до нашей эры.
Основная цель музейных экспозиций такого типа — экспонирование дидактической или
научной идеи, а не только — и не столько — произведений самих по себе. Экспозиционная
структура подчинена здесь логике раскрытия темы, то есть кон центу ал ьность становится
здесь программной или, если воспользоваться терминологией дизайна, превращается в
формообразующий фактор. Последовательность экспонатов и характер их связи зависят от
хода аргументации в решении поставленной проблемы. При этом отдельные
экспозиционные приемы повторяют модели человеческого мышления: сравнения,
противопоставления, группировки по степени выраженности определенного признака, по
контрасту и т. д. На экспозициях такого типа наряду с произведениями в качестве

равноправных и полномочных экспонатов выступают предметы, считавшиеся прежде
вспомогательными: фотографии, репродукции, схемы, таблицы, модели, тексты; широко
применяется система условных знаков: цвет, геометрические фигуры, прикладная графика
и т. п.; эффективно используются аудиовизуальные средства: компьютеры, дисплеи,
полиэкраны, слайды и т. д. Более того, организуются даже экспозиции (чаще, конечно,
выставки) из репродукций, имеющие тем не менее статус художественной экспозиции (как,
например, серия дидактических выставок из репродукций и фотографий в Музее искусств в
Сан-Пауло, 1961 год).
Советские музем в роли первопроходцев
Очень интересно, что именно в отношении этого типа музейного экспонирования
пионерами оказались советские художественные музеи. Такое предвосхищение
общемировой тенденции было вызвано, правда, вне-
х
УДожественными причинами, однако,
ситуация, обусловившая запуск та-имх) процесса, сама по себе столь показательна д^л
понимания природы того музейного подхода, что ее надо рассмотреть подробнее.
Конец 1920-х-начало 1930-х годов — крайне интересный и бурный ^иод в жизни советских
музеев. Обострение идеологической борьбы, •льнейшее развитие культурной революции,
трактуемой теперь не как
119
ликвидация неграмотности и распространение просвещения, а как борьба за
исключительное господство марксистско-ленинского мировоззрения — все это ставило
перед музеями новые задачи, требовало их активного участия. Решение этиих новых задач
было невозможно без перестройки практически всех сфер деятельности музеев, но, в
первую очередь, без перестройки их экспозиция, так как именно на экспозициях и через
экспозиций музей мог осуществлять свои политико-просветительские функции,
выдвинутые теперь на первый план,
В новой ситуации встала задача использовать экспозицию художественного музея как базу
для пропаганды марксистско-ленинского мировоззрения. Для решения этой задачи
требовалась коренная перестройка всей экспозиции, ее структуры и оформления, состава ее
экспонатов, принципов их размещения. Простая демонстрация коллекций музея,
кунсткамерный показ древностей или типологическое представление эволюции форм не
соответствовали новым целям. Им противоречило и привычное для художественного музея
самодовлеющее значение «вещи», произведения искусства. Оно получило тогда название
«вещевизма», и этот «вещевизм музейных вещей» считался главной опасностью, главным
препятствием для марксистской перестройки экспозиций, при этом к «вещевизму» прирав-
нивали и «вещеведение», то есть естественное для музейщика пристальное внимание к
памятнику, умение работать с ним и подчеркивать в экспозиции его индивидуальные
качества и значение. «Термин «предметность» экспозиции надолго становится одиозным и
исчезает из музееведческой терминологии» [Закс, 1970, С. 147], *
В апреле 1929 года на Ленинградском совещании музейных работников «иогоня за
подлинностью» была подвергнута резкой критике как «формализм музейного вида».
Относительно художественных музеев было специально отмечено: «Ни в коем случае ие
допустимы выставки уникумов и первоклассных мастеров» [Закс, 1970. С. 148]. Целью был
объявлен перевод экспозиций «из стадии статики в стадию динамики», то есть применение
принципов театрализации. Так, в Русском музее в Этнографическом отделе был создан
Этнографический театр., где с использованием подлинных вещей — костюмов, утвари,
культовых предметов, обстановки — устраивались инсценировки старых обрядов и
обычаев, народных пьес «в классовом освещении» [Протоколы заседания экспозиционной
комиссии ГРМ,.., 1929.].
Особенно яркое выражение все эти тенденции нашли на I Всероссийском музейном съезде
в 1930 году. Его лозунгом стала перестройка всей работы музеев и, в частности, их
экспозиций на принципах марк-
120
1С
Т1: ко-ленинского учения. Требование построения экспозиции па основе исторического
и диалектического материализма вылилось в требование превращения любой музейной
экспозиции в иллюстрацию его законов.
Провозглашенное на съезде положение о том, что «основным элементом экспозиции
должна быть не вещь, а музейное предложение», то есть некое логическое построение, или

идея, или проблема, вместе с критикой «вешевязма», привело к принципиальному
изменению состава экспонатов. Теперь подлинный предмет утратил свое значение
основного элемента экспозиции, такими же равноправными экспонатами стали лозунги, ди-
аграммы, таблицы, тексты, копии, модели, макеты.
В художественных музеях эта тенденция проявилась особенно активно. Теперь они должны
были демонстрировать не произведения искусства, а процессы развития искусства в
соответствии с историей обществен но-эксономиче с ких формаций, не творчество
отдельных художников, а борьбу стилей эпохи, понимаемую как составная часть борьбы
классов.
Ярким примером процессов, типичных тогда для всех музеев страны, была и
реэкспозиционная деятельность Русского музея в Ленинграде. Если еще в 1928 году задача
постоянной экспозиции Художественного отдела формулировалась как задача
«представить в наиболее характер-ных и значительных но художественным достоинствам
образцах развитие русского искусства в хронологической последовательности смены
направлений и школ от древнейших времен до наших дней» [Протоколы заседания
экспозиционной комиссии ГРМ..., 1928], то есть как принцип деятельности традиционного
музея, то уже в 1929 году была поставлена цель к концу первой пятилетки превратить
Русский музей в «музей общественно-исторический, строящий экспозицию методом
диалектического материализма». Начало было положено коренной реконструкцией на
основе марксистской методологии отдела древнерусского искусства, который из «иконного
отдела», из «какого-то подобия церкви» должен был стать «экспозицией классовой
идеологии эпохи разложения основ феодального хозяйства под влиянием эволюции
торгового капитала и Дальнейшего процесса борьбы классовой идеологии торгового
капитала и поместного землевладения со старой феодальной идеологией в период
начальных форм московского абсолютизма Московской Руси XVII века» [Протоколы
заседания экспозиционной комиссии ГРМ..., 1929]. Важным пунктом этого проекта был
параграф 6 о привлечении неподлинного материала в качестве основного (!) в экспозиции.
В июне 1930 года, когда отдельные произведения древнерусского искусства были переданы
в
121
Византийское Отделение Эрмитажа, некоторые из них Русский музей отдал на том
основании, что располагает хорошими их копиями, причем копии эти использовались на
постоянной экспозиции музея.
Генеральную задачу перестройки всей экспозиции на основе диалектического
материализма музей пытался решить реэкспозицией отдельных разделов. Были ор]-
анизованы «Опытная сжатая экспозиция искусства промышленного капитала: Реализм 60-
х-80-х гг.» и «Опытная сжатая экспозиция различных художественных течений
предреволюционной эпохи: искусство 1908-1917 гг.». Экспозиции «Реализм бО-х-80-х гт,»,
«Искусство 1908-1917 гг.», а также наиболее характерная для такого типа экспонирования
выставка 1931 года «Война и искусство» достаточно подробно описаны [Новоусценский,
1980. С. 72], [Федоров-Давыдов, 1933. С. 62], поэтому здесь мы только укажем на их
основные общие черты, наиболее характерные для методов экспозиционной работы тех лет.
Произведение искусства становится здесь—наряду с макетом, диаграммой, схемой, тек-
стом-экспликацией, лозунгом — средством иллюстрирования социологической по своей
сути идеи. Очень широко включается внехудожествснный материал, в том числе большое
количество текстов и таблиц. Характерно четкое членение на разделы, подразделы и темы с
выделением их заголовков. Большое внимание уделено оформлению, броскому и
красочному. Организуются так называемые «вводные кабинеты» (например, на экспозиции
«Реализм 60-х-80-х гг.»).
При всей грубой прямолинейности содержательной стороны экспозиций конца 20-х-начала
30-х годов они демонстрируют интереснейшие достижения экспозиционной мысли, во
многом опередившие свое время. Помимо заимствованной из нехудожественных музеев
тематической организации материала, в них был использован «проблемный» принцип
размещения экспонатов, предполагающих осознание роли экспозиционного языка, была
осознана содержательность самой структуры экспозиции.
Интересно то, что, как показывает история, к такого рода проблемной организации всегда
приводит процесс демократизации музейной аудитории, когда в музей приходит новый,

чаще всего неподготовленный зритель. Именно внимание к этому новому зрителю и
обуславливает необходимость устройства проблемно-дидактических экспозиций. Такой
процесс происходил, как уже было отмечено, в западных музеях с начала 50-х годов и был
также связан с расширением спектра музейной аудитории. Де-мократизовавшиёся гораздо
раньше советские художественные музеи опередили мировую практику почти на 30 лет.
122
Проблемный и дидактический тип музейных экспозиций Приблизительно одновременно с
осознанием необходимости дидактического экспонирования заявляет о себе тенденция к
взаимодействию наук, к междисциплинарным исследованиям. Неудивительно поэтому, что
методология эстетического воспитания включила в экспозиционную теорию методики и
данные психологии и логики. Важнейшим из этих заимствовали была эвристика. Ее
методики решения не стереотипных задач оказались весьма актуальными для нужд
эстетического воспитания в его новой итерпретации.
Эвристика — в педагогическом аспекте — представляет собой правила, 1 соответствии с
которыми направляются поисково-исследовательские про-ессы решения не стереотипных
творческих задач. Почему применительно эбучению языку искусства мы должны говорить,
во-первых, о решении цач, а во-вторых, о решении нестереотигшых творческих задач?
Начнем со второй части вопроса. Выделение элементов художествен-яого языка, их анализ,
оценка, усвоение — это задача, решение которой практически не поддается
стандартизации, по крайней мере, сейчас и на ровне, необходимом для эстетического
воспитания. Ведь стандартизи-ованной задача становится тогда, когда мы знаем, какие
отношения и связи следует установить, чтобы определить искомое качество или объект.
Каждая же категория художественной образности может быть определена через иные,
особые отношения и связи, а потому почти все задачи в обучении языку искусства
являются не стереотипным и. Кроме того, эти выделенные связи к отношения должны
определенным образом фиксироваться. Но если, например, в математике с ее развитым
символическим аппаратом эта проблема не вызывает особых затруднений, то теория изоб-
разительного искусства не имеет таких общепринятых способов фиксации. Поэтому
особенно эффективными оказались те средства, которые были рассчитаны на образное
постижение тех или иных элементов художественного языка и их отношений.
Что же касается первой части воспроса, то есть того, почему о дидакти-еской экспозиции
надо говорить как о решении задачи, то здесь придется
;
помннть отом первостепенном
значении, которое имеет проблемная орга-'изация всякого учебного процесса, когда знания
преподносятся не в гото-
м
в
*Ше, а как результат решения определенной, четко очерченной
пробле-Постановка проблемы основывается на некоем противоречии между
!
навательными
задачами и средствами, имеющимися для их решения. • в том случае, когда обучаемый
убеждается, •что для объяснения, рас-«авания какого-либо факта имеющихся у него знаний
недостаточно, он
123
внутренне принимает поставленную проблему как свою и активно включается в процесс ее
решения. Поэтому и в организации дидактической экспозиции важно не предлагать зрителю
готовые ответы, а побуждать его к самостоятельному решению, вести его к этому решению.
Направленность на стимуляцию творческого начала вполне соответствовала вое I штате ль ному
пафосу второй половины XX века, выдвинувшему формирование творческого мышления в
качестве одной из важнейших целей образовательной деятельности, в том числе в сфере
эстетической.
Такой «проблемный» тип музейных экспозиций был взят на вооружение и самой наукой об
искусстве, сделавшей его инструментом искусствоведческого исследования. Формальные
принципы организации здесь те же, что и на дидактических художественных экспозициях,
разнится лишь содержание и уровень сложности проблематики. В качестве примера здесь
можно привести очень интересную выставку «Восток — Запад» в Музее Чернуши в Париже
(1958 год), целью которой было определить характер и меру влияния восточного искусства на
западное. Экспозиция сопоставляла африканскую и современную европейскую скульптуру,
демонстрировала использование западноевропейской живописью ближневосточной экзотики
(Беллини, Дюфрен) и арабесок (Клее). В Европе такого рода экспозиции появились задолго до
«эпохи демократизации» и были связаны прежде всего с распространением в гуманитарных
науках компаративистики, а также с расширением методологического инструментария искус-

ствоведения, отказавшегося от узкоакадемического, «археологически-филологического»
подхода к искусству. Так, в 1929 году экспозиция Фолъкванг-музея в Эссене была организована
по такому «проблемному» принципу: работы экспрессионистов были выставлены вместе со
средневековой и, например, африканской скульптурой. Экспозиция пыталась показать истоки
экспрессионизма, родство его формального языка и примитивного искусства. Однако
«проблемный» тип почти не использовался на постоянной экспозиции. Исключение соетавляет,
например, постоянная экспозиция Эддисоновской галереи американского искусства в Мас-
сачусетсе 1955 года, наглядно представлявшая вариативность и многоплановость развития
искусства путем объединения в одном зале вещей, принадлежащих к разным эпохам и школам.
В современном варианте «проблемного» художественного эксионнр
0
" вания научная и
дидактическая установки иногда совмещаются — в мк< гоуровневой, дифференцированной
экспозиции. Она включает в сеоя как научную, так и дидактическую проблематику, но
экспозициогпю выражав их по-разному и сопровождает информацией, адресованной разным кат
124
гориям зрителей. Один маршрут осмотра, более краткий, маркируют четко выделенные вводные
тексты для неподготовленных посетителей, для него характерно меньшее количество
экспонатов и более простая и четкая постановка проблемы. Он образует как бы дидактическую
экспозицию внутри другой, научной, которая включает в себя большее количество экспонатов, в
том числе, так называемые уголки для знатоков, содержащие подробную и развернутую
информацию по теме; постановка проблемы здесь сложнее и сама проблема как бы открыта.
Максимальная концептуализация «проблемных» экспозиций в художественных музеях делает
объектом экспонирования практически саму концепцию, а не произведения. Это вполне
соответствует постепенному исчезновению у новой, эмансипированной иублики, — усвоившей
па уровне своего обыденного сознания идеи прагматизма и аналитической философии, —
пиетета перед произведением искусства. Некоторые исследователи вообще полагают, что сейчас
практически невозможно провести четкую грань между эстетическими функциями
художественного произведения и средств коммуникации, что усиление ъ современной культуре
эстетической значимости явлений, связанных с индустрией информации и развлечений, с
политикой и идеологией, поставило под сомнение культурную роль произведения искусства.
Современного человека, как считают многие философы культуры, искусство вообще не
интересует, его интересует лишь эстетическая информация [Зись, 1984]. В связи с этим
современный художественный музей часто трактуется как прежде всего информационен,!и
центр, «место хранения художественно интерпретированной информации» [Кизюлу, 1972]. (См.
об этом подробнее в глазе IV, пара!рафах 2 и 5.)
Новые тенденции в художесгвешюм экспонировании в немалой степени обусловлены и
появлением новой техники коммуникации, существенно преобразовавшей мир художественного
творчества и революционизировавшей художественное потребление. Новые средства
коммуникации ^идают небывалые возможности для приобщения к художественным ценностям
огромных человеческих масс. Процесс демократизации распредели и потребления
профессионального искусства получил! беспрецен-нтный размах. Трудно переоценить
перспективы художественного спнтания, которые открывают «масс-медиа». Однако зритель,
навыки
Г1
чрого ц отношения потребления искусства сформированы современ-
1
средствами
массовой коммуникации, приходит в музей со стертой •овкой на специфическое
художественное переживание или вообще
:як
°" Установки. Этот факт с необходимостью влияет
и на культурное Дознание» художественного музея.
125
Все рассмотренные выше тенденции повлияли на формирование «проблемного» типа музея
со стороны, так сказать, спроса, то есть со стороны зрителя и его потребностей. Что
касается предложения, то есть теоретиков музееведов, организаторов выставок и
эстетического воспитания, то их внимание к возможностям такого рода экспозиций во
многом объясняется определенным поворотом в самой эстетической теории. Как реакция
на изменения в художественной жизни, была по-новому поставлена и проблема публики.
Активизация и смассовление этого субъекта художественной жизни, повышение
экономической значимости его реакций для конъюнктуры художественного рынка, то есть
актуализация аспекта художественного потребления в целом, обусловила не только
внимание к изучению восприятия, но к появление разработок Б области организации худо-
жественных экспозиций.
Соревнование двух музейных идеологий

Культура XX века многомерна и полна противоречий, в ней соседствуют самые
разнообразные установки и тенденции. Неудивительно поэтому, что и в культурной форме
«музей» на протяжении столетия две описанные выше противоположные педологии
существовали параллельно, в постоянном взаимодействии — взаимоотрицании и
взаимодополнении. Вспомним, что генезис и того, и друюго связан с разделением
музейного собрания на «научную» и «демонстрационную коллекцию». Однако, если
«экспонат в фокусе» есть логическое развитие — в известной мере, одностороннее —
«демонстрационной коллекции», то с «проблемным» типом дело обстоит несколько
сложнее. Как уже отмечалось, само разделение музейного собрания было следствием
кризиса чисто научной концепции музея конца XIX века, осознанием музейными деятелями
необходимости просветительской ориентации в работе музеев. Теперь ученые, вотчиной
которых был прежде весь музей, могли работать в «научных коллекциях», представлявших
собой открытые фонды, хорошо систематизированные и доступные для обозрения и работы
с предметами. Однако в XX веке роль музея как места, где действительно делалась наука,
где работали крупные ученые, заседали научные сообщества, то есть роль «лаборатории
науки» постепенно утрачивается. «Большая наука» становится все более умозрительной,
отрывается от зримых, осязаемых вещей — музеи же по-прежнему интересуются лишь тем,
что соразмерно человеку.
Наука развивается сегодня на стыках — в музеях сохраняются строгие академические
водоразделы, исключающие междисциплинарный подхо
126
Массивы информации, с которыми работает современный ученый, не сводятся к
конкретной, в одном месте сосредоточенной совокупности предметов — сотрудник же
музея работает с вещью, с коллекцией. Поэтому музеи становятся теперь не «лабораторией
науки», а лабораторией ученою-вещеведа, специфического, чрезвычайно редкою для
нашего времени типа, жреца музейного собрания, который является в той же мере
хранителем традиций эмпирической науки, в какой и хранителем собственно вещи
[Юхнсвкч, 1989. С. II]. Именно Б разработке этого «вещевсдчсСКОРО» аспекта научной
деятельности, а не в устремлении вслед за «большой наукой» в область умозрительного
можно увидеть залог того, что музейная наука может найти свое место в науке XXI века.
С другой стороны, отвечая на «социальный заказ» современной культурной ситуации,
музей должен открывать зрителю мир природных и культурных явлений как целостный,
живой организм, а не как препарированное аналитическим скальпелем, лишенное
«одушевляющих связей» мертвое тело. Сегодня, как никогда, актуален интегративный,
комплексный подход, рассматривающий накопленный в музеях бо1-атейший материал не в
качестве объекта исследований той или иной шнкретной науки, а в качестве части общего,
неразрывного целого природы и культуры, в ценностном контексте человеческого бытия.
Проблемы музейной науки тесно связаны и с проблемами музейной просветительской
деятельности. Ведь в роли музейных педагогов чаще всего выступали все те же ученые-
вещеведы узкого профиля, страдающие «высокомерием хранителей» (термин Д. Камерона),
то есть уверенные в том, что их язык, их тезаурус и категориальный аппарат должны быть
понятны и доступны всем. Они полагали, что подлинные предметы, которые были
первоисточниками в научных исследованиях, должны служить и наи-оолее эффективным
средством передачи систематических знаний посетителю-непрофессионалу. Помимо этого
гносеологического отождествления предмета-источника с предметом-экспонатом, крайне
ВреднЬго для музей->и педагогики, пороком таких псевдопросветительских экспозиций
было то, что их стержнем являлась готовая система научного знания, на кото-УЮ
нанизывались вещи-экспонаты. Такие экспозиции были беспроблемен, в них не было
загадок, были только разгадки. Поэтому они были *ВДресны и не создавали мотивации для
обучения. Не создавал ее и ком-чтарий экскурсовода, не отличимый от лекции и
выдержанный в пове-•з^ельной модальности. «Будучи своего рода "интерпретирующей
нро-
а
между обществом и культурным наследием, примитивно понимаемая
^•просветительская доктрина выступает как тематический "фильтр",
127
пропускающий содержание, сосредоточенное в ограниченном диапазоне. В результате у нас
есть "искусствоведческие" музеи, но нет музеев искусства; есть "естественно-научные", но нет
музеев природы; есть "этнографические", но нет музеев национальных сообществ и т. д. Даже

названия музейных выставок звучат чаще всего как заголовки научных статей, написанных
специалистами для специалистов» [Юхневич, 1989 С. 13-14]
Такая ситуация •— естественное следствие того, что приоритет интерпретации художественных
собраний принадлежит исключительно искусствоведу, и даже конкретнее, историку искусства,
«чье незримое присутствие имеет примечательную способность отпугивать простого человека»
[Нийзоп, 1988. С. 60]. Для реального же успеха образовательной ориентации художественного
музея в числе его деятелей должны быть психологи, социологи, педагоги-методисты,
сценаристы и т. д. В идеальном случае все эти функции соединяются в лице методиста-
экспозиционера (эта профессия стала весьма распространенной в зарубежных музеях),
характеристикой которою может служить описание Б. Дондуреем — правда, в несколько иной
связи — фигуры «предельного критика», на которого возлагается сизифов труд преобразования
«квазихудожественного» зрителя в эстетически живого и по-настоящему зрячего: «Критик,
видимо, призван <...> показывать всевозможные образцы эстетически значимых типов общения
с искусством, рекомендовать наиболее целесообразные операции с новым художественным
опытом, разбираться не только во всем многообразии эстетических, но и социальных, и
социально-психологических языков культурного поведения. <...> Именно на .чего возлагается
задача представить весь спектр возможных содержательных интерпретаций художественных
произведений в соответствии с типами и уровнями потребителей» [Дондурей, 1981. С. 19]]. В
задачи такого экспочиционера-методиста входит не только выбор, истолкование отобранных
для каждого конкретного случая произведений, осуществление перевода их на язык той
духовной культуры, которая близка и понятна зрителю, которая дает ему столько, сколько
именно тот может взять, но экспозиционер-методист берет на себя и функцию обучения
зрителей избранному ими же самими языку культурного поведения. «Создатель идеальных
образцов общения с произведениями искусства, он и станет уникальным специалистом в
области социальной пропедеатики художественной жизни общества» [Дошгурей, 1981. С. 193]
Итак, две идеологии художественного музея, связанные каждая с одной из дзух ведущих
тенденций в культурной жизни XX века, антагонизм которых является главным нервом всей
современной культуры, — с де-
128
к
ратизацией, социальным прагматизмом и сциентизмом как наследниками
позитивистского типа общественного сознания, с одной сторо
нь1
> и с гуманитарно и
гуманистически ориентированной культурой как трансформацией в нашем столетии
романтического миро-
созе
рцании, с другой стороны, — эти две идеологии сосуществуют па-
раллельно, в антагонизме друг с другом, как и стоящие за ними основные течения в культуре
современности. Если «экспонат » фокусе» элитарен,
эзо
-геричен, обращен к «посвященным» в
таинства эстетических, наслаждений, то «проблемно-дидактический» тин демократичен,
достаточно популярен, адресован по преимуществу массовому зрителю. Если первый тип бежит
содержательности, опираясь на интуитивны и акт постижения зрителем произведения, то второй
делает содержание экспозиции главным объектом экспонирования. Если для первого
существует только отдельное, подлинное произведение искусства, и только оно одно, то для
второго птавной реальностью является «воображаемый музей» А. Мальро, эта гигантская
совокупность накопленных человечеством артефактов., вне зависимости от того, в каком образе
они представлены в сознании современного человека — в виде ли тиражированной
репродукции, кадра телепередачи, художественной открытки, копии или самого подлинника.
Для «экспоната в фокусе» отдельное произведение искусства — это нечто живое, некий
самостоятельный организм, для «проблемно-дидактического» типа произведение — только знак
среди других знаков в семиотической системе «искусство», обучить языку которой зрителя и
передавать ему на этом языке необходимые «сообщения» и есть главная цель музея такого типа.
«Экспонат в фокусе» акцентирует самоценность, уникальность, ори-ганальность, подлинность и
в этом смысле документальность произведения, а для «проблемно-дидактического» типа
коммуникационная ценность экспозиции стоит значительно выше ее документальной ценности.
«Экспонат в фокусе» принципиально ненавязчив, высокомерно-деликатен и, -издавая зрителю
все необходимые условия, предоставляет ему всю инициативу, в то время как «проблемно-
дидактический» тип, хотя и опирается
та
н
овые тенденции педагогики сотрудничества, но в
основе ее все-таки жит дидактическая идея, она стремится вести зрителя (отсюда и жест--ть
маршрута на большинстве такого рода экспозиций), И тот, и другой опираются на визуа;1ьное
восприятие, — что, впрочем, естественно в «ественном музее, который есть музей визуальных

искусств, -— но «экспоната в фокусе» визуальное восприятие есть созерцание, то 1емно-
дидактический» тин работает с вшуальностъю как с визуал ь-мыщлением (материалом для
которого могут быть как произведения,
129
так и, например, детали графического оформления экспозиции), для него зрительное
предъявление экспонатов есть не самоцель, а средство. «Экс жшат в фокусе» стремится
скомпенсировать и устранить парадоксальность ситуации в художественном музее, когда
одновременно или в достаточно короткий промежуток времени зритель должен воспринять
много разных произведений, «проблемно-дидактически и» тип, наоборог, пытается экс-
плуатировать эту специфику восприятия, которая предоставляет уникальную возможность
непосредственно сопоставлять, сравнивать произведения, провоцирует, даже вынуждает к
сравнительному подходу к ним стимулирует аналитический аспект восприятия. Стилистические
решения в оформлении «экспоната в фокусе» обычно рафинированы, классичны хотя иногда и
отличаются эксцентричностью, стиль же «проблемно-дидактического» типа ближе к поп-арту
или концептуальному искусству в нем часто ощущаются отголоски конструктивизма. Наконец,
— и это, вероятно, главное, — если «экспонат в фокусе» подчеркивает и старательно оберегает
специфику музея, то есть опору на музейный предмет, на произведение искусства, и при всех
крайностях и нестандартных подходах все же в главном продолжает линию не! прерывной
музейной традиции, то «проблемно-дидактический» тип по самой своей идее, как бы
эффективен и действительно необходим он ни был для культуры в целом, разрушителен для
художественного музея как культурного института, который теперь органично вписывается в
новые культурное образование под условным наименованием «досуговый центр» — соединение
музейных фондов, выставок, библиотеки, видео-, фото-, и фонотеки, клуба для общения, круж-
ков самодеятельного творчества, театральной студии, курсов и школ для любителей искусства,
кафе, магазинов, концертного зала, дискотеки и т. д. Взаимодействие этих двух идеологий
определяет динамику развития современного художественного музея. Сложившийся сегодня
полифункциональный тип музея полон противоречий и непрерывно трансформируется,
постоянно осваивая новые измерения, ориентированные на будущее культуры.
Глава IV. Художественный музей в современной культуре
§ 1. Философская критика музея:
искусство в истории и история в художественном музее
Объект критики
С момента своего выхода на официалыгую сцену культуры музей всегда был не просто
историческим явлением, он сам создавал облик истории. Тем не менее уже в XIX веке, когда
возникли первые крупные художественные музеи, их появление было встречено упреками в
том, что они не сохраняли, а, наоборот, разрушали ход истории и культуры. Музеи упрекали в
том, что музейная переработка истории несет угрозу историческому смыслу как таковому. Суть
критики музеев сводилась к вопросу об аутентичности: музей, как полагали, заключает в себе
угрозу художественной и культурной аутентичности произведений искусства и артефактов,
поскольку вырывает их из естественной среды и помещает в музейные залы, где их можно лишь
созерцать, но нельзя, так сказать, жить с ними. Утрата контекста, утрата культурного смысла,
разрыв непосредственных связей с жизнью, насаждение эстетически отчужденного способа
восприятия, провоцирование пассивного отношения к прошлому и создание расслабляюще-
ностальгического настроения — музей казался воплощением всех этих пороков современной
эпохи, которая, по ее собственному мнению, отказалась от имманентных связей с традицией,
освящавшей собой любую предыдущую эпоху.
Сравнительно недавно появившиеся экомузеи и децентрализованные музеи, ориентированные
на интересы локального сообщества, ставят своей целью найти такую модель музея, которая
была бы непосредственно связана с жизнью окружающего общества. Это говорит о том, что
пробле-
Ма
до сих пор существует, и что обвинения в «денатурализации» культуры еще
преследуют музеи. Вопрос об отсутствии аутентичности вообще
ха
ракгерен для философско-
зстетического дискурса двух последних сто-Образ музея дискредитирован самим духом
исторического дека-
131
данса, который пронизывает все современные рассуждения об искусст и культуре и
предпосылкой которого оказываегся постулат о том, что и кусство и культура знавали лучшие
времена. Философский дискурс
ли
ния которого идет от Катрмера де Кэнси (знаковой фигуры,
первого теор
е
тика антимузейной критики) к Гепелю, Нидше, первым авангардистам Дьюи,
