Ильин В.В. Политическая антропология
Подождите немного. Документ загружается.

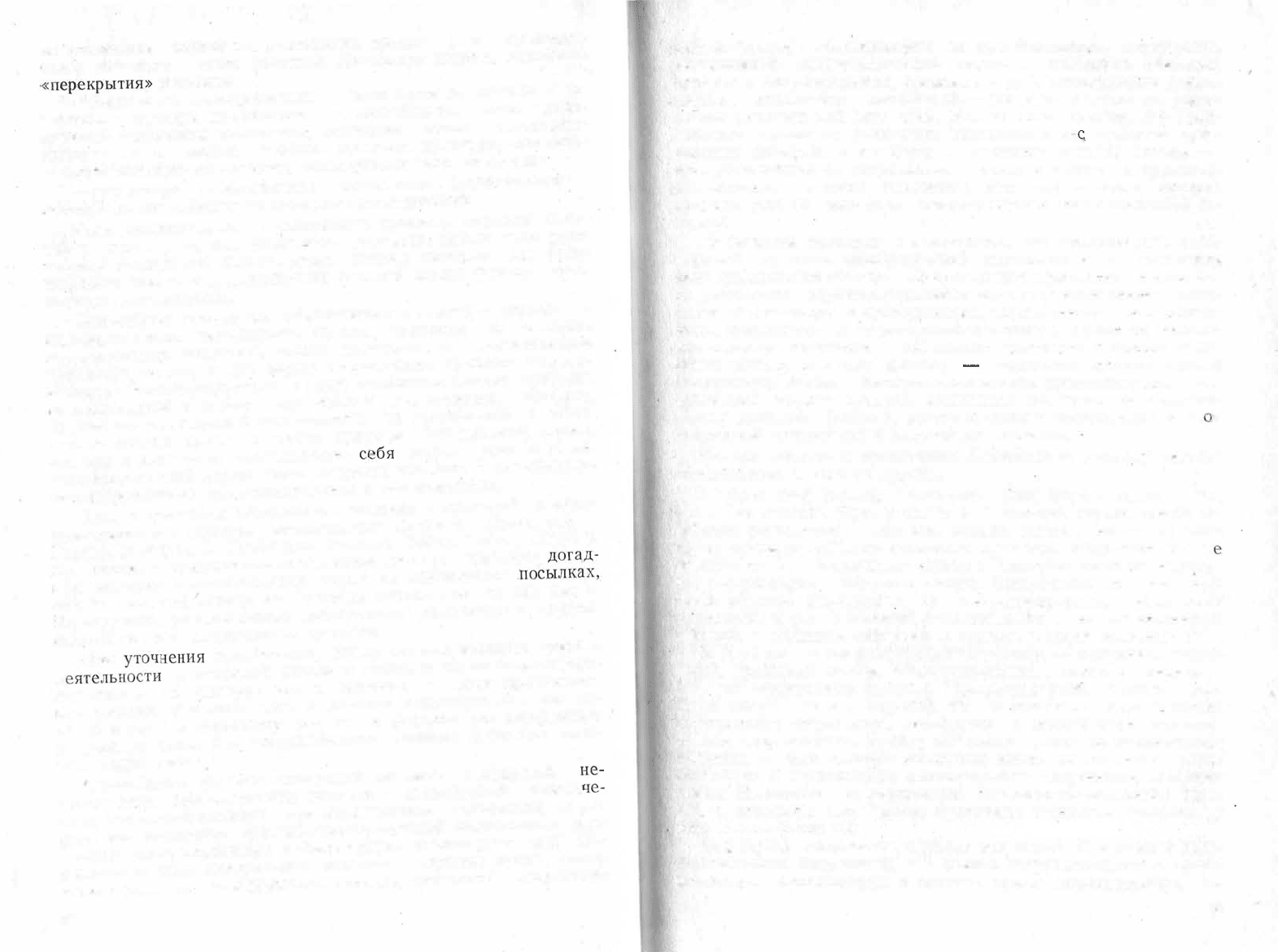
БО созданных человеком технических средств уже перекрыло
число известных видов растений. Демонстративность подобного
-«перекрытия»
оtrевидн а;
_ социальная трансформ ация - дело здесь не СТОЛЬКО в из-
менении структуры производства и потребления, ломке тради
ционных жизненных
м
инимумо, изменении облика .нас�ленных
:пунктов И Т. П., сколько В общем прогрессе культуры, о е
�
печи
�вающем высокую самоотдачу, самоосуществление индивида,
_ утилизация - насаждение механизмОВ в
еобъемлющего,
всемерного потребления человеческих возможностеи.
Итак воплотИВШИСЬ в социальную практику мировых масш
та
6
ьв H�YKa и техника обусловили упрочение нового типа руко
творн
�
й реальности. Воспользуемся данным выводом дли более
!широкого тезиса о радикализации в нашей жизни фактора чело-
веческой деятельности.
Существуют
две формы объективного процесса - природа 11
целеполагающая деятельность. Однако, принимая ВО внимание
экспан�ивность последней, можно настаивать на стратегическом
изменении ситуации: две формы объективного процесса последо
вательно трансформируются в одну; c
анов
,
ИТСЯ меньше природы,
'не вовлеченной в орбиту человеческои деятельности,
.
стано�
ит
'с я меньше человеческой деятельностИ, не вовлеченнои в со ст
венные
потоки циклы и ритмы природы. Складывается еД
.
иное
,
е
себя
целое' унитарныи ан-
активНо и динамично проявляюще
.
-
.
тропокосмический научно_техно-натурный комплекс с автономНЫМИ
зак
ономерностЯми функционирования и
самоизменения .•
Идеи о грядущем объединении человека с природои в
н
екое
)3секосмическое единство высказывались мно
:
ими. Сред
и
л
них �
Ге е БюффОН, А. Гумбольдт, Ратцель, Теияр, Реклю, еруа
P�i�aKo в большинстве своем основанные на туманных
дога
,
д
,
.��� неяснЫх предположениях, порой на мистических
посылках,
'они
'
не являлись глубокими. Выгодно отличаются от них мысли
Вернадского, раскрывающие объективные социальные и природ
вые основЫ рассматриваемого процесса.
Для
точнения предпосылок, движущих сил великого синтеза
еятелы
сти
с природой ключевое значение имеет философское
�оложение об универсальности человека, которая проявляется
чески Значение этого положения исключительно: оно да
.
��
а
:;\ольк� методологическую, но и фактическую перспективу
.
разработки темы. Его содержательное развитие позволяет наме-
тить такую схему.
iОбъективное
условие интеграции человека с
ПР�IРДОЙ -
�e
обходИМОСТЬ удовлетворени
.
я витальных потребностеи челове
l
e-
осуществляется как перманентная активизация и ук-
ства что
б· тельности
.
пос
руп�ение масштабов практико-прео разующеи дея
, П -
тепенно превращающейся в биосферную, планетарную силу
�
им
:
�
ме
ение масс
минерального вещества, открытие H
�
BЫX
р
е
Щ
акции
.
трансформация рельефа, связанное с возрастаю-
ческих ре
,
.
20
щей нагрузкой на ландшафты их преобразование, перестройка
естественной гидрографической картины, изменение обменных
процессо
в
(энергетичеоких
,
тепловых и др.), становящееся реаль
но
стью управление атмосферой, - все это результаты созна
тельно реализующей себя силы, имя которой Человек. Его прак
тическая активность фактически оказывается ин трументом прев
ращения биосферы в ноосферу, в компонент родовой автоэволю
ции . . ДальнеЙшее ее направление
- выход в космос и гуманиза
ция ,К'осмоса, т. е. TalKoe положение дел, при ,OTOPOM история
ПРИ,роды уже на деле будет в.сецело обусловлсна социальной ис
торией.
Изложенное подводит к заключению, что ГJбализация чело
веческой практико-преобразующей деятеЛbJ-JОСТII и вызванна
этим гуманизация природы обусловливают ОфОРМЛСllие IIОВОГО ти
па реальности, ха рактеризующейся вза имоп рон и К IIOBCII НСМ, един
cTBoM объективного и субъективного, естественного и искусствен
ного, природного и социально-исторического. Процессы IIЗмене
ния природы человеком и собственно природные IIPOIlCCCbI изме
нения сливаются в
один процесс
,
изменеяие оо;циоприродной
тотальности. Исчезает несоциализированная преДШССТВУЮlая че
ловеческой истории природа, становится «истинная аIlТРОПОЛОГИ
'
ческая природа» (Маркс), представляющая преДПОСЫJJl<У 11 1 'Г
творческой созидательной родовой деятельности.
От
героиче
ского к
будничному
. Движение по данному вектору
обусл6вливается блоком причин.
1.
«Нет иной печали, - отмечает· Леон Блуа, - ]< роме того,
что ты не святой». Путь К святости. С позиций пеРСОllаJIЫIOГО со
зидания регулятивная идея эта, однако, отнюдь не может быть
целеориентиром реально-жизненной практики. «Царствис мое н
от мира сего», - напоминает Христос. Божеская CB$lTOCTb над�ир
на, несоразмерна действительности. Экзистенция и возможный
строй
высшего МИРОПОРЯiДка
не
синхронизированы, взаимонесо-
'
nр
ичастны. Ядро жизненного существования - не cooTlleceHHoeT!>
с Богом, а вершение «
медленных ТРУДОВ» в кругу подобных тебе.
2. Наш век - век рационального расчета, обезличеllНЫХ техно
логий, промывки мозгов, манипулирования, силовых ВIЯНИЙ
есть век создаваемых событий. Индустри
я
public relations ДОС
тигла высот таких изощрен'ий, что в искусстве форм ирования
пространства стереотипов, артефактов в полной мере девальви:
ровала «геРОИ,ческое». В силу энтимемы: жизнь политизирована;
политика - манипуляция эмоциями; жизнь вырабатывает идио
синкразию к политическим манипуляциям - коренными идеалами
жизни становятся не героические (высокоэмоциональные) идеа
лы, а, используя слог Гегеля, будничные стандарты близости
у
себя самого бытия «Я».
.
Be героев завершился, начался век людей. И в смысле ниве
лированности, массовости; и в смысле затруднительности, невоз
можности, неспособности к подвигу, ярким, выразительным, не-
21
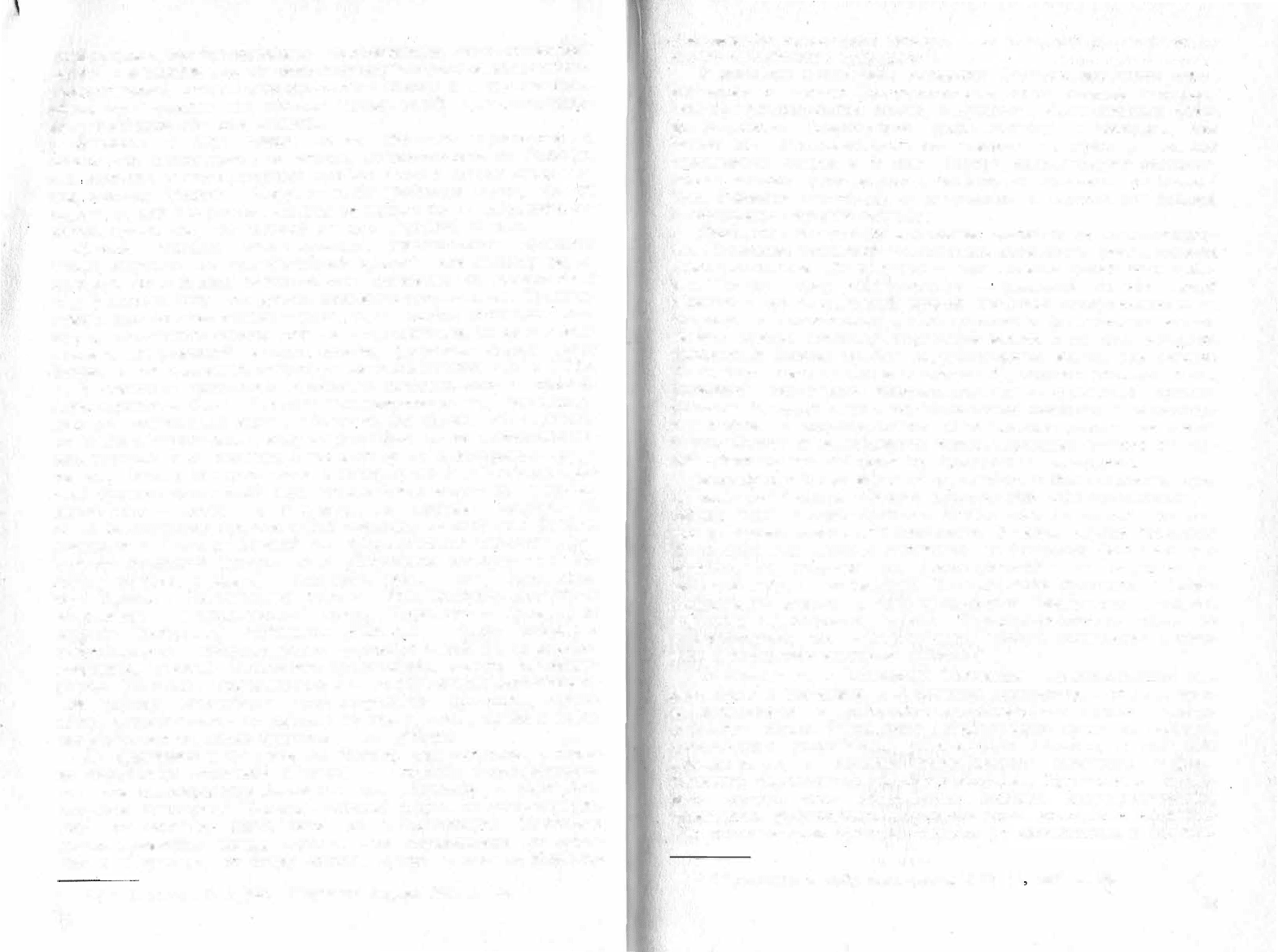
трафаретным, необыкновенным, бескорыстным, caMO)
�
epTBeHHЫM
актам; и в смысле утраты самостоятельности, самостииности (го
сударственный, общественно-публичный пресс) ;
u
и в смысле тран
сформаЦI1И идеалов как выIшихx начал, целеи в операционаЬ
ные осязаемые образцы, штампы.
Близость у себя самого бытия «Я» - не отрешенное, а
«свое» - не поставленное· на колени, не вознесенное на ГО
�
ГОфу.
,
а в
.
качестве самодостаточного ребывающее в естественно и сти
хии «мне-доступного». Миру, истории требуются герои, но от
спроса на НИХ все устали. Людям не Н
У
ЖНЫ бол
u
ее избранные со
листы
,
нужен хор, где каждый самодеиствующии солист.
Данная ставшая отличительным, повсеместным правилом
жизни максима толкует бытийный процесс как полноту персо
нального воплощения; обеспеченного движением от возможности
к действительности на уровне индивидостроительства. Традици
оюiые модусы экзистенции --вина, страх, выбор, отчаяние, спа
сение, отношение к смерти, любовь - OlТОЛОГИЧIЫ, но не как ком
поненты отстраненной вещественности
,
�лемен�ы бытия перед
Богом, а как осязаемые структуры взаимоконтактов «Я» С «TЫ
�
.
В контексте сказанного утрачивают назидательность библеи
ские перипетии Иова. Героизм великомученичества, идеалобор
ства для нормальной жизни избыточен, непонятен. Не отрекать
ся от Бога, стремиться J( нему - удел героя, но не «просточелове
ка»
,
который хочет МЫСJ
lИ
Т
Ь в тех категориях, в которых жив
1
ет, и
не хочет жить в тех категориях, в которых его учат мыслить . По
'этой причине
ц
енностный нерв самосознания жизни не в проме
жутке «Бог
-
ничто»
, а в промежутке «жизнь
- смерть».
u
(В
свете развиваемых представлений очевидно несообразие Фреида,
пытавшегося аксиологический ток существования
,
выразить прес
ловутой дилеммой Танатос-Эрос.
�
одлинная альтернатива Та
натосу не Эрос, а Вивус) .
D
um, SPIr
O
, sрего - пока живу, наде
юсь. Причем в значительной мере на себя. Спасение, исцеление,
искупление - в продолжении жизни. Стремление жить, а не
«страх» (Хайдеггер), «отчаяние» (Шестов) - базис здорового
существования, которому важен душевный покой, а
о
не «трепет,
ожидание. тоска... постоянное предчувствие великои неожидан
ностю> (Шестов). Фундаментальным, краеугольным экзистенци�
лом потому оказывается предс!(азуемость, прочность, надеж
ность. Существование на пределе истины и ничто, бытия и небы
тия исключается; жизнь буднична, а не героична.
От принципов к
прецедентам. ЧеЛОВejК ,ка;к «самость С ничем
не омрачаемой ясностью» (Гегель) - существо IЩеалологичное,
носитель внеприродного духовного. Его отношение к миру регу
лируется ценностно. Человек -вечный Фауст, не удовлетворен
НЙ реальностью ищет, пока не одухотворится. Поскольку
жизнь, привлекая мысль Ортеги, есть перемещение от жизни
«Я» к «Другому», постольку «оценка жизни И всех ее наиболее
I См,: Ш е с т о в Л. Афины и Иерусалим. Париж, 1951. С. 143.
22
благородных проявлений зависит ... от ТОГО, что дух ожидает от
своего собственного будущего» 2.
В исканиях наилучшего устроения будущего нет иного пути,
как опора на идеалы. Предшес'твующие эпохи, погрязая в деаль
ном программировании жизни, в сущности, были эпохами футу
рологическими. Современная эпоха, ПОДВОДЯ к сознанию, что
вследствие деятельностного наступления 1Iа п
р
-ироду человек
оказывается «дырой В бытии» (Сартр), аlпуаJlизирует реалисти
ческие мотивы существования, фокусирует внимание на наСТQЯ
ще
м. Главным становятся не отнесенные в персп еrп иву идеалы,
з обостренное чувство текущего.
Движущие поведени
ем идеальные ценности не операциональ
ны. Призвание ценностей - означивать активность, реализовывать
СМЫСЛОПQлагание. Но наш век - век I,ризиса це lllIOСТНЫХ смыс
лов. Стихия, среда СQвременности - реальный бытийственный
самотек с его заземлеННQЙ прозой, полнотой «сеф мейкинга»
В
пределах самопонимания, самотворчества с фактичеСIIМ исклю
чением кумиротворения, априорной верности ВЫСlllИМ IlаLJ�лам,
избыточной аскезы. Пройдя по 'рукотворным кругам ада (можно
ли ставить оперетту ПОСJJе Освенцима?), чеJJовек Qказа,ПС51 перед
. дилеммой
'
идеаЛЬНОГQ смыслополагания - реальног() кризиса
смыслQв.
И вдруг понял, что
намечаемая ценностями I(ОJlектив
ная
судьба и
индивидуальное существование далеко IIC всегда
слиты.
Оттого в' подчеркнутом дистанцировании ВТQРQГQ .от пер
вой
обознаЧИЛQСЬ смещение от принципов
к прецедентам.
«Одной БQрьБы за вершину ДQстаточно, чтобы заПОJJIJИТЬ серд
ц
е человека.
СизИфа следует представлять себе счастливым»,
уверял
Камю. Сизиф счастлив? Любая попытка ответить
на воп
РQС не влечет ответа
QбщезнаЧИМQГО. В таком случае последней
инстанцией
для каждого выступает не БQжеский (вспомним
Ре
мизова), не людской суд (несовершенство еГQ ощущает 1'1 а
себе каждый), а
собственный. Не ценностные принцнпы,
а эI<3ИС
'
Генциальные локалы в
ви
�
е прецедентов
реальности
ЯIЗJIЯЮТСЯ
КQнечным
вожделением жизни. Идеально-ценносТl-IО жнзнь не
канонизируема; она
- дерзновение, «веЧ\ая
несводиман к 1'0-
'вому
И
ПQНЯТНQМу мистерия» (Шестов).'
От элитарного к
массовому. Те\Нlденция, ПРОНИЗЫlЗзюща51 СQВ
ременность и связанная с феноменом ВОВJJечения, Непосредствен
но сказывается в суггестивно-технологческих ИЗIСК<:lХ универ
сализации жизни. Разумеютс нивелирующие процессы сериации
производства, по
'
Гребления, ритуализации общения, I<ОJlонизации
чувственности, в качестве интегрального КQнеЧНОГQ эффекта
имеющи складывание маССQВОГО общества. Оформлению послед-
' него предшествуют объективные явления индустриаJJизации,
ехнизации, урбанизации, бюрократиз
,
ации, ДQВQДЯlцие естествен
ные поставляющие функции социума до автоматизма и Qдновре-
2 Эйнштейн А. Собр. науч. трудов. Т. IV. М" ]967. С. 165.
23
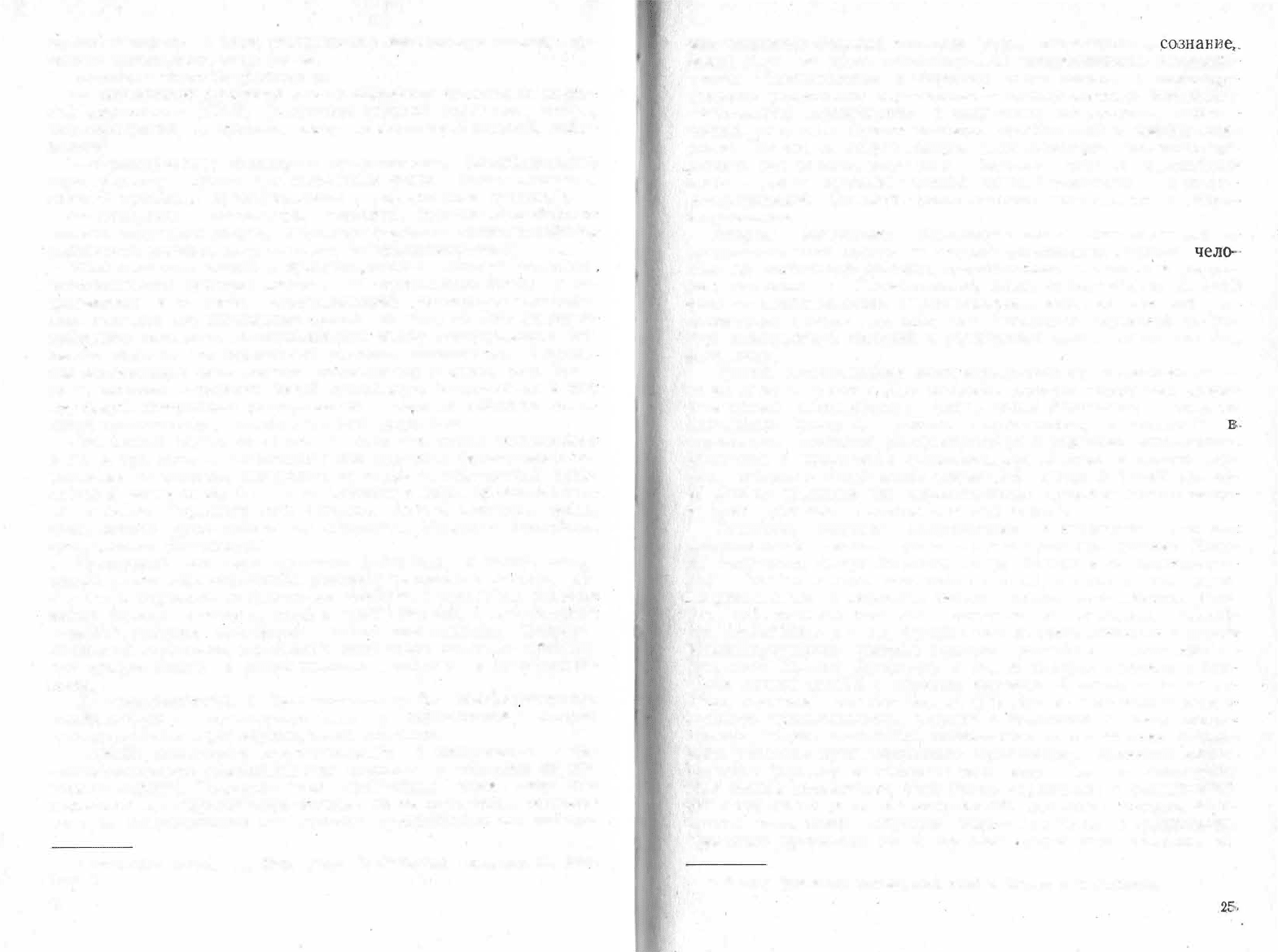
менно
и
наряду
с этим усиливающие деиндивидуализацию; ду_.
ховную зависимость, отчуждение.
Массовое общество крепится на
-
интенсивной промывке мозгов населения средствами массо
вой информации (СМИ) (вздувание тиражей периодики, аудио-,
.
видеопроду.кции
, ее
проката, выпуоков карманных изданий, дайд
жестов) ;
- тиражировании стандартов существования (вдалбливаемые'
через рекламу, пропаганду стереотипы стиля, моды, привычек,
понятий престижа, принадлежности к референтным группам);
.- внедрении маокультуры, поп-арта (поточно
-
конвейерные
приемы индустрии досуга, характеризующиеся примитивностью,.
развлекательностью, ходульностью, натуралистичностью)
.
ШаБЛОНИЗ1ация жизни с культивируемыми общедоступностью"
раскованностью означает переход от сокровенного бытия
.
к от
кровенному бытованию, отличающемуся универсально
-
публич
ным
режимом межиндивидных связ.еЙ на базе особого экзистен
циального комплекса коммунальности: ввиду
в
ездесущности об
щества избегать его навязчивого влияния невозможно. Ощуще
ние безнадежной бессилыюсти лнчности перед лицом социально
го вовлечения легализует некий фамильярно-бесцеремонный тип
групповой интеракции; универсальным образом действия стано
в
ится амикошонство
, возводимое в ранг ордонанса.
Энтелехией сдвига от элиты к массе выступили
'
случившиеся·
в
ХХ в. три МЩНЫХ оотрясших устои традиции фронтальнь со
циальных катаклизма, именуемые культурной, сексуальной, попу
листской революцией. Они сняли покровы
'
С мира, превратив тай
ну в басню. Перестали быть загадкой любовь, женщина, семья,
брак, космос, руководительство обществом. Закрытое открылось,
.
прикровенное обнажилось.
Культурная революция сравняла избранных и толпу; сексу
альная революция упразднила различия высокого и НИЗКОI'
О,
не
бесного и мирского; популистская революция устранила барьеры ·
между народом и вождем, стаей и предводителем. В оцениваемых
явлениях главным казывается ммент омассовления, предпре-
.
деляющий опрощение, усреднение, неизбежное размытие демарка
ц
ий продуктивног и репродуктивнго, таланта и посредствен-
,
ности.
.
От
индивидуализма к коммунитаризму. В взаимоотношении
«социальность
'
- индивидуальнсть» в челвеческй истории
прсматривается серия кардинальных поворотов.
Первый: становление индивидуального и социальнго - ан-,
тропогенетическое выпочковывание человека
.
и общества из
жи-·
вотного царства. Последовательно проводимая нами линия 3 за
лючае
тся в
СИНlкретическом взгляд
е на
аНТРОiПОГОНИЮ, солласн ·
чему из невозможности постадийного субординативного выведе-
3 Философия власти. М., 1993 . Разд. 1; Философия политики. М., ]994_
Разд. '1 .
24
ния элементов Бльшой четверки (труд, социальность
,
�Оl3нан
и
е
,
.
.
язык) друг из друга оБснвывается синхрническая кордина
тивная объяснительная платформа: социальность и индивиду
альность упрочаю'Гся параллельн и одновременно в результат�
эакрепления, варьирвания и углубления психических, сматл
ческих, ролевых и функциональных приобретений и дифференци-,
ровок. Так что на вопрос Ницше: «Как БЪЯСНТЬ, чт такое су
щество, как человек, выросло в ЖИВОТНОм царстве и покинул
о ·
его?» - ается предельно четкий ответ. Объяснения - в антро
погенетическй обоюдной
.
кристаллизации социальности и инди
видуальности.
Второй: поглощение индивидуальности социаJJЬНОСТЬЮ -
продолжительный период от стадной организации древнего
ч
ел
о
·
..
века до зависимого суrБЪeJкта традиционног
о,
аНТИЧН1ГО и средне
векового общества. ОТJJичительный нюанс существования на этой;
фазе - подневольность, оБУСJJовливаемая заСИJJьем внешней рег
ламентации обмена деятельностью (жесткость первичной табуа
ции,
ПОСJJедующей светской и религиозной схимы, эсхатологизма,.
фатализма) .
Третий: автономизация индивидуальности от социаJIЬНОСТИ -
эпоха Нового времени. Два основных момента определяли ДYXOB�
ный климат открывающего Новое время Ренессанса - сильное
осл
абление папского влияния, выразившееся, в
частности,
]
�
..
авиньонском пленении, распространении и уСИJJении еретических
движений, и оформление гуманизма, под которым в данном слу_·
чае понимаетс
я
направление секулярной
МЫСJJИ
XIV - Х' вв., хо
тя вообще гуманизм как мироотношение, предполагающее защи
ту прав и достоинств личности, возник ранее
4
.
Фактором, ощутимо подрывавшим монолитность
прежн
их.
представлений, явились ереси - внутрицерковные (учения Иохи
ма Флрского, Амори Бенского, Пьера Вальда и их последовате
лей - амаJJьриканцев, вальденцев и т. д.), бывшие по духу анти�
-
клерикальными, и народные (навликианство, богомильство, ката
-
-
ров
,
«аос1'ОЛЬОКИХ братьев
»,
ОЛЬЧИНИСТОВ, ЛОJJардов, таБОЮJ
тов, ·альбигоЙцев и т. д.), кторы
х
уже не очень занимали 130ПРОСЫ
канонизированного святЫми текстами
'
устройства мироздания, -
ПреСТОJJЫ, Начала, Архангелы и пр., но которые тяготели I( воп
росам
личной судьбы и спасения человека. Конечно, факт разра
ботки подобной тематики сам по себе еще не свидетеJJьствовал о·
каком-то принципиальном раз.рыве с традицией: в конце концов
еретики
, будучи утопистами, оказывались не в
состоянин предло
жить реальные пути «спасения» человечества, принимая догма
тическую формулу «к спасению через веру». Тем
не менее факт'
этот весьма показателен, если учест
ь
зарождение в рамках оФи
циальной своего рода <щиссид:ентской» идеологии, которая, в ко
нечном счете, нахоlд
я
широкую основу для блока с гуманизмом,
.
буквально . прорывала узкий горизонт IпреСJJОВУТОЙ доктрины че-
4 В этом
ф
р
агменте используются иеи А. Зотова и А. Антонова.
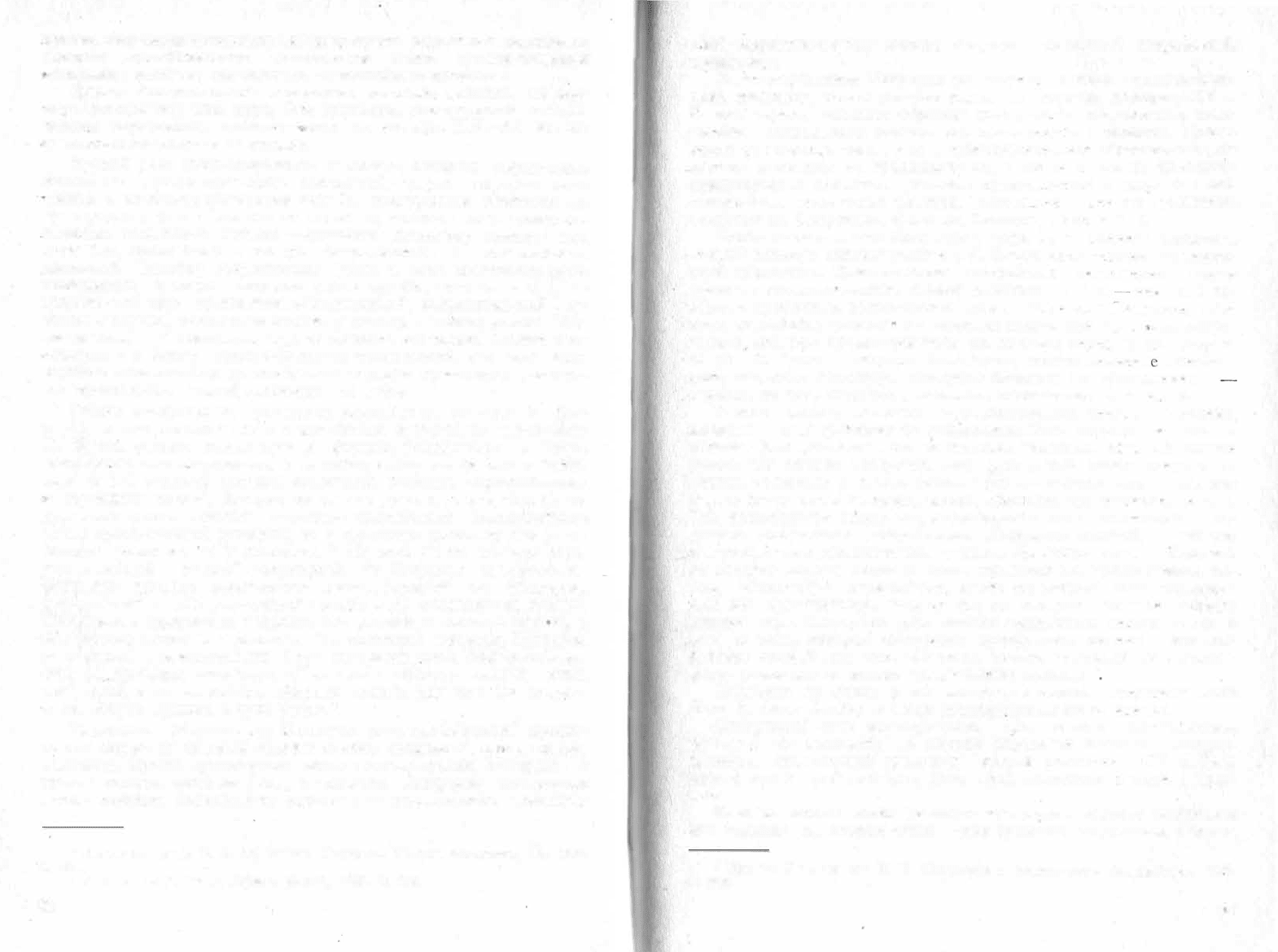
ловека как несовершенного, несуверенного
б
ожеского подо
б
ия и
КQторая спосо
б
ствовала становлению ново
й
гуманистическо
й
онцепции человека как высшего, самости
й
ного существа.
Д
руго
й
мощно
й
сило
й
, оказавше
й
заметное влияние на рас
пад прошло
й
картины мира
,
б
ыл гуманизм, выступавши
й
теорети
че
ским
.
выражением происходв
ших на ру
б
еже XIV -ХУ
вв. со
циально-политических процессов.
Б
урны
й
рост промышленности, торговли,
ремесел,
зарожден
ие
элементов капиталистиче
;
ских отношени
й
, острая
внутрипол
ити
ческая и
межгосударственная
б
орь
б
а, конкуренция о
б
ретших си
.лу городов
и т
.
п
. - все это не могло не изменит
ь
социально
е по
.ложение отдельного
челвека - личности, поскольку именно
она,
а не
Б
ог,
казывалс
я
в центре о
б
щественных и политических
движени
й
.
П
оэтому теQретизация
(
чаще в виде поэтически-хуо
жественном
)
про
б
лем личности
(
темы судь
б
ы, счастья и т. д.
)
В
данных условиях становится о
б
щезначимо
й
,
затрагивающе
й
ду
шевны
е
струны, находяще
й
отклик у МНогих и мнЬгих люде
й
.
Ч
то
б
ы· понять, как конкретно осуществлялось отделение ЛI1ЧНОСТИ от
'социума и к каким принципиальным последствиям оно вело, надо
вкратце остановиться
на
осо
б
енностях возрожденческого гуманиз
ма, прошедшего В
'
свое
й
эволюции три этапа.
О
тцом итальянского гуманизма справедливо считают
Ф
.
П
ет
рарку, замечательного поэта и мыслителя, которы
й
, по выражению
.
Б
руни, открыл людям путь к знанию.
Р
одивши
й
ся в семье
ф
лоренти
й
ского и.жнаННИiк а, «
П
етрар
,
ка сразу же оказался
вы
б
и
тым из то
й
жестко
й
системы сословных, цеховых, корпоративных
'и парти
й
ных связе
й
, которые не только давали трюкданское со
держание �
б
щетвенному сознанию политически полноправного
'члена средневеково
й
коммуны
, но и создавали преграду для даль
не
й
шегО развития этого сознания» 5.
Н
о
если
Д
анте жестоко стра
дал в разлуке
с
родно
й
Ф
лоренцие
й
, то
П
етрарка провозгласил
уединение идеалом чеЛОВ'ечес'КО
Й
жизни, посвятив его прелестям
два трактата - «
О
б
уединенно
й
жНЗНИ»
И «
О
монашеском досуге».
П
ре
б
ывая
в положении человека
б
ез родины и пытаясь поннть, в
чем состоит существо отдельного
(
отделенного
)
человеI<а,
П
етрарка
дает ответ:
в
самопознании
.
К
руг интересов поэта �осредоточива
ется на про
б
леме индивида: «
Д
ля чег
о п
ознавать звере
й
, птиц,
ры
б
, зме
й
,
если не знаешь при роды люде
й
: для чего мы сущест
вуем, откуда пришли и куда идем»
6
.
У
единение сыграло для
П
етрарки
роль своео
б
разно
й
предпо
'СЫлки отхода от системы средневекового мышления, позволив ему
заложить основы сущестВ
'
енно ИНОго мировоззрения.
У
тверд
и
в
в
-центре исследовани
й
не
Б
ога, а человека
,
П
етрарка тем самым
заня
л позицию, кардинально отличную от догматически-теологиче-
х л о д о в с к ий Р. И. Франческа Петрарка. Поэзия гуманизма. М.о 1974.
'с. 47.
• Petrarca Р. Prose. Milano; Napoli, 1955. Р. 712.
'26
еко
й
, определил точку отсчета
б
удущего светского направления
мышления.
Е
сли творчеством
П
етрарк
и
знаменуется начало гуманистичес
кого движения
, то ег
о
расцвет падает на первую половину ХХ В. '
В этот период гуманизм о
б
ретает новые черты, связанные с изме
нением социального статуса его ПРОВОД!IIII\ОА и адептов.
П
роис
ходи
т увеличение числа лиц с гумаНИСТllчеС!(IIМ: о
б
разованием, во
многом отличным От традиционног
о, в
СВЯЗII с чем из идеологии
просвещенных одиночек гуманизм превра щаСТС51 в
о
дно иq влия
тельне
й
ших культурных течени
й
.
Н
астоящие IlCIITP гуманизма
'
возникли во
Ф
лоренции,
Ф
ерраре,
В
енеции, PIIMC 11 т. д .
Ч
то
б
ы отличить гу
манизм этого периода от pallllCГo,
имевшего
остры
й
привкус Иlщивидуализма, Г.
Б
арон I3 I )('JI ТСРМИII «граждан
-с
'
ки
й
гуманизм».
Д
е
й
ствительно, важне
й
шая характсрная
черт
а
гуманистического течения перво
й
половины
XV В. -
IIСЛ
'
lалы
й
ин
терес
к
про
б
лемам
о
б
щественно
й
жизни. Если Д Н IlcTpapKf1, ЖИВ
шего уединенно, важне
й
шим представлялос
ь nOllHTl, СМСЛ до
б
ро
детели" ,которая делала человека счастливы
м
псред ИЦОМ смерти,
то дЛЯ Л.
Б
руни, канцлера
Ф
лоренции, осо
б
ое Зllа'IСIIИ
-
прио
б
ре
та качест
'
ва
характера., присуще о
б
разцовому гражданину,
справедливость, щедрость, смелость, со
ц
иальнз5Т аКТИl!IIОСТЬ.
В Этот период возникают гуманистические ЦСllТрЫ обучеНИ51,
выходят в свет тратаы по педагогике.
Ц
ель педа гогического ис-
.
кусства
ф
ормулируется как воспитание человека, I<OTOPbI й своими
талантами служит отечеству.
Р
е
чь шла О
том, чтобы сдслать че
ловека
полезным в
политическо
й
с
ф
ере, - именно здесь осо
б
енно
В
'ажно
б
ыл
о
знать историю,
языки, о
б
лаiдат
ь
]<раснорсчисм и т. д.
Т
ак
ф
ормируется идеал возрожденческого
h
ОЛ10 uп
i
vегsа
li
s � че
ловека, владеющего искусствами. «
П
еремена заняти
й
, - вот
что
доставляет на удовольствие, - писал М.
П
альмиери.
-
П
оэтому
н
е следует желать сначал
а
·
стать совершенным грамматиком, по
том ... н аилучшим музыкантом,
з
атем стремиться стат ь СКУЛЬПТО
ром или архитеI,тором, потому что ты потерял бы ужс первую
ди�циплину ...
П
освятить се
б
я многим наилучш
им
вещам - это н
€CTЬ та
цель
,
которая заставляет прио
б
ретат
ь
знания с наслаж
дением; сдела
й
для се
б
я о
б
ычным многое, воспитай себя всесто
ро
нне развитым во многих человечеоких де ах
... » i
Л
еонардо да
В
инчи и его непосредственны
й
прсдшественник
Л
еон
Б
атиста
А
ль
б
ерти стали ВОПЛОЩеНИЯМИ этого идсала.
С
ледующи
й
этап
ф
ормирования «логического пространства»
нового стиля мышления во многом опреде.�ен чертами, l<оторые
прио
б
рел итальянски
й
гуманиз,м второ
й
половины ХУ в.
Р
ечь
идет о ново
й
про
б
лематике
, иных представлениях о мире о чело
веке.
Е
сли на первом этапе развития гуман�зма человек понимался
как индивид, на втором этапе
-
как существо социальное
(
Б
руни,
7 Цит. ПО Р е в я к и н а Н. В. Итальянское Возрождение. Новосибирск, 1975.
С. 129.
27
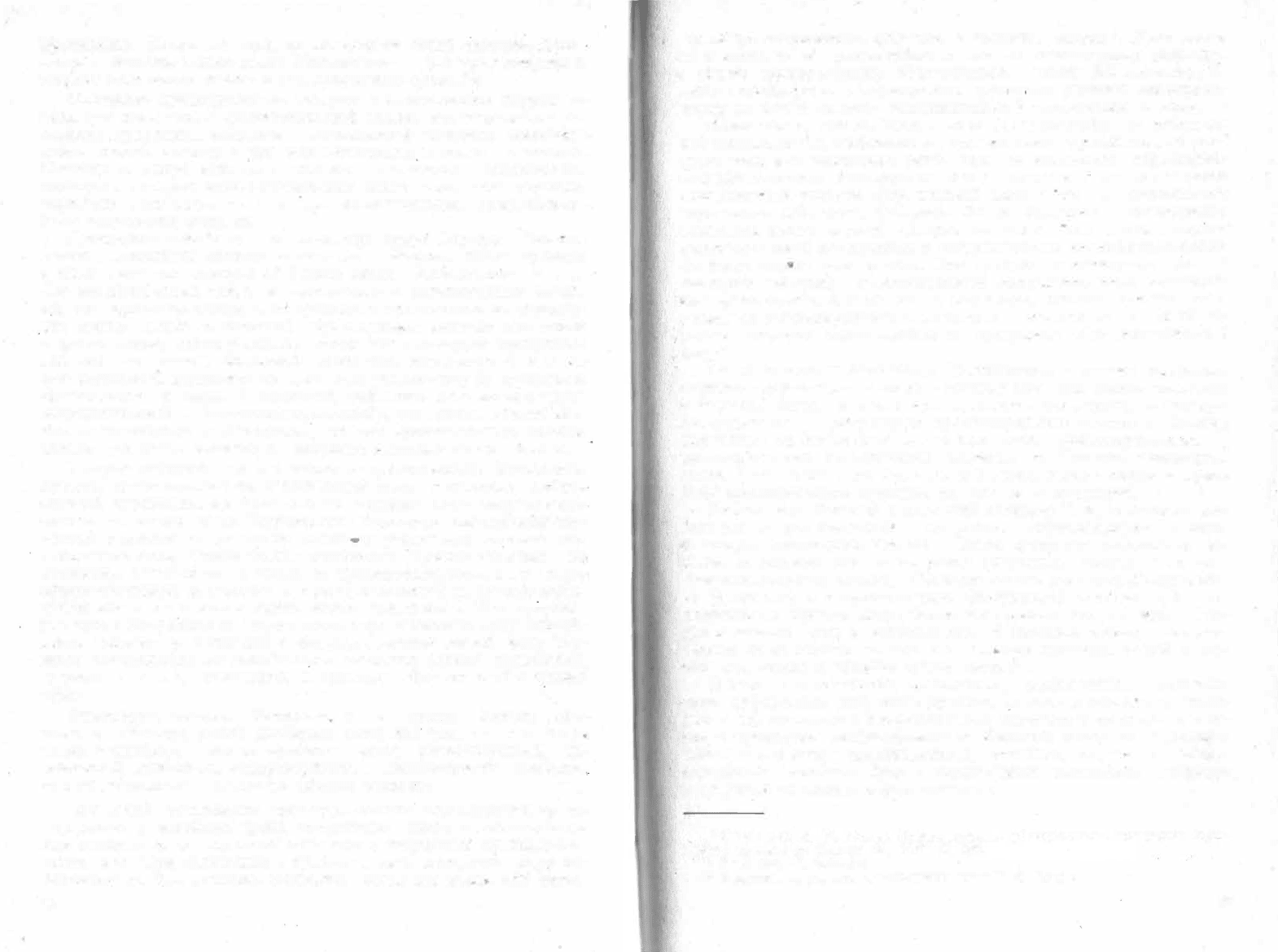
Б
раччолини,
М
анетте и
др.
)
, то на третьем этапе (поздние гума
нисты -
Ф
ичино,
П
икко делла
М
ирандолла и др.
)
крен делался &
сторону понимания человека как природного с
у
щества.
П
оследнее предопределяло интерес к естественным наукам -
ведь для реализации гуманистическо
й
задачи максимального ра
скрытяя природных за:датков и спосо
б
носте
й
человека следовал
иметь точные знания о нем как естественнотелесном существе.
П
оэтому в центре внимаIiИЯ поздних гуманистов оказывалас
медицина, которая не
б
езосновательно вви
д
у очевидно
й
«гумани
тарности» расценивалась как ядро естествознания, приумножаю
щего могущества человека.
П
родолжая семе
Й
НlЫе тра:диции, при
двор
е
Л
оренцо
В
елико
лепного медицино
й
активно занимался
Ф
ичино.
М
ного времени
в своих занятиях ОТВОил е
й П
икко делла
М
ирандолла и т. д.
Ч
то касается связи искусства врачевания с естественными наука
ми, она просматривалас
ь в те
времена с прозрачностью: стремле�
иие понять сущность
б
олезне
й
о
б
условливало занятия анатомие
Й
l
и
ф
изиологие
й
;
ПОИСК рецептов снадо
б
и
й
и лекарств стимулиро
вал занятия химие
й
,
б
отанико
й
,
зо
ологие
й
, минералогие
й
н т. Д.;'
синкретичность мышления не позволяла устраниться от изучени
я
И'
других аспе
'
КТОВ мира.
В
частности, считал ось
(
это закреплялось
астрологическо
й
и
магическо
й
традицие
й
)
, что врачам нужны зна
ния по математике и астрономии,
т
ак как представлялось нео
б
хO
ДИМЫМ учитыват
ь
влияние на здоровье не
б
еснlЫХ светил и т
. Д._
С
ледует отметить, что в отличие от
средневековы
х астрологон,.
которые довольствовались квиетистско
й
ролью сторонних на
б
лю
дателе
й
, ограничиваясь «незаинтересоваНl'IЫМ» составлением горо .
.
скопов, астрологи эпохи
В
озрождения
б
лагодаря «о
б
служиванию».
вполне реально
й
медицинско
й
практики утрачивали элемент «со
зерцательности», «пассивности» про
ф
ессии.
О
риентированная на
медицину
,
астрология
не
могла не транс
ф
ормир
.
оваться в некую
э
фф
еКТИ1ВИСТСКУЮ деятельность, пре�принимаемую не с целыо .знать,
что
б
ы знать, но с целью знать,
' что
б
ы де
й
ствовать. '
Д
ля астроло
гов эпохи
В
ОЗРОдения традиционна вера в человеческую спосо
б
ность и
з.
б
егать у,го'юванных в
б
удущем неприятносте
й
, чему
слу
жили специальные астрологические методики
(
диеты, талисманы,.
амулеты и т. п.
)
, описанные, к примеру,
Ф
ичино в «
D
e
t
r
i
p
1i
c
i
v
it
a».
Р
езюмируя
,
о
тме11ИМ:
Р
енессанс, т. е.
начало
Н
ового IВpe
мени в контексте наше
й
про
б
лемы интересен тем, что это
б
ыла
эпох� гуманизма, провозгласившего идеал разносто
р
онне
й
, ис
полненно
й
а.кти
в
изма
,
самоутверждения (< 11итаничеокои» личности"
спосо
б
ствовавшего индивидуализации человека.
Ч
етверты
й
: п
одчинение Иl�ивидуальности социальности - ут
верждение
в
нове
й
шее
время совершенно иного исте
б
лишмента .
.
для которого «идея строяще
й
се
б
я самое творческо
й
индивидуаль
ности, или идея автономного су
б
ъекта, явНо перестает
б
ыть оп
ределяюще
й
.
Э
то осо
б
енно наглядно, когда мы виИМ протпвопо-
28
.
8 Д
ожность автономнО/ю су
б
ъекта и человека массы» . ело здесь
не в закрытости, репрессивности тех же тоталитарнlЫХ режимов,
о
б
илии произращенны
х
«
б
лагодатно
й
» ниво
й
ХХ столетия, .
дело в оолидарном, товар ищеКО м, I1РУП
?
вом У'части
�
, В
ЬLвет.р,ива
ющем из слова «масса» уничижительны
и
тлетворныи оттенок.
«
окетливое, самолю
б
ивое нытье»
(
Т
вардовски
й
)
от со
б
ствен
но
й
выделеннасти, 011деленност
и
, оригинаЛbl-IOСТ
И,
,'осо
б
ости, из
б
ран
ности наш век исключает, равно как 011 ИСКJlIоцает горделивую
'сосредоточенность индивида на свое
й
самости.
Н
аш век - время
коллективно
й
тревоги, порожденно
й
масшта
б
ом ответственности
рода перед
П
р
иродо
й
,
И
сторие
й
,
Б
огом,
Б
УД
У
11lИМ.
Ч
еловечество
казалось перед задаче
й
, которая не может
б
ыть решена «путем
индивидуально
й
инициативы и сотрудничества Иllдивидуалистичес
ки настроенн
ы
х
участников».
О
на тре
б
ует
«1<онцеIlТР
�
ЦИИ сил
и
инства де
й
стви
й
, о
б
еспечиваемых совершеllllО НlIОИ
человечес
�о
й
ф
ормацие
й
».
Э
то
та самая
ф
ормация, которая тре
б
ует
?
тка
заться от индивидуально
й
инициативы
и
включиться [\ о
б
щии по
РЯДОК - порядок товарищества
по гр ядущем у о
б
щечеловечес ком у
делу 9.
О
т к
анонизма к
бытовизм
у.
Т
радиционная классик
а
различала
�Диную и неделимую высокую культуру как
воплощени
е ценносте
й
с
б
ольшо
й б
уквы и мозаичную культуру андеграунда, состоящую
и
з суррогатов - су
б
культуры простонародного самотека.
И
з
б
егая
нарочитых превознесени
й
достоинств масс, просматриваемых в
патриархальных идеализациях «народа». от
Т
олстого
,
Ч
еРНlЫшев
,ско
го,
Д
остоевског
о
до
Б
арлаха и
Р
ильке, говоря
о
б
разно, ранее
ди
фф
еренцировал ась культура оптиматов и популяров.
Р
азличался
б
ытово
й
и нарOlДНЫ
Й
интерьер 10.
В
. античности дом
делился на две половины - атриумную
(
о
ф
ициальную
)
и
пери
-стильную
(
семе
й
ную
)
.
Т
ак же в
Н
овое время практиковалось де
ление помещени
й
окнами на улицу
(
парадная часть
)
и во двор
(
местожительство челяди
)
.
П
одчеркивались различия о
ф
иuиаJIЬНО
I10
(
делового
)
инео
ф
ициального
(
досувоI1O
)
Iкостюма.
(
П
о во
с
поминаниям
Б
унина, лишь
Ч
ехов манкировал эт
о
различие.
)
Р
аз
граничивался
б
рак и
сожительство.
В
прежне
й
жизни
,
следова
тельно, отслаивались открытая и С1крьrтая ипостаси,
б
елы
й
и чер
ный ход,
ф
асад и изнанка существования.
В
. наш век скоросте
й
,
пропаганды,
,
манипуляции
,
MaccoBx
сете
й
ин
ф
ормации широким
и
кругами по воде разлилось единоо
б
разие.
О
ф
ициальное
и н
ео
ф
ициальное, парадное и дворовое, выход
ное и проходное уни
ф
ицирЬвались.
Б
ытово
й
интерьер нивелиро
вался,
в инвентаре повседневности, ко
стюме, предметах о
б
ихода
сгладились различия,
б
рак и сожительство смешались.
О
ткрытое
и
сокрытое сделались неразличимыи •.
с Г в а р Д и н и Р. Конец Нового времени/ /Современные концепции куль
турного кризиса на Западе. М., 1976. С. 195.
9 Т а м же. С. 200-20 1.
la В данном фрагменте используются идеи Г. С. Кнабе.
29
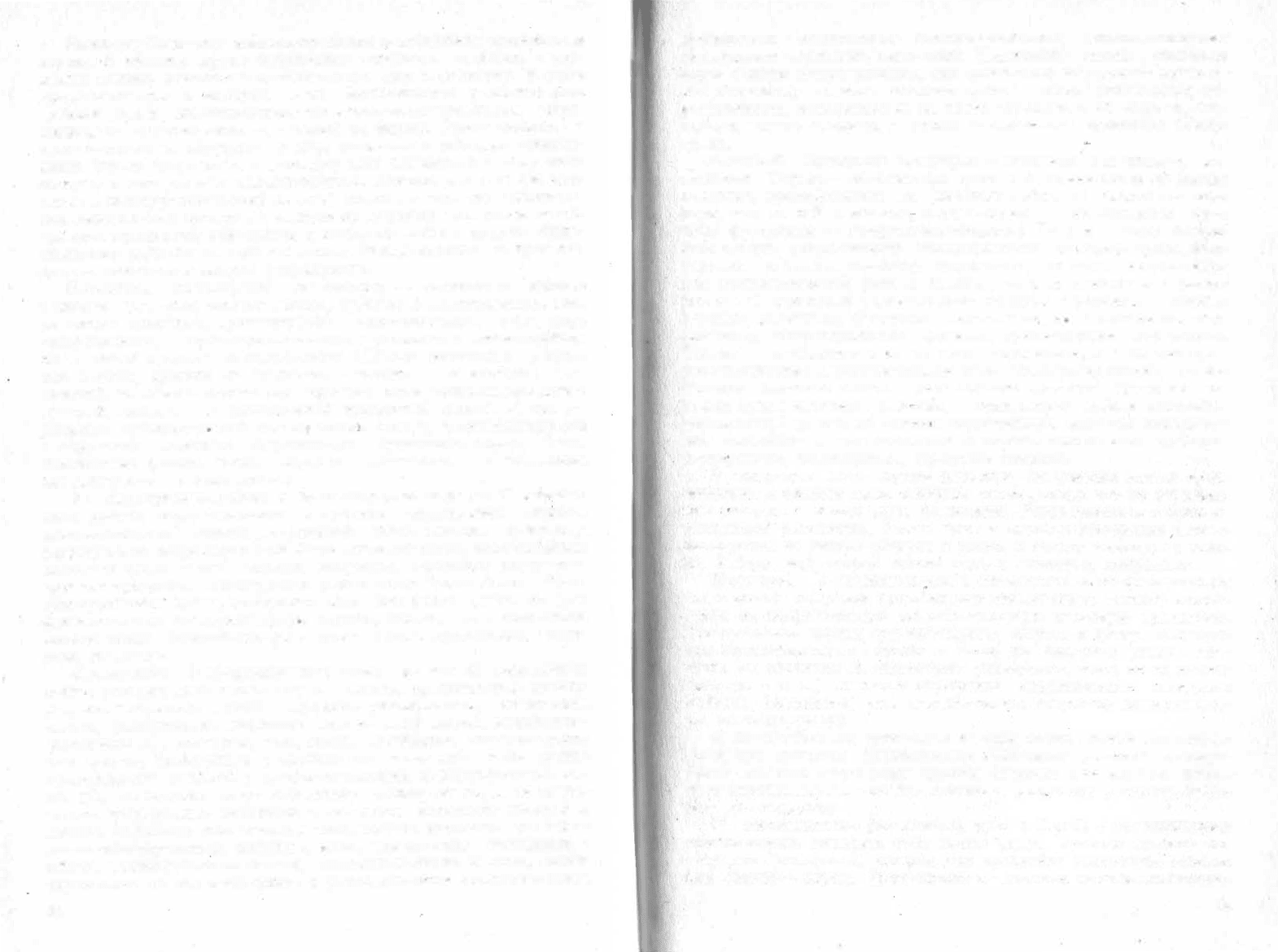
Н
ечто
глу
б
ок
о
родственное проникло в отношения искус
с
тва и
жизни.
В
прежнее время сверхзадача искусства видилась
в
слу
жении вечным ценностям, прио
б
щающим мир к высокому. В наше
время авангарда и модерна, с их
б
есконечными условностями
,
эрозие
й
устоев, немотивированнlЫМ экспериментированием, . отре
шением от гуманистичности, ставко
й
на
ф
орму,
б
езмысленность и
б
ессмысленность, Нс кусство и мир, оказавшис
ь
о
б
оюдно оплеван
ными
(
кредо дадаиз ма
)
, с р
'
азвернутыми знаменами в ногу мар
шируют в яму чего-то маЛQД,ОСТО
Й
НОГО.
В
ажное для нас
(
не 'пус
каясь в культурологически
й
анализ
)
состоит в том, что повсемест
ная девальва
'
ция ценносте
й
, подрыв ]{ультурных а
б
солютов, мани
пуляция правилами о
Б
ежития
в
·качестве осо
б
ого модуса сущ
е
ствования подняли на щ
ит
имитацию,
З
аl(аНЧИается выпуск
ще
девров, начинается выпуск репродукции
.
Н
аглядная иллюстрация сказанному - творческа
я
м
а
нера
ташизма,
дадаизма, дивижионизма, ку
б
изма
(
заимств'ованная
сов
ременным диза
й
ном, архитектуро
й
)
, разваливающих
саму идею
отстраненного,
противопоставленного реальности
произведения.
Е
сли лю
б
о
й
предмет ПОl3седневности
(д
ЮШ3'н l3ыставлял в
с
ало
нах
лопаты, крыш[(Н от унитазов
)
- предмет
эстетическо
г
о вос
приятия, то о
б
ъект творчества перестает
б
ыть специальной конст
рукцие
й
, СМlваясь с
ПОВСeJдневно
й
жизненно
й
средо
й
.
К
анон ут- '
ра
чивает ДуХОПОдqемны
й
регулятивны
й
статут, иденти
ф
ицируется
с заурядным элементом неприметного
б
удничного серого
б
ыта.
В
не
б
ытовые
ф
ОРМIЫ, таким о
б
разом, сращиваются
с
б
ытовьiи,
надо
б
иходные - с о
б
иходными.
От институцион
альност
и
к неинституциональности; С повыше
нием уровня ин
ф
ормированност
и
пу
б
лики
,
опрощением этикета,
демократизацие
й
о
б
щения, сериацие
й
поставляющих процессов,
расширением потре
б
ительско
й б
азы
с
уществования, складыванием
массовых
ф
орм жизн
и
, техники, искусства, переходом на эрзацы,
прогрессированием манипуляции развивает
ся
б
лагодатная почва
для групповых полупро
ф
ессиональных или даже вовсе не про
ф
ессиональных кустарных
ф
орм
(
клу
б
ы, студии
,
самодеятельные
о
б
ъединения
)
.
В
ажне
й
шую роль Зlдесь играют пропаганда, аван
гард, популизм.
П
роnагада.
И
н
ф
ормационна5J атака на массы,
б
есконечная
популяризация достижени
й
науки, техники, производства, культу
ры, многоо
б
разные курсы, народн ые университе1
1
Ы
,
воскресные
школы, КОJlлеJ<тивны
е
двнжения
(
охрана памятников
)
, инициативы
(
краеведение
)
,
конкурсы, олимпиады, состязания, интеллектуаль
ны
е
казино,
б
ре
й
н-рингн
с
критико-аналитическо
й
точкн зрения
представляют aMa�bгaMY про
ф
ессионализма и непро
ф
ессионализ
ма
,
и
б
о
рассчитаны не на подготовку специаЛИСТОВ, а H� опера
тивное подключение населения к тезаурусу.
К
онечным продуктом
выхода подо
б
ного подключения оказываются духовные эрзацы -
неквали
ф
ицированные мнения о мире, чувственные отношения к
истине, недискурсивные знания,
опера
ц
иональные наВЫI\II. ориен
тированные
на
нере
ф
лективное
и
репродуктивное ком
б
инирование
30
предметами, сведениями, технологичес,кими
,
терапевтичеСК!iLVI И
методиками, оценками
,
взглядами.
Н
асыщение жизни знаниями
через каналы популяризации, где
о
рганично
е
внутреннее присвое
ние
подменено летучим внешним прио
б
ретением, подтачивает о
б
разованность,
нацеливает не на нечто глу
б
окое, а на скудное, что.
одн
ако, можно «развить
в лю
б
ом человеческом индивиде»
(
Г
вар
дини
)
.
Авангард.
Э
нтелехия авангарда - НИГИJIЮМ
:
релятивизм, е
ханицизм.
П
ервое - девальвация ценносте
й
,
принижени
е значе
н
ия
наследия, прене
б
режение
им
(
и\де
й
ны
й
па
ф
ос символизма - «по
вернуться спино
й
к жизни»,' сюрреализма - «lIe считаться ни
с
чем»,
ф
утуризма - «творить
б
езо
б
разие»
)
.
В
торое
-
упор на про
извольность, анархическую ассоциативность, самогзыражен
ие,
б
ун
тарство, суггестию, нелепицу,
б
у
фф
онаду, Эllатаж, нагроможде
ние неожиданносте
й
, развал канонов, разрыв ,«)нтактов с реаль
носто. С очевидно
й
релье
ф
ностью это росматриваеТС51 в симуль
танизме,
]
\инетизме,
ф
утуризме, символизме, IIмпрессионизме, сюр
реализме, а
б
стракционизме,
ф
овизме, Ilр"митивизме
,
а
б
сурдизме
.
Т
ретье
-
нацеленность на аJlОГИЗМ, пеРСОllаJ1ЬНУЮ капсулнзацию,
выхолащивание «душещипателыIOСТИ», ком паундирование, произ
вольное смешение стиле
й
,
у"ичтожение традици
й
(ф
утурюм 0
енял прилагательные, наречия, пунктуацню;
]
(у
б
изм упразднял
перспективу
)
В
'ПЛОТ
ь до замены естественного человека
механичес
ким
человеком «с замещаемыми частями», воспевания уродства,
д
исгармонии, милитаризма, «.красоты» насилия.
В
генерации мира «цвета плесени», отвержении
лю
б
о
й
про
б
лематик
и и
сюжета иные заходили столь далеко, что
'
по отрезвле
нии впадали в CiBoero рода паЛИНОИЮ.
Р
аЗУВР
,
Ишись
в су
ъе.к
тивистско
й
революции,
Р
ем
б
о
б
росил поэзию;
М
етерлинк эволю
ционировал от театра а
б
сурда и ужаса к театру надежды
и
поис
ка;
У
а
й
льд под занавес жизни осудил эстетство, аморализм ..
.
ПОnУЛUЗ. С академичес!<о
й
и про
ф
ессионалыю-политическо
й
точек
зрения популизм представляет ПРИМитивную тактику
'
возде
й
ствия на некритическую нетре
б
овательную массовую аудит
о
р
ию.
Р
азыгрывание партии
«ру
б
ахи-парня», «своего
в
доску» посредст
вом иденти
ф
икации с толпо
й
; «я так
о
й
же
,
как вы>>>>
(
живу В хру
що
б
е, ем продукты
из
заштатног
о
универсама, жена не из номен
K
aTypbl и т. п.
)
, показное опрощение
(
ПОJlитичеСI<ОС поведение
Р
е
й
ган а,
М
ака шова
)
есть специ
ф
ическ
ое
ИСКУССТВО I,OM мун икато
ра, имплицируемое:
а
)
неспосо
б
ностью принимать на се
б
я
б
ремя JlИЧIIО
Й
ответствен
ности при u принятии судь
б
оносны
х
державных решеllИ
Й
: эксплуа
тация стаиного стереотипа «чаяния
б
лизкого Mlle lIG1рода» позво
ляет перекладывать или как миниму
м
разделят
ь р
асплату, о
б
ре
тать ручательства;
б
)
ВОЗМОжность
ю
развязывать руки в
б
ор [, б
е с
политическими
противниками
,
вЫводить се
б
я из-под удара: JI)' I\G1вая критика
б
ю
рократии
(
аппарата
)
,
которая как просло
i
"
ll<а опосредуе
т отноше
ния «лидер - народ»
(
регулярные сталински
е
чистки «полнтичес-
31
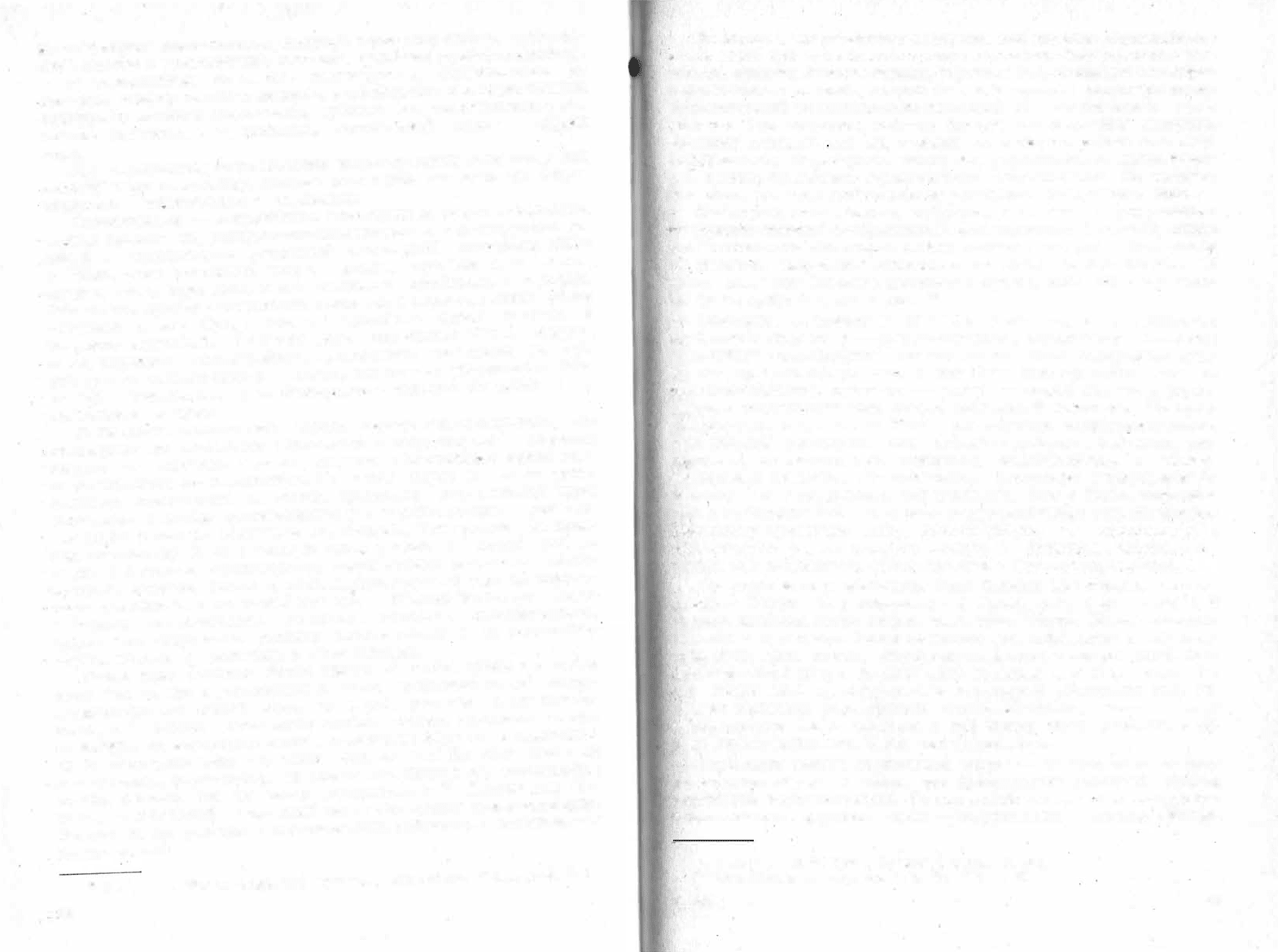
незрелого» чиновничества, допускающего «перегибы», андропов
�
,ские массовые должностные отставки, судеБНlblе разбирательства),
В) стремлением нарастить популярность, вОЗВЫСИВШИС
Ь
, до
«вождя» «неформального лидера», в о
собенности в
н
еоднозначные,
,сумБУРН�Iе периоды социальных
,
гражданских
.
энергетических вы
:бросов, всriлес,
.
КОВ или, напротив, политичеС1КОИ апатии, абулии
масс.
и му как
Пр
и отрешенном теоретическом моделир
?
вании попул з
, способу игры на публику, заИГРlblванию с неи, казалос
ь
бы
,
сопро-
тивляются сциентизация и элитизация.
_
Сциентизация _ непременная всесторонНЯЯ рационально-логи
ческая проработка, дискурсивно-аналитическая
.
реконструкци
:��
�
. лений с выстраивание
м
добротно
й
достоверно и панора
;
ь
�
ии
is Who», развенчиваю�ей мифы, жупелы, артефакты. осс ,
. однако ввид
у
двух причин эта тенденция пребывала в
а::роФИ
:
�
Разум�
ется ,крайняя закрытость общества
.
и
в�
роисповеДНЬ
r
I
;
о
�
�
Р
и
. отеческой жизни. Суть
в
том, что россиискии народ гл)
искренне верующий. ОбъеК11Ы веры подвижны: «Бог»,
«ца
::
>
i
«отец народов» «перестройка», «ускорение», «рефОРМЫ», но Э
р
,
ачалыl00
укорененное.
та
-
как гранит существования -, нечто
,
изн
то
черта российdК10 духа беспар,д!OIННО эксплуа
тировалась
в
на
-
циональной истории.
.
•
в бытност
ь
«единственно вернои марксистско-ленинско
и» все
п
роявления когитальности
облачались
в
тогу «науки»:
«научная
идеология», «научный атеизм», «научно обоснованная линия ком
мунистического строительства». От имени науки как инст�туцио
�
нальн
ог
о м
онополиста на истину проводили репрессивны
и
.
курс,
апелляция к якобы одновозможному воспроизведению деистви
тельности в знан.ии позволяла порабощать. Ток времени не у
:
зме
нил обстановку. В современную
эпоху реформ от имени тои же
нау,КИ в качестве «правильных», «адекватных» подаются «демо
к
ратия» «рынок» которые, правда, фундируются уже не маркси
стско-ле'нинской, ; чикагской школой, «КРИВЫМИ Филипс
.
а». Науке
в России, следовательно
,
отводится странная, несвоиственная
�
пр'ямо-таки сакральная фун,кция, противоречащая ее гносеологи
ч
еским критико-рефлективным обязанностям.
б
Элuтuзацuя. Некогда Моска писал: «В любое время � в лю ом
месте все то что
в
управлении является предписывающеи частью,
о�ущеСТлен�ем власти
,
содержит в себе KOMaДY и ответствен
H�CTb есть всегда компетенция ·особого класса, элементы которо
го мо'гут ... варьироваться самым различным образом В зависимос
.
ти от специфик
и ве
.
ка и страны; однако как бы этот класс ни
складывался, формируется он всегда как ничт
�
жное меньшин
�
во
п
отив подчиненной M массы управляемых» . Вторил
ему
.
и
х
�льс выдвигавший «железный закон олигархических тенденции»
;
Наск�лько
же реаЛЫl а в. современности элитизация политическои
деятельности?
11
М
о
5 С
а G. Teorica deigoverni egoverno parlamentaire. Milano, 1908. Р.
11.
32
Во-первых
, политическое лидерство как явление харизматичес
:кое в наши дни подверглось эрозии: ЛИШИ,лись безусловности, раз
мылись понятия личного вклада, у
т
ратили непреложность категории
:персонального величия, индивидуальной героики; сложился систе
мотехнический командно-коллегиальный тип политической o�гa
низации, где лишенные пиетета лидеры фланкированы многочис
ленным
и спецаМИ
,
замами, помами, советниками,
.
�(онсультантами,
референтами, секретарями, отделами, управлениями, ,кан
целярия
ми, администрациями, учреждениями, сооружениями. За
частоко
.лом ограждающих контор уже не 'разглядеть конкретного лица.
'ВO-BTOPIЫX
, политическо
е
лидерство, вождизм редуцировались
[10 функциональной составляющей. ак подмечает Гвардини, «глав
ная особеннос
ть
нынешнего вождя состоит ... как раз в
том
, что Ofl
не является творческо
й личносты
о
в старом смысле слова... он
.лишь дополняет безликое множеств
о
других, имея и
ную функцию,
Н
О
ту
же сущность, что
и они»
12 .
Сказанное не
позволяет видет
ь в
сциентизации
и элитизации
противовес популизму - преднамеренному корыстному втягиванию
в
.
полити:ку
м
алосведущих не·компетентных ,масс. Водораздел меж
ду элитой и массой условен, может быть намечен сейчас лишь по
частично�ролевому признаку учету реального амплуа
в
управ
лении в соответствующем Л0кусе социальной пирамиды. Не прос
матривается, как
полагал Моска, константных,
запрограммирован
нык каналов расширения элит (военная доблесть, богатство, свя
щенство), не знание, происхождение, квалификация, а высокая
социальная активнос
ть
и адаптивность позволяют
и
нтегрироваться
в элиту. Так что, похоже, заблуждались Янч и Белл, связывав
ши
е с меритократией магистрали государствещlOГО устроительства:
Поскольку правящую элиту конституируют
н
е «достойные,»,
а
«удачливые»
,
то, что ожидает социум в будущем, может уточ
няться как популистски ориентированн'ая функционерократия.
. От революции к эволюции. «Над жизнью [н СУьи», -декла
рировал Ницше. Ему возражал Т. Манн: есть, и это - дух 13. В
данном идейном споре скорее всего прав Ницше. Жизнь самодос
таточна и самоценна. Выше ее ничего нет. Перветво и верховен
ство духа, быть может, сказываются специализированной, про
фессиональной сфере,
но надо быть трезвым: это сфера нарочито
сти, искусственных изощрений. В позитивной реальности духу ни
как н
е уготована роль к
ритика жизни. Напротив, жизнь
-
исход
и завершение любой критики;
в
ней таятся силы
, л
ежащие в ос
нове любых духовных, исторических движений.
. Глубинная логика нормальной жизни - воспроизводство жиз
ни, обеспечение выживания
, что представляет конечны
й
предел
жи
тейской рациональности. Оттого наиболее прочные, надежные,
. сновательные, здравые
л
юди -погруженные
в
стихию обыден-
12 Г В а р Д и н и Р. Конец Нового времени ... С. 196.
13 См.: М а н н Т. Собр. соч. Т. х. М., 1961. С. 371.
3-2002
33
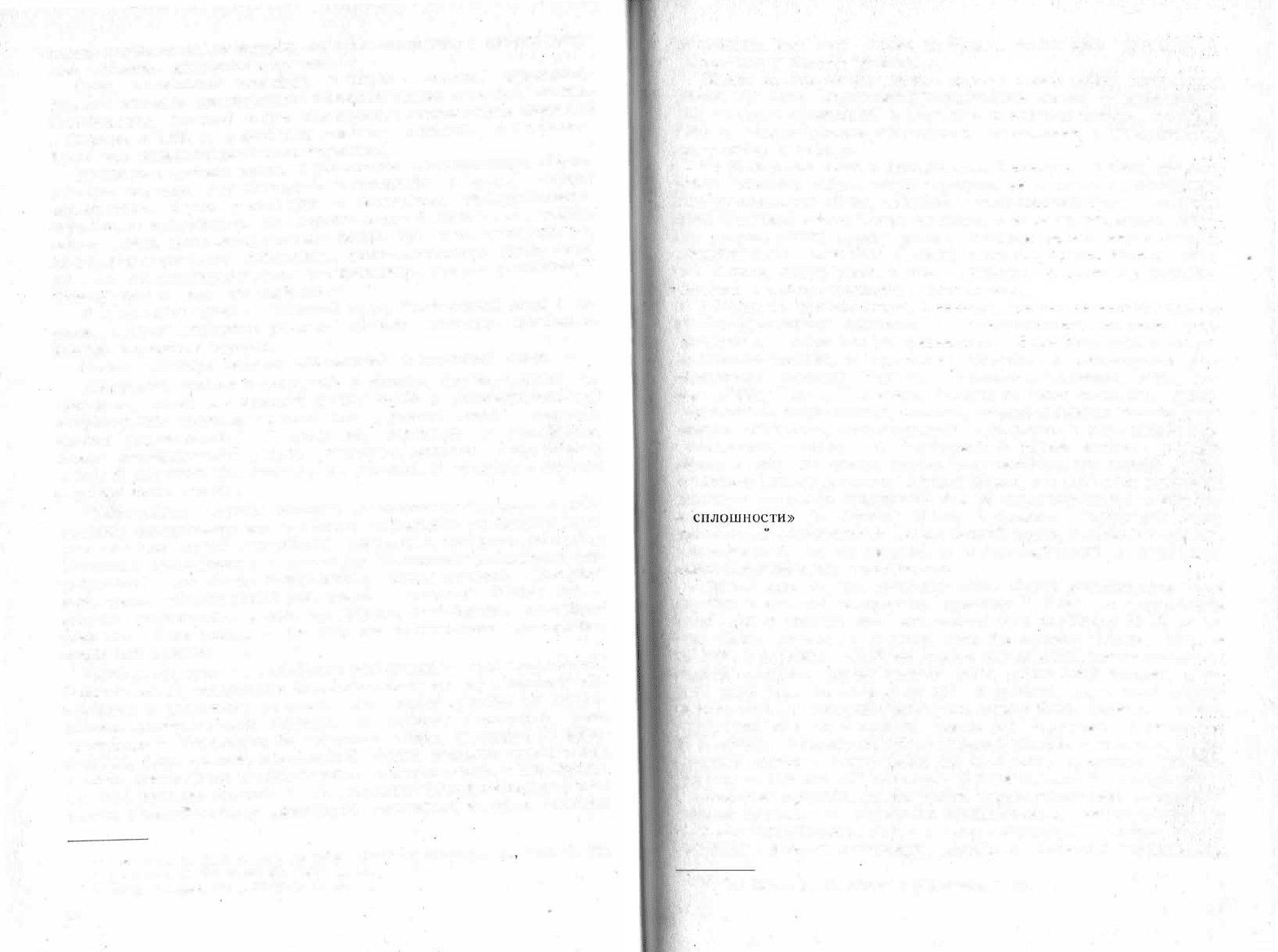
но
сти, повседневности мещане, не «умничающие», а просто живу-
щие «тихими», «малымИ» трудами. .
_
Бунт социальная ненависть в обертке высокои. духовности
рмовой
'
жизнью исключаются. (Зна·енательна «мировая линия
�
Кон-Бендита который начал как
иД
'
еолог студенческ
их в
олнении
в Париж
е
в
'
'19б8 Г., а закончил хозяином магазина в Германии.
Куда как показатеЛЬ,ная трансформация).
.
,
Будничная трезвая жизнь и революция несовместимы. «Циви
-
лизация кнутом», «освобождение гильотиной» (Герцен) отдают
варварством. ПороК революции -
деструкциЯ, обслуживающая
стремление приниматься
за
строительство с tabula rasa, «выжи
гания дотла всего исторического поля», Но поле «с своими
ко
лосьям
и
и
плевелами составляет ... ' непосредственную почву Hap
�
да ...
.
его HpaBcTBeHHYIQ жизнь ... его привычку ... все его утешенье» ..
Покуш�ться на негО невозможНО.
_
В ПРОТИ ВНОМ случае -
т
щетный задор безуспешн
�
и игры с вы-
сок
им, оборачивающийся унылым крахом иллюзии, невозМОЖ
-
ностью обмирщить идеаЛI
.
.
_
_
Нельз
я отрезать tебя от собственнои благодатнои нивы,
«Искусство вполне
равнодушно к фактам, оно
изобрет
а
ет,
'
во
ображает, грезит и
сохран
яе
т между собой
и действит
ельност
�
ю
неп
риступную преграiду красот
Ь
! стиля
, декоративности или
иде
альных
устремлений
»
1
5, С идеалами, отрекаясь
от реальности,
можно
комбинировать в духе (искусство, религия,
мифоло
г
ия
и
т
. д.). в политике же,
опираясь на Р'еволюцию, поступать схо
жим
образом невозможнО.
Не
предвзятая оценка массива фактического
подводит к ожи
даемому
заключению: все «великие» социальные революции окан
чи
вались диктатурой. Английская революция
.
породила диктатуру
Кро
мвеля; французская - диктатуру Наполеона; российская (ок
:
тябрьская) - диктатуру большевиков, зат�м Сталина.
- 2008 — 2025 «СтудМед»
