Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры - Учебное пособие
Подождите немного. Документ загружается.


сидит в тюрьме, то на вершине славы. Наибольшую известность снискали ему две его пьесы: «Севильский
цирюльник» (поставлена в 1775 г.) и «Женитьба Фигаро» (поставлена в 1781 г.). «Женитьбу Фигаро» многие
называли самой революционной из пьес, о ней говорили, что она в большей степени подготовила
Французскую революцию, чем все тома, написанные философами.
В этой пьесе граф Альмавива, которому когда-то (эти события описаны в «Севильском цирюльнике») его
слуга Фигаро помог обрести любимую жену, покушается теперь на невесту самого Фигаро. Фигаро
проявляет чудеса ловкости и спасает невесту от сластолюбивого хозяина. Бомарше вкладывает в уста
Фигаро жесточайшую (по тем временам) критику «высшего сословия» и его пороков. Ниже приводится
знаменитый монолог Фигаро.
666
Нет, ваше сиятельство... думаете, что если вы — сильный мира сего, так уж, значит, и разумом
тоже сильны?.. Знатное происхождение, состояние, положение в свете, видные должности — от
всего этого не мудрено возгордиться! А много ли вы приложили усилий для того, чтобы
достигнуть подобного благополучия? Вы дали себе труд родиться, только и всего. Вообще же
говоря, вы человек довольно-таки заурядный. Это не то что я, черт побери! Я находился в толпе
людей темного происхождения, и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую
осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления
Испанией. А вы еще хотите со мною тягаться... Какая у меня, однако, необыкновенная судьба!
Неизвестно чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал
к ним отвращение и решил идти честным путем, и всюду меня оттесняли! Я изучил химию,
фармацевтику, хирургию, и, несмотря на покровительство вельможи, мне с трудом удалось полу-
чить место ветеринара. В конце концов мне надоело мучить больных животных, и я увлекся
занятием противоположным: очертя голову устремился к театру. Лучше бы уж я повесил себе
камень на шею. Я состряпал комедию из гаремной жизни. Я полагал, что, будучи драматургом
испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета. В ту же секунду некий посланник...
черт его знает чей... приносит жалобу, что я в своих стихах оскорбляю блистательную Порту,
Персию, часть Индии, весь Египет, а также королевства: Барку, Триполи, Тунис, Алжир и
Марокко. И вот мою комедию сожгли в угоду магометанским владыкам, ни один из которых, я
уверен, не умеет читать и которые, избивая нас до полусмерти, обыкновенно приговаривают: «Вот
вам, христианские собаки!» Ум невозможно унизить, так ему отмщают тем, что гонят его. Я пал
духом, развязка была близка: мне так и чудилась гнусная рожа судебного пристава с неизменным
пером за ухом. Трепеща, я собираю всю свою решимость. Тут начались споры о происхождении
богатств, а так как для того, чтобы рассуждать о предмете, вовсе не обязательно быть его
обладателем, то я, без гроша в кармане, стал писать о ценности денег и о том, какой доход они
приносят. Вскоре после этого, сидя в повозке, я увидел, как за мной опустился подъемный мост
тюремного замка, а затем, у входа в этот замок, меня оставили надежда и свобода. (Встает.) Как
бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился один из этих временщиков, которые
так легко подписывают самые беспощадные приговоры, — очутился тогда, когда грозная опала
поубавит в нем спеси! Я бы ему сказал... что глупости, проникающие в печать, приобретают силу
лишь там, где их распространение затруднено, что где нет свободы критики, там никакая похвала
не может быть приятна и что только мелкие людишки боятся мелких статеек. (Снова садится.)
Когда им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны, а так
как есть
667
хочется не только в тюрьме, но и на воле, я опять заострил перо и давай расспрашивать всех и
каждого, что в настоящую минуту волнует умы. Мне ответили, что, пока я пребывал на казенных
хлебах, в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных,
и что я только не имею права касаться в моих статьях власти, религии, политики, нравственности,
должностных лиц, благонадежных корпораций, Оперного театра, равно как и других театров, а
также всех лиц, имеющих к чему-либо отношение, — обо всем же остальном я могу писать
совершенно свободно под надзором двух-трех цензоров. Охваченный жаждой вкусить плоды,
столь отрадной свободы, я печатаю объявление о новом повременном издании и для пущей
оригинальности придумываю ему такое название: Бесполезная газета. Что тут поднялось! На меня
ополчился легион газетных щелкоперов, меня закрывают, и вот я опять без всякого дела. Я был на
краю отчаяния, мне сосватали было одно местечко, но, к несчастью, я вполне к нему подходил.
Требовался счетчик, и посему на это место взяли танцора. Оставалось идти воровать. Я пошел в
банкометы. И вот тут-то, изволите ли видеть, со мной начинают носиться, и так называемые
порядочные люди гостеприимно открывают передо мной двери своих домов, удерживая, однако ж,
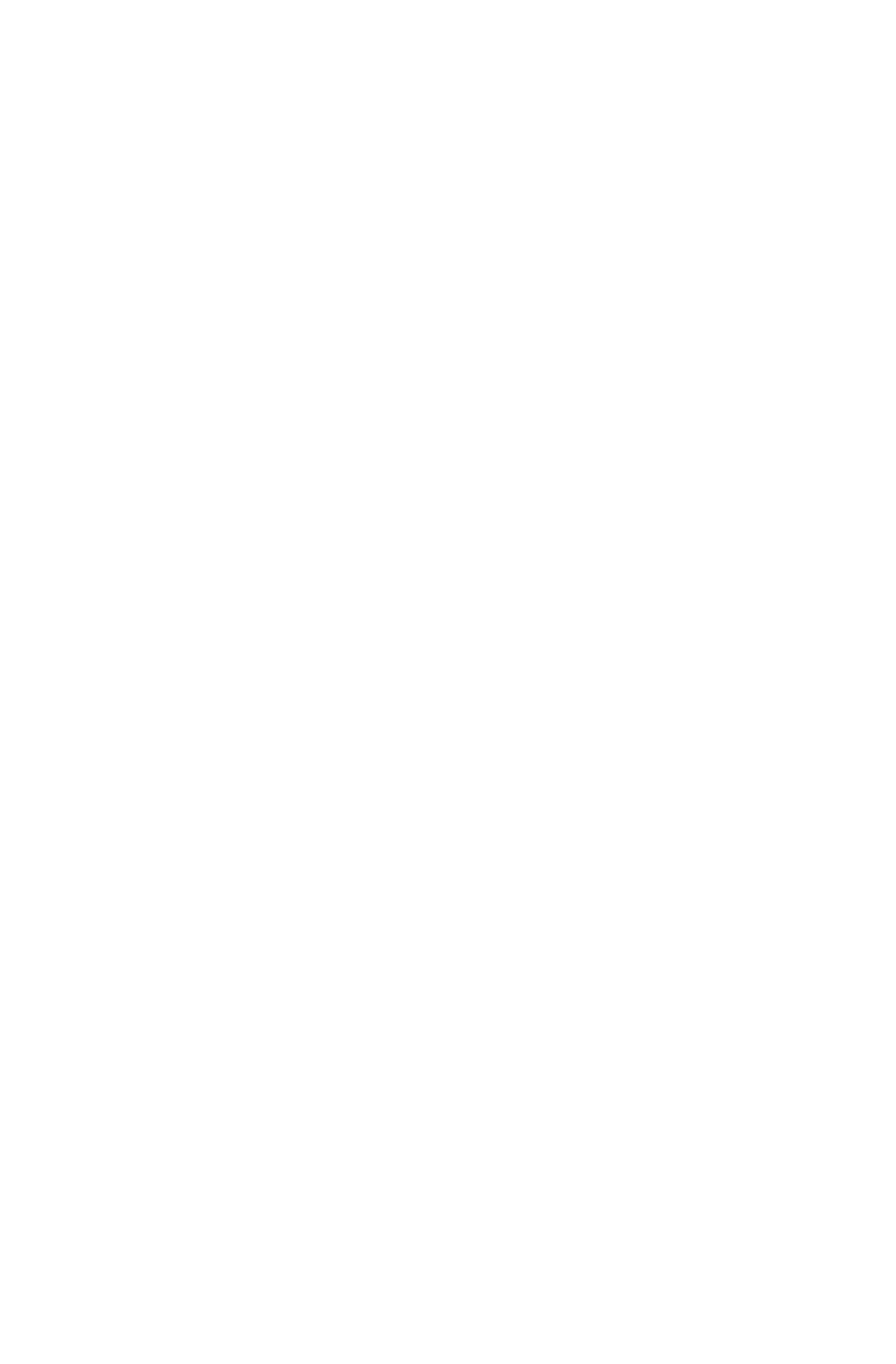
в свою пользу три четверти барышей. Я мог бы отлично опериться, я уже начал понимать, что для
того, чтобы нажить состояние, не нужно проходить курс наук, а нужно развить в себе ловкость
рук. Но так как все вокруг меня хапали, а честности требовали от меня одного, то пришлось
погибать вторично. На сей раз я вознамерился покинуть здешний мир, и двадцать футов воды уже
готовы были отделить меня от него, когда некий добрый дух призвал меня к первоначальной моей
деятельности. Я снова взял в руки бритвенный прибор и английский ремень и, предоставив дым
тщеславия глупцам, которые только им и дышат, а стыд бросив посреди дороги, как слишком
большую обузу для пешехода, заделался бродячим цирюльником и зажил беспечною жизнью. В
один прекрасный день в Севилью прибыл некий вельможа, он меня узнал, я его женил, и вот
теперь, в благодарность за то, что я ему добыл жену, он вздумал перехватить мою!
(Бомарше. Женитьба Фигаро. С. 312—316)
О театре и нравах К числу главных развлечений эпохи абсолютизма
принадлежит и театр...
Этим целям и служили комедия и фарс, содержание которых было часто не чем иным, как
драматизированной порнографией и притом часто порнографией грубейшего сорта, о которой мы
в настоящее время едва можем себе составить представление. Англичанин Дж. Колльер начал
свой памфлет против царящей на сцене безнравственности, изданный им в 1698 г., не без
основания следующими словами: «Так как я убежден, что в наше время нигде не господствует в
такой мере безнравствен-
668
ность, как в театрах и игорных домах, то я не сумею лучше использовать свое время, как
направляя против нее свое сочинение».
Эта оценка вполне приложима к театру всех стран, то есть к большинству пьес, которые особенно
нравились публике. Стиль большинства комедий и фарсов, даже более приличных, лучше всего
можно охарактеризовать тем, что в них обыкновенно речь идет лишь о мимической перифразе
флирта, начинавшегося дерзкими жестами и грубыми ласками и заходившего даже дальше
полового акта... Обычным содержанием всех комедий было Avant, Pedant и Apres акта со всеми их
случайностями, разочарованиями и — в особенности — триумфами. В более серьезных пьесах на
особенный успех могли всегда рассчитывать сцены насилия. Главной задачей автора было не
только как можно больше приблизиться к действительности, но и как можно больше подчеркнуть
гротескным преувеличением каждую эротическую ситуацию и каждый эротический вариант. Если
слов было недостаточно, то жест и мимика должны были быть тем откровеннее, кроме того, они
должны были рельефнее оттенять каждое слово.
Что эти мимические жесты стояли в центре внимания, видно хотя бы уже из того, что главным
действующим лицом всегда была одна и та же фигура — арлекин, преимущественно
отличавшийся такими сальностями. Чтобы иллюстрировать характер мимики одним классическим
примером, упомянем, что один из излюбленнейших трюков арлекина долгое время состоял в том,
что в момент любовного объяснения или других пикантных положений он неизменно терял на
сцене штаны. Родиной этих мимических и словесных скабрезностей была Англия, откуда они
зашли и в Германию. Развитие в сторону открытого цинизма совпало здесь, как и во Франции и
Италии, с развитием абсолютизма.
Первоначально единственными актерами были мужчины, исполнявшие также женские роли. Это
вполне отвечало стилю и гротескным намерениям фарса. Мужчина в женской роли мог гораздо
сильнее отвечать на дерзкие авансы партнера или же ограждать себя от них. Однако в один
прекрасный день выяснилось, что без женщины-актрисы не обойтись... Это произошло во второй
половине XVII в., сначала в Англии, в 1660 г., потом во Франции и около того же времени и в
Германии.
И женщина как нельзя лучше выполняла предъявленные к ней «утончившимся» вкусом
требования, и прежде всего в Англии. Об английских комедиях эпохи Реставрации и исполнявших
в них женские роли актрисах говорит Маколей в своей истории Англии: «Эпилоги отличались
крайней разнузданностью. Их произносили обыкновенно наиболее популярные актрисы, и ничто
так не приводило в восхищение испорченную публику, как если самые скабрезные стихи произно-
сились красивой девушкой, о которой все были убеждены, что она еще невинна»...
669
Серьезный поворот от этого господства на сцене скабрезности произошел только тогда, когда
буржуазные идеи победили и в жизни. Там, где это случилось раньше, и театр раньше был очищен
от грязи и сальностей.

Наряду с комедиями и фарсами особенно привлекали публику танцы и балет. Одно время они
даже возбуждали в ней еще больший восторг, чем драматизированные в комедии сальности, так
что в каждой даже небольшой труппе комедиантов имелась пара танцоров, а в более значительных
— и целый балет...
История театра всех стран рассказывает о настоящих оргиях, устраивавшихся в этих ложах во
многих театрах. В романе «Английский шпион» говорится, что однажды, когда в одном из
парижских театров произошла паника, вызванная пожаром, и публика темных лож была извещена
о грозящей опасности, то в некоторых из них все дамы оказались голыми, «если только
галантность не требует назвать даму одетой, раз она в чулках и башмаках».
(Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Галантный век. С. 459—463)
Музыка
XVII—XVIII вв. — это время расцвета музыкальной культуры. У истоков ее стоят Иоганн Себастьян Бах
(1685—1780 гг.) и Георг Фридрих Гендель (1685—1759 гг.). Величайший вклад в развитие музыки внесли
так называемые «венские классики»: Йозеф Гайдн (1732—1809 гг.), Вольфганг Амадей Моцарт (1756—
1791 гг.) и Людвиг Ван Бетховен (1770—1827 гг.). Музыка венских классиков по своему характеру в целом
близка к классицизму. Крупнейшим представителем классицизма в опере был Кристоф Виллибальд Глюк
(1714-1787 гг.).
Архитектура и строительство
В истории архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства XVII—XVIII вв. ведущими
являются три стиля: барокко (от итальянского — «причудливый»), возникший еще в конце эпохи
Возрождения,рококо (от французского — «раковина»), пришедший на смену барокко примерно в 30-е годы
XVIII в., и классицизм — этот термин часто применяют для обозначения стиля, сложившегося только в
конце XVIII — начале XIX в., но ряд исследователей говорят и о классицизме конца XVII—XVIII в.
Искусство барокко Искусство барокко возродило некоторые общие
признаки ренессансной культуры — ее широкий
утверждающий характер, энергичный оптимизм, цельный, последова-
670
тельный взгляд на мир, приверженность к ансамблю и синтезу искусств. При этом выявляется
иной пафос барокко, строящийся на напряженных контрастах, антитезах, драматическом
противоположении земного и небесного, реальности и фантазии, духовного и телесного, изыс-
канного и грубого, аристократического и народного. Из этих антитез рождается патетически
приподнятый тон прославления, превознесения, переплетения крайностей, бурной динамики,
безудержных гипербол, захватывающих страстей и внезапных аффектов. Барокко утвердилось в
пору интенсивного складывания наций и национальных государств. Но не буржуазная Голландия
и не абсолютистская Франция стали центрами рождающегося барокко. Этот стиль расцвел сначала
в странах, где господствовала землевладельческая знать, где торжествовали феодальная реакция и
католицизм, где основная масса народа была крестьянской массой. Такими странами были Италия,
Фландрия, Испания и Португалия, Южная Германия, Австрия. Отсюда барокко распространялось
в страны Нового Света, на север Германии, в Скандинавию, Восточную Европу...
...Особенно характерны для барокко живописность и иллюзорность, балансирование на грани
реального и воображаемого, стремление к обману глаз, к выходу из изображенного пространства в
реальное пространство, где находится зритель, к слиянию видов искусств, образующих
торжественное эффектное зрелище, монументально-декоративное единство, поражающее своим
размахом воображение. Улица, площадь, городской ансамбль с фигурными площадями, с веером
расходящихся улиц, с привольно раскинувшимися, широкими, как бы растекающимися
лестницами, парковые ансамбли с дворцами, с чередованием террас, нимфеев, водоемов, гротов
или же с геометрическими узорами зеленых партеров и бассейнов, с подстриженными деревьями и
боскетами — все это стало пониматься как стройно организованное развивающееся в
пространстве целое, многообразие которого раскрывается зрителю при движении по ансамблю.
Дворцы, виллы, церкви барокко благодаря сложным, часто криволинейным, планам и очертаниям,
слитности как бы подвижных, текучих форм, роскошной, причудливой пластике фасадов, обилию
архитектурных и скульптурных украшений, беспокойной игре светотени приобретают
живописность и изменчивость; завязывается сложное взаимодействие динамичной массы бароч-
ных сооружений и бесконечного мирового пространства. Особенно великолепны парадные залы и
внутренние лестницы: архитектура здесь сливается с многоцветной скульптурой, лепкой, резьбой;
зеркала и росписи создают иллюзию бесконечно расширяющегося, не имеющего границ
пространства, расписные потолки-плафоны изображают разверзшиеся своды, где среди облаков
теснятся многочисленные летящие фигуры. Столь же бурного движения, напряженных контрастов

света и тени, масштабов, ритмов, материалов и фактур исполнены скульпту-
671
ра и живопись барокко, где все дышит, движется, как бы меняется на глазах.
(Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII в. С. 23—25)
Барокко, рококо Стиль барокко — художественное отражение кня-и абсолютизм жеского
абсолютизма, художественная формула величия, позы, представительности. Абсолютизм создал
особый стиль дворцовых построек. Дворец уже не крепость, как в Средние века, пробуждающая в
обитателях чувство безопасности от нападений и неожиданностей, а низведенный на землю
Олимп, где все говорит о том, что здесь обитают боги. Обширная передняя, огромные залы и
галереи. Стены покрыты сверху донизу зеркалами, ослепляющими взоры. Без зеркал не могут
обойтись ни поза, ни жажда предста-вительствования. Ничто не должно быть скрываемо; все
должно стать выставкой богоподобия — даже сон государя. Сады и парки, окружающие на
значительном расстоянии дворец, выстроенный в стиле барокко, — сверкающие поляны Олимпа,
вечно смеющиеся и вечно веселые. Весна превращена в отягченную плодами осень, зима
становится напоенным ароматами летом. Опрокинуты все законы природы, и только воля
государя повелевает ею...
Выше монарха ни в идее, ни на практике нет никого. Вот почему дворец в стиле рококо,
последнего звена в развитии архитектуры эпохи абсолютизма, всегда одноэтажен, ибо никто не
должен и не может стоять или ходить над его головой: он — церковь, идея божества в переводе на
мирской язык. В лице абсолютного государя на земле шествует само божество. Отсюда
великолепие, отсюда золотом сверкающая пышность, в которую облекается абсолютный монарх.
Золото и драгоценные каменья — его одежда; золотом и блеском сверкает ливрея его придворных
лакеев. Из золота сделаны: стул, на котором он сидит, стол, за которым он обедает, тарелки, с
которых он ест, приборы, которыми он пользуется. Золотом и серебром затканы занавески над его
ложем, обои на стенах. Со, всех сторон, заливая его своим блеском, окружает его золото. Золотом
украшена упряжь его лошадей, и он едет по улицам города в золотой колеснице. Вся его жизнь,
весь его придворный штат облачены в золото. Все залито светом, а свет стал золотым.
Ослепительно сияют тысячи свечей в его хоромах в праздничные дни, и все снова и снова
отражают покрытые зеркалами стены. Он сам есть свет, и вот почему он всегда окружен светом.
Этим объясняется также чопорный, до мельчайших подробностей предусмотренный церемониал,
которым обставлена каждая услуга, оказываемая ему с момента пробуждения и до минуты
погружения в сон. Этот церемониал превращает самое ничтожное действие в акт первостепенной
государственной важности, лишает даже самую противную услугу ее унизительного характера.
Ежедневный присмотр за убор-
672
ной французских королей — почетная должность, исполняемая доподлинным герцогом. Вот
почему государь далее постоянно окружен плеядой придворных. Одинок только ничтожный и
бессильный. Знаку всемогущего повинуется вся Вселенная. Придворные — вестники его
могущества.
(Фукс Э. Иллюстрированная энциклопедия нравов: Галантный век. С. 13—15)
Искусство клас- Классицизм — законная гордость французской сицизма культуры XVII
века; он свидетельствует о порази-
тельной целеустремленности ее корифеев. Философия Декарта поставила краеугольным камнем
мироздания мысль, а его дедуктивный математический метод мышления позволял как бы вос-
создать идеальную логическую конструкцию вселенной и человеческой природы. Классические
драмы Корнеля дали обществу программу, ставящую выше всего разум и долг, интересы общества
и государства. Наконец, Пуссен стал создателем наиболее универсальной доктрины классицизма,
связывающей идеалы красоты, истины и добра с разумом, закономерностью, целесообразностью и
справедливостью. Этот триумф рационализма, безграничной веры в организующие силы разума не
приходится, однако, на время расцвета абсолютизма, экономической и политической
стабильности.
(Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII в. С. 27)
Изобразительное искусство
Семнадцатый век — одна из наиболее грандиозных эпох во всей истории искусства. Располагаясь
между эпохой Возрождения, обнимающей примерно три века, с XIV по XVI, и эпохой
Просвещения — XVIII веком, она не уступает им ни в своем историческом значении, ни в обилии
великих художников и бессмертных шедевров. При этом лишь условно можно было бы

рассматривать XVII век как время перехода от Возрождения к Просвещению, хотя он
действительно многое унаследовал от первого и завещал второму. В целом XVII век —
совершенно самостоятельная фаза в развитии мировой художественной культуры, обладающая
своими неповторимыми особенностями в мировоззрении, общественном и культурном укладе,
образном мышлении. Караваджо и Бёрнини, Веласкес и Рембрандт, Рубенс и Пуссен, Франс Хальс
и Якоб Рейсдаль, Ян Вермер и ван Дейк — далеко не все из великих имен, определяющих
непреходящее значение искусства XVII века. Многие из них чрезвычайно внимательно изучали
живопись Возрождения: это яснее видно в картинах Рубенса и Пуссена и не столь явно в больших
•673
полотнах Рембрандта и Веласкеса. Живописцы XVIII века в свою очередь часто отталкивались от
своих предшественников. Гойя многим обязан Веласкесу; Ватто, Буше и Фрагонар — Рубенсу,
Давид — Пуссену. Этой связью эпох лишь подчеркивается особое значение культуры XVII века,
оказавшей и продолжающей оказывать мощное воздействие на всю культуру человечества. В XVII
веке, открывающемся творчеством Шекспира и Сервантеса, увидели свет философские системы
Фрэнсиса Бэкона, Декарта и Спинозы, трагедии Корнеля и Расина, комедии Мольера, поэмы
Мильтона, оперы Монтеверди. Не все искусства пережили столь блестящий расцвет в XVII веке;
так, декоративная скульптура явно имела больше успеха, чем станковая, пришла в упадок гравюра
на дереве, вытесненная офортом и резцовой гравюрой на меди. Но в целом поразительны
расширение кругозора, обогащение старых жанров, возникновение новых и — говоря шире —
необычайно интенсивная художественная деятельность. Возникли наиболее величественные и
цельные архитектурные ансамбли, как площадь Святого Петра и Пьяцца дель Пололо с трезубцем
расходящихся улиц в Риме, Версальский дворец французских королей с грандиозным парком и
скульптурными композициями.
Распространению пышных росписей, панно и многофигурных холстов сопутствует интерес
к.углублению в душевный мир человека, в мир природы, в предметный мир, что вызвало
небывалый расцвет станковых форм живописи и интимной графики. Никогда еще так разителен не
был контраст искусства официального, полного велеречивого пафоса, и последовательного,
глубокого реализма, проникнутого сильнейшими демократическими устремлениями. Вместе с тем
никогда еще эти два направления, отчетливо выявившиеся уже к концу XVI века, не
переплетались так сложно между собой, присутствуя почти неразделимо, скажем, в творчестве
Рубенса. Это и было естественно в период, когда складывались новые формы общественного
строя, сталкивались и приучались к сосуществованию феодально-монархические государства и
буржуазные республики, до того непримиримые вероучения, философские доктрины, вековые
традиции и небывалые новшества.
(Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII в. С. 6—7)
Изобразительное ...Наступление эпохи Регентства — правление Фи-искусство
липпа Орлеанского, стоявшего у власти до совер-
Франции XVIII в. шеннолетия своего племянника Людовика XV, -внешне выглядит
резкой сменой декораций. Прежняя атмосфера удручающей скованности, ханжества,
педантизма сменяется открытым разгулом, оргиями, презрением к любым приличиям, -
слово «Регентство» надолго становится синонимом предельно развращенной и циничной
эпохи. Но как ни внезапен этот перелом, он
674
остается только наружным: за непрерывными праздниками, карнавалами, пьянством и азартом
картежной лихорадки скрываются все те же опустошенность, безволие, безразличие.
Современники начинают все тревожнее ощущать их, пытаясь осмыслить духовный кризис, па-
рализующий страну, и найти из него выход.
Эта короткая противоречивая эпоха легкомысленных маскарадов и нарастающего беспокойства
выдвигает на сцену одного из лучших художников во всей истории французского искусства —
Жана-Антуана Ватто (1684—1721). Его короткая жизнь была драматичной: в юности ему довелось
пережить все лишения начинающего художника, пришедшего в Париж пешком, без денег, без
работы, без покровителей; но даже и завоевав известность, он продолжает страдать от постоянной
неудовлетворенности собой, от одиночества, наконец, от болезней. Эту вечную тревогу и
беспокойство он переносит в свое творчество, делая его таким личным, таким исповедующимся
перед зрителем, что во всем столетии ему можно в этом найти лишь одну параллель — Жан-Жака
Руссо. Но Руссо неизмеримо сильнее и цельнее его, Ватто выглядят рядом с ним раздвоенным,

мятущимся, принадлежащим и старому, уходящему веку, и приближающейся эпохе обновления.
Ватто известен прежде всего как мастер «галантных празднеств»... Влюбленные кавалеры и дамы
танцуют, музицируют или прогуливаются в парках, на лугах, дворцовых верандах (Ватто
ненавидит замкнутость интерьера и упорно избегает ее). Композиция картины лишена
устойчивости: группы или отдельные фигуры расходятся в разные стороны, то устремляются в
глубину, то, нарушая невидимую черту, разделяющую картину и зрителя, обращаясь прямо к нему
с жестами или взглядами. Это чувство зыбкого, неуловимого и непрекращающегося движения
передается самой живописи. Краски Ватто, мерцающие и струящиеся, переливаются друг в друга,
свет не падает единым потоком, а разбивается на сотни дрожащих бликов и рефлексов. Все это
создает изысканную и грустную феерию, невольно внушающую мысль о тревоге и неуверенности
художника перед действительностью...
(Кантор А.М., Кожина Е.Ф., Лифшиц НА., Зернов Б А., Воронихина Л.Н., Некрасова ЕА. Искусство XVIII
века. С. 77—89)
Об искусстве Впервые заявив о себе к 1720-м годам, оно (рококо. —
рококо Сост.) бурно развивается в следующие десятилетия
и достигает высшего подъема в середине столетия, когда подчиняет себе все французское
искусство. Рококо завоевало не слишком почетную и не вполне заслуженную репутацию
изысканного, манерного, самого эфемерного и легковесного стиля в истории искусства. Внешне
такое представление о нем закономерно. Действительно, рококо складывается под сильнейшим
влиянием аристократии. В нем причудливо соединяются гедонизм, пресыщенность, откровенная
фри-
675
вольность, тяготение к экзотике, пренебрежение ко всему разумному, конструктивному,
естественному, нарочитые алогизмы, парадоксальность, но и высшая утонченность, блистательная
художественная культура, неисчерпаемая изобретательность. Казалось бы, искусство рококо,
отгороженное от проблем эпохи, замыкается в кругу рафинированного эстетизма.
И все же видеть в рококо только легкомыслие и гедонизм — значило бы повторить знаменитую
ошибку, совершенную в конце века аристократией и самой Марией-Антуанеттой, которые с
восторгом играют «Свадьбу Фигаро», не замечая за каскадами остроумных шуток, фарсовых
ситуаций, немыслимых поворотов сюжета грозной сути монологов графского камердинера. Ибо
рококо — не прихоть аристократии: главной творческой силой здесь выступают поиски новых
путей переломной эпохой. Не удивительно, что после долгих лет застоя — последней трети XVII и
начала XVIII века — Франция не в состоянии сразу дать своей культуре положительную
программу. Она начинает с отрицания. За своеволием и анархичностью рококо кроется дерзость и
независимость воображения, идущего наперекор не столько разумным, сколько привычным и
бесплодным нормам. Даже тогда, когда рококо выглядит неудержимой фантастической игрой,
внутренне оно не порывает со здравым смыслом...
Мебель, посуда, предметы утвари не только украшены расточительно и изобретательно, они сами
превращаются в украшения благодаря своим причудливым формам..., но как ни маскируется в них
полезное начало, мастер никогда не позволит себе им пренебречь: все эти вещи максимально
удобны... В это время расцветает искусство изящной моделировки и яркой сочной росписи
«мягкого» фарфора на мануфактурах в Шантийи (1725—1801), Венсенне (1738— 1756),
знаменитом Севре (с 1756 г.); мебельщики создают все новые типы легкой, свободной и изящной
мебели, как никогда подчиняясь требованиям быта. Вошли в моду экзотические мотивы, особенно
китайские («шинуазери»).
Новый стиль оказывается во власти острого противоречия: чуткость к здравому смыслу и
практическому назначению сталкивается с их маскировкой. Художник как бы старается убедить
себя и зрителя, что искусство — это стихия беспредельной игры фантазии, что единственно
возможная в нем интонация — это насмешливая ирония, отрицающая все серьезное, что реальный
мир ограничен одной чувственностью, либо в грубо материальных, либо в рафинированно-
отвлеченных формах. Однако все эти формулы следует рассматривать не только сами по себе, но и
как дерзкую, сознательно заостренную полемику против ходульной академической традиции. И в
этом качестве они играют полезнейшую роль: освобождают искусство от предрассудков, приучая
его ориентироваться не на абстрактные доктрины, а на требование и вкус современника. Это
установление живого контакта со зрителем
676
было одним из величайших завоеваний рококо, немедленно подхваченным эпохой. Совсем не
случайно Монтескье перенес в «Персидские письма» заимствованную у этого стиля нарядную

экзотику восточного маскарада: она ничуть не заслонила глубоких размышлений автора о судьбах
Франции или о правах человека и лишь придала этим размышлениям доступность,
увлекательность. Если бы вслед за Монтескье Вольтер, Гельвеции и даже Дидро не заговорили о
самых серьезных проблемах философии, морали, эстетики с такой же блестящей легкостью и
непринужденным остроумием, эти проблемы никогда не стали бы достоянием столь широкой
аудитории. Дерзкий скепсис рококо преломлялся в сознании лучших его современников как
независимость мысли; умение превратить все вокруг в источник удовольствия становилось в
руках тех же современников магнитом, который сообщал притягательную силу идеям, прежде не
занимавшим широкую публику, но теперь вдруг властно охватившим ее. Как ни много парадоксов
заключено в самом рококо, величайшим парадоксом оказалась его историческая судьба: этот
легкомысленный, изысканно-аристократический стиль подготовил почву для мощной
демократической эпохи Просвещения...
Демонстративное легкомыслие рококо нередко оборачивается... внутренней неуверенностью и
тревогой. Даже в знаменитом девизе эпохи — «после нас хоть потоп» — за самоуверенной
бравадой ясно ощущается предчувствие чего-то угрожающего — неопределенного, но страшного
«потопа». Правда, такие тревожные предчувствия почти всегда непроизвольны: сознательная
программа рококо — это жизнерадостная стихия праздника, не знающего конца. Вероятно, нигде,
если не считать прикладного искусства, она не вылилась с такой яркостью, как в живописи.
Здесь, безусловно, первое место должно быть отведено Франсуа Буше (1703—1770). Это очень
талантливый мастер, одаренный и чувством колорита, и виртуозной точностью рисунка, и редкой
композиционной изобретательностью. Его ранние пейзажи обаятельны своей тонкостью живописи
и мягкой элегичностью настроения. Но Буше никогда не отличался артистической
независимостью и самобытностью: свои первоклассные качества художника он легко подчинял за-
казчику или моде. Начиная с выбора сюжета, он следовал стереотипу, уже выработанному
современным вкусом. «Пастушеская сцена» или «Купание Дианы»... бесконечные апофеозы и
триумфы — Венеры, Аполлона, Галатеи, аллегории, разыгрываемые детьми или обнаженными
амурами, — такие мотивы он без конца варьировал в том нарядно-салонном духе, который
вызывал негодование Дидро и восторг аристократической публики.
Картина Буше уже не подчиняется законам станковой живописи. Она становится прежде всего
декоративным панно, украшением ин-
677
терьера. Поэтому автор заботится не столько о художественной цельности полотна, сколько о его
внешней эффектности и красочности. На стенах сегодняшних музеев его картины — например,
многочисленные варианты «Триумфа Венеры» и «Туалета Венеры»... — бесконечно проигрывают:
их цветовая пестрота, хаотичность и загроможденность композиции, однообразие типов и
аксессуаров бросаются в глаза; но если представить себе, как органично и живо входили такие
вещи в интерьер эпохи рококо, в салоны парижских отелей де Субиз, де ла Беродь-ер, сразу же
становясь в них красивым, звучным акцентом, мы легко поймем огромный успех Буше у
современников...
Однако подлинное обновление портретного жанра окончательно совершает лишь Морис-Кантен
Латур (1704—1788). Это и большой художник и яркая личность, всеми своими качествами
знаменующая громадные сдвиги в положении художника, во взглядах на искусство. Латур полон
гордого сознания своего таланта, своей значимости, ценности своего творчества: он не только не
чувствует себя слугой аристократов, делающих ему заказы, но держится с ними независимо и дер-
зко, будь то даже члены королевской семьи. Совсем не случайно именно такой человек, с его
презрением к любым условностям и традициям, оказался одним из самых смелых новаторов во
французском искусстве XVIII века.
(Кантор A.M., Кожина Е. Ф., Лифшиц НА., Зернов Б А., Воронихина Л.Н., Некрасова ЕА. Искусство XVIII
века. С. 77—89)
Быт и нравы
О женщинах XVIII в. В своей известной книге «Женщина в XVIII в.» братья Гонкуры прекрасно
охарактеризовали этот золотой век женщины.
«В эпоху между 1700 и 17819 гг. женщина не только единственная в своем роде пружина, которая
все приводит в движение. Она кажется силой высшего порядка, королевой в области мысли. Она
— идея, поставленная на вершине общества, к которой обращены все взоры и устремлены все
сердца. Она — идол, перед которым люди склоняют колена, икона, на которую молятся. На
женщину обращены все иллюзии и молитвы, все мечты и экстазы религии. Женщина производит

то, что обыкновенно производит религия: она заполняет умы и сердца. В эпоху, когда царили
Людовик XV и Вольтер, в век безверия, она заменяет собою небо. Все спешат выразить ей свое
умиление, вознести ее до небес. Творимое в честь ее идолопоклонство поднимает ее высоко над
землей. Нет ни одного писателя, которого она не поработила бы, ни одного пера, которое не
снабжало бы ее крыльями. Даже в провинции
678
есть поэты, посвящающие себя ее воспеванию, всецело отдающиеся ей. И из фимиама, который ей
расточают Дора и Жентиль Бернар, образуется то облако, которое служит троном и алтарем для ее
апофеоза, облако, прорезанное полетом голубей и усеянное дождем из цветков. Проза и стихи,
кисть, резец и лира создают из нее, ей же на радость, божество, и женщина становится в конце
концов для XVIII в. не только богиней счастья, наслаждения и любви, но и истинно поэтическим,
истинно священным существом, целью всех душевных порывов, идеалом человечества,
воплощенным в человеческой форме».
Удовлетворение чувственности — таков общий закон морали: нравственности противоречит
только отказ. Женщина поэтому с самого начала готова уступить. Ее колебания — только средство
увеличить наслаждение мужчины. Один из величайших мастеров по части галантности, граф
Тилли, говорит в своих мемуарах: «Во Франции необходимо пустить в ход немало прилежания,
ловкости, внешней искренности, игры и искусства, чтобы победить женщину, которую стоит побе-
дить. Приходится соблюдать формальности, из которых каждая одинаково важна и одинаково
обязательна. Зато почти всегда есть возможность насладиться победой, если только нападающий
не болван, а женщина, подвергшаяся нападению, не олицетворение добродетели»...
Все грубое и опасное должно быть исключено из любви. Страстная ревность считается смешной.
Если обнаруживается это чувство, оно вызывает только недоверчивое и неодобрительное
покачивание головой. Соперники скрещивают шпаги, но они редко прокалывают сердце,
обыкновенно оставляя на коже лишь царапину. Подобно шипам розы, любовь должна наносить
лишь моментальную боль, а не — подобно кинжалу в бешеной руке — опасные для жизни раны,
еще менее убивать. Кровь только символ, а не удовлетворение мести. Не нужно бойни, достаточно
одной капли, чтобы создался этот символ.
Желания обнаруживаются всегда элегантно и грациозно, а не бурно и разрушительно. Никто не
позволит себе жеста циклопа. С руки никогда не снимается перчатка. Люди садятся за стол
наслаждения как беззаботные жуиры, а за их стульями, в качестве прислужника, стоит радость».
(Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Галантный век. С. 67—71)
Салоны Салон представлял собой специфическую форму...
общественности. Однако интеллектуальная культура, воплощенная в салоне, переоценивалась
большинством исследователей. Нет никакого сомнения, что существовал ряд салонов, где ост-
роумие вспыхивало каждый день новым фейерверком, где рождались все те смелые идеи, которые
должны были привести к преобразованию общества, где происходили аванпостные стычки новой
эпохи. Таковы были знаменитые парижские салоны, где царили энциклопедисты, са-
679
лон г-жи Дюдефан, где бывал Д'Аламбер, г-жи Д'Эпине, где тон задавали Дидро и Гримм, г-жи
Жоффрен, где можно было встретить Монтескье, и десяток других. Но вот и все...
Из «Анекдоты и остроумные выражения XVIII в.» мы заимствуем следующие два места, из
которых одно характеризует господствовавший в этих салонах после ужина развязный тон, а
второе — те активные шутки, которые разрешали себе их посетители.
В обоих случаях речь идет о кружке регента Франции герцога Орлеанского. Первое место гласит:
«Однажды регент ужинал с г-жой Парабер, архиепископом Камбре и Лоу. После ужина ему
принесли бумагу для подписи. Он хотел взять перо, но был так пьян, что не мог его держать. Он
передал перо г-же Парабер и сказал ей: «Подпиши, б..> Она возразила, что не имеет права
подписывать. Тогда он вручил архиепископу и сказал: «Подпиши, сутенер». Тот тоже отказался.
Тогда регент передал перо Лоу со словами: «Подпиши, мошенник!» Но и он отказался. Тогда
регент пустился в следующие меткие размышления: «Что за превосходно управляемое
государство! Оно управляется проституткой, сутенером, мошенником и пьяным». И подписал
бумагу».
(Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Галантный век. С. 471—474)
Об идеале красоты Так как бледный цвет лица и кожи считался признаком красоты, то в XVIII в.
тратили огромную массу пудры. Впрочем, на то существовала и другая причина, о которой речь
впереди. Лишь розовым налетом должна быть подернута кожа, точно сквозь нее просвечивает

тайный огонь желаний, ни на минуту не потухающий, как доказательство постоянной готовности к
галантным похождениям. То огонь, только электризующий, а не сжигающий ни очага, на котором
он горит, ни предмета, которого он коснется.
Пикантен и потому красив ротик, похожий на бокал, наполненный до краев сладострастием,
бокал, из которого можно вкушать одно только наслаждение. Губы должны быть такой формы,
чтобы они каждого возбуждали к поцелуям, а при поцелуе они должны трепетать от затаенного
желания... Красота губ заключается в том, чтобы они были покрыты тонкой кожею, сквозь
которую, как сквозь стекло, просвечивает приятно красный цвет или красная коралловая тинктура.
Они та нива, на которой любовь сеет сахар и мед, за которым, как пчелы, гоняются влюбленные,
усердно облизывая друг друга...
Венерой считается та женщина, груди которой подобны «двум чудесным сахарным головам
наслаждения», а бедра — «двум сладострастным полушариям блаженства». Члены ее должны
быть подобны «плю-щу нежности»...
Тогда все пудрились, даже дети, не для того, чтобы выглядеть старше, а для того, чтобы все
казались одинакового возраста. Все стреми-
680
лись остановить время. В этом была главная проблема. Этими соображениями объясняется также
и употребление румян — тоже одной из особенностей XVIII в. Так как повелевать природой
человек не в силах, то искусственно был создан цвет, считавшийся типическим цветом красоты. С
этой целью румянились не только женщины, но и мужчины. Впрочем, конечно, и тогда уже
румяна были для женщин единственным средством остановить время и сохранить путем
соответствующей ретушевки подобие вечной весны...
Мужской идеал, ценимый эпохой, обнаруживается только в костю
:
ме. Элегантный придворный —
совершеннейший тип мужчины. Первоначально, в эпоху восходящего абсолютизма, он принимает
позу величия. Каждый хотел изобразить Бога, в его лице ступающего по земле...
В эпоху упадка абсолютизма он становится все более женоподобным. Женственность становится
его характернейшей сущностью. Женоподобными становились его манеры и костюм, его
потребности и все его поведение. ...Этот модный во второй половине XVIII в. тип зафиксирован в
следующих словах:
«Мужчина теперь более, чем когда-либо, похож на женщину. Он носит длинные завитые волосы,
посыпанные пудрой и надушенные духами, и старается их сделать еще более длинными и густыми
при помощи парика. Пряжки на башмаках и коленах заменены для удобства шелковыми бантами.
Шпага надевается — тоже для удобства — как можно реже. На руки надеваются перчатки, зубы не
только чистят, но и белят, лицо румянят. Мужчина ходит пешком и даже разъезжает в коляске как
можно реже, ест легкую пищу, любит удобные кресла и покойное ложе. Не желая ни в чем
отставать от женщины, он употребляет тонкое полотно и кружева, обвешивает себя часами,
надевает на пальцы перстни, а карманы наполняет безделушками».
(Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Галантный век. С. 88—92)
Прически Введение парика Allonge было тем средством, на
которое прежде всего напали, чтобы дать возможность мужчине принять позу
величественного и могущественного земного бога... В нем голова мужчины становилась
величественной головой Юпитера. Или как выражались тогда: лицо выглядывало из
рамки густых светлых локонов, как «солнце из-за утренних облаков». Для усиления этого
впечатления, для доведения его до крайности пришлось пожертвовать главным
украшением мужчины — бородой. Борода в самом деле исчезла вместе с воцарением
парика и снова появилась, лишь когда он исчез.
В женском костюме идея величия была осуществлена, с одной стороны, удлинением
шлейфа, с другой — при помощи фонтанжа. Введение последнего обыкновенно
приписывается метрессе Людовика XVI. На самом деле этот чудовищный головной убор
только заимствовал
681
свое название у этой дамы. Введение его было не простым случайным капризом, а, как всякая
мода, царившая более или менее продолжительное время, неизбежным звеном в развитии
известной категории явлений, постепенно подготовлявшихся. Фонтанж, с одной стороны, логи-
ческое дополнение парика Allonge, а с другой — столь же естественный противовес огромному
шлейфу, длина которого колебалась от двух до тринадцати метров. А чем длиннее был шлейф, тем

выше становился и фонтанж.
Современные моралисты-проповедники дают нам всегда больше всего сведений о сущности мод и
нравов эпохи...: «Женщины одеваются так, чтобы остаться голыми, и надевают фонтанж, чтобы их
лучше было видно». Что моралисты не преувеличивали, нападая на чудовищные размеры
фонтанжа, видно хотя бы из того, что, например, в Вене он достигал порой... 1,3 метра...
Юбка превратилась в настоящее чудовище, и официальный придворный костюм делал каждую
даму похожей на огромную движущуюся бочку. Только протянув руку, могла она коснуться руки
спутника. А прическа становилась настоящей маленькой театральной сценой, на которой
разыгрывались всевозможные пьесы. Мы вовсе не преувеличиваем. Все, что порождало в
общественной и политической жизни сенсацию, искусно воспроизводилось на голове дамы (сцены
охоты, пейзажи, мельницы, крепости, отрывки из пьес и т. д.). Даже казни доставляли мотивы и
сюжеты. Так как эпоха требовала прежде всего позы, то все демонстрировали в самой смешной
форме свои чувства. Мечтательное возвращение к природе символизировалось построением на
голове фермы с коровами, овцами, розами и пастухами, все, конечно, в миниатюрном виде, или
воспроизведением сеющих и пашущих мужиков. Увлечение пасторалями в свою очередь
переносило на дамские головы идиллические и галантные пастушьи сценки: Селадон совращает
Хлою, Филида и Тирс объясняются в нежных чувствах и т.д.
Дама, желавшая показать, что она преисполнена мужества, выбирала сражающихся солдат,
галантная дама, кокетливо выставлявшая напоказ свои успехи, предпочитала носить на голове
любовников, дерущихся из-за обладания ею на дуэли, и т.д.
(Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Галантный век. С. 115—116)
Каблуки В эпоху Средневековья и Возрождения использовались
специальные подставки под башмаки.
Они должны были помогать пешеходу идти по всегда грязной улице, не загрязняя самих
башмаков. Необходимо принять во внимание, что тогда нигде не существовало тротуаров, что
даже улицы были в большинстве случаев немощеные, в лучшем случае мостились лишь
некоторые главные из них, все же остальные в продолжение года были
682
покрыты грязью, превращавшейся после каждого дождика в огромные бездонные лужи. До нас
дошли известия, касающиеся разных городов, о том, что там то и дело лошади уходили по колено
в грязь, что иногда в грязи тонули и погибали животные и люди.
Нечистоты выбрасывались за дверь даже еще в XVI в., и так как уборные существовали лишь в
немногих домах, то люди обычно отправляли свои естественные потребности на улице. Поэтому
даже на мощеных улицах протекал мутный ручеек нечистот, проходимый лишь в известных
местах. Так обстояло дело еще в XVIII в....
Первые каблуки отличались неуклюжей формой, как показывают не только изображения, а еще
яснее — хранящиеся в разных музеях башмаки начала XVII в. Очень скоро стали, однако,
появляться и более изящные. Люди научились пользоваться этим изобретенным ими для
осуществления их специфических целей средством, выявлять все скрытые в нем возможности.
Вплоть до наших дней поэтому постоянно производились эксперименты с каблуком. С одной
стороны, он становился средством придать фигуре больше гордости и величия, с другой —
позволял ноге казаться маленькой...
Первоначально широкий и неуклюжий, он постепенно достиг такой высоты, что на нем нельзя уже
было ходить, а можно было только подпрыгивать.
В эпоху Людовика XIV он был вышиною в шесть дюймов и продержался на этой высоте почти без
изменения до самой революции.
Какое впечатление производили дамы в таких башмаках, видно, например, из одного места в
мемуарах Казаковы. Он сообщает, что видел однажды, как французские придворные дамы
переходили из одной комнаты в другую вприпрыжку, подобно согнувшимся кенгуру. Такую позу
дамы должны были принять, если хотели сохранить равновесие...
Первоначально такие каблуки носили как женщины, так и мужчины...
(Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Галантный век. С. 129—131)
Чулки и подвязки По мере того как метод retrousse, т.е. «искусство показывать ногу», принимал
все более рафинированные формы, стали все больше обращать внимание и на нижние части
костюма, les dessouss (нижнее белье. — Сост.). Начали с башмаков, чулок и подвязок. Долгое
время ограничивались этими тремя аксессуарами. Очень скоро поняли, что при помощи фасона
