Чубаров И.М. (ред., сост.) Антология феноменологической философии в России
Подождите немного. Документ загружается.

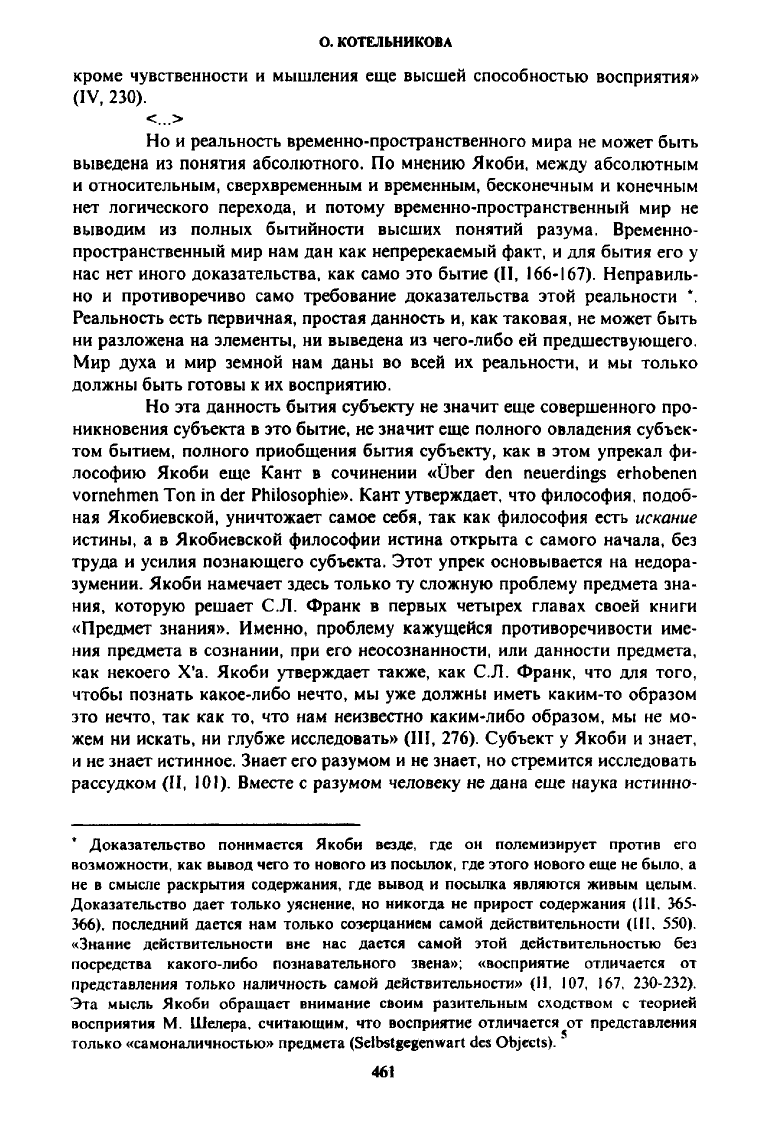
О.
КОТЕЛЬНИКОВА
кроме
чувственности и мышления еще высшей способностью восприятия»
(IV, 230).
Но
и реальность временно-пространственного мира не может быть
выведена из понятия абсолютного. По мнению Якоби, между абсолютным
и
относительным, сверхвременным и временным, бесконечным и конечным
нет логического перехода, и потому временно-пространственный мир не
выводим из полных бытийности высших понятий разума. Временно-
пространственный
мир нам дан как непререкаемый факт, и для бытия его у
нас
нет иного доказательства, как само это бытие
(И,
166-167).
Неправиль-
но
и противоречиво само требование доказательства этой реальности *.
Реальность есть первичная, простая данность и, как таковая, не может быть
ни
разложена на элементы, ни выведена из чего-либо ей предшествующего.
Мир
духа
и мир земной нам даны во всей их реальности, и мы только
должны быть готовы к их восприятию.
Но
эта данность бытия субъекту не значит еще совершенного про-
никновения
субъекта в это бытие, не значит еще полного овладения субъек-
том бытием, полного приобщения бытия
субъекту,
как в этом упрекал фи-
лософию
Якоби еще Кант в сочинении
«Über
den
neuerdings
erhobenen
vornehmen
Ton in der
Philosophie».
Кант
утверждает,
что
философия,
подоб-
ная
Якобиевской, уничтожает самое себя, так как философия есть
искание
истины,
а в Якобиевской философии истина открыта с самого начала, без
труда
и усилия познающего субъекта. Этот упрек основывается на недора-
зумении.
Якоби намечает здесь только ту сложную проблему предмета зна-
ния,
которую решает С.Л.
Франк
в первых четырех главах своей книги
«Предмет знания».
Именно,
проблему кажущейся противоречивости име-
ния
предмета в сознании, при его неосознанности, или данности предмета,
как
некоего Х'а. Якоби
утверждает
также, как С.Л. Франк, что для того,
чтобы познать какое-либо нечто, мы уже должны иметь каким-то образом
это
нечто, так как то, что нам неизвестно каким-либо образом, мы не мо-
жем ни искать, ни
глубже
исследовать»
(III,
276). Субъект у Якоби и знает,
и
не знает
истинное.
Знает его разумом и не знает, но стремится исследовать
рассудком (II, 101). Вместе с разумом человеку не дана еще наука истинно-
* Доказательство понимается Якоби везде, где он полемизирует против его
возможности, как вывод
чего
то нового из посылок, где этого нового еще не было, а
не в смысле раскрытия содержания, где вывод и посылка являются живым целым.
Доказательство
дает
только уяснение, но никогда не прирост содержания (III. 365-
366), последний дается нам только созерцанием самой действительности (III, 550).
«Знание действительности вне нас дается самой этой действительностью без
посредства какого-либо познавательного звена»; «восприятие отличается от
представления только наличность самой действительности» (II, 107, 167,
230-232).
Эта мысль Якоби обращает внимание своим разительным
сходством
с теорией
восприятия М. Шелера, считающим, что восприятие отличается от представления
только «самоналичностью» предмета
(Selbstgegenwart
des Objects). *
461
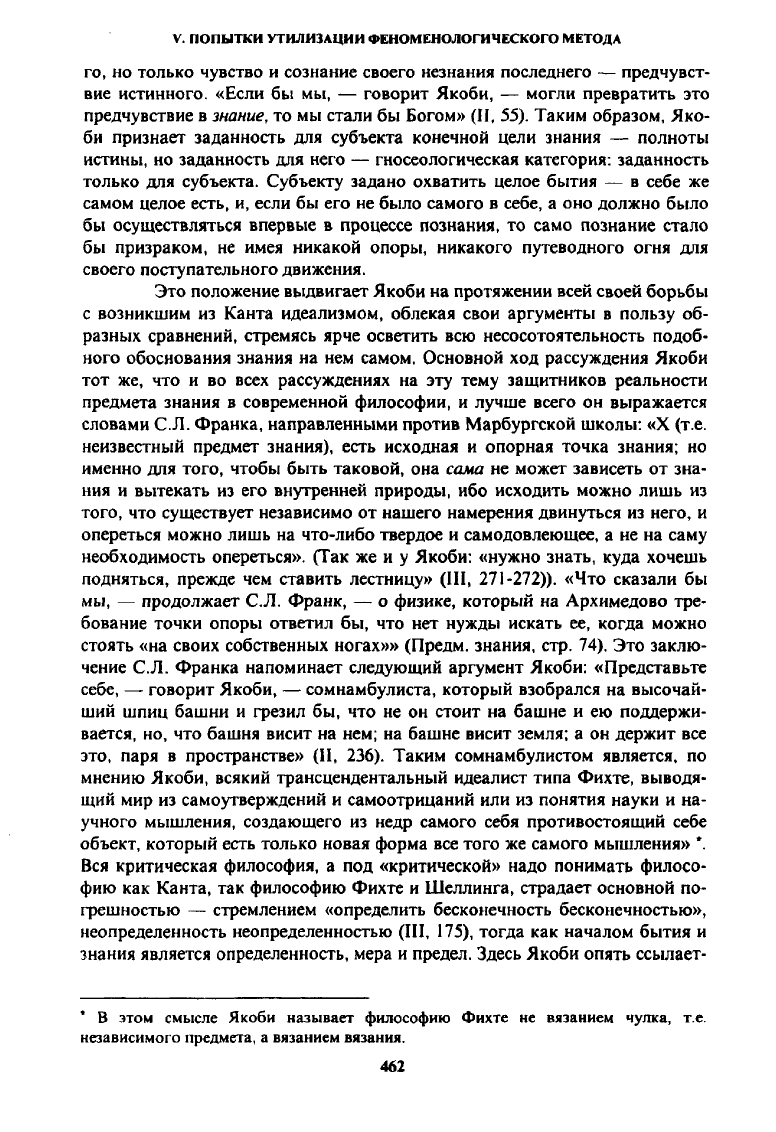
V. ПОПЫТКИ
УТИЛИЗАЦИИ
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО
МЕТОДА
го, но только чувство и сознание своего незнания последнего — предчувст-
вие истинного. «Если бы мы, — говорит Якоби, — могли превратить это
предчувствие в
знание,
то мы стали бы Богом»
(II,
55). Таким образом, Яко-
би признает заданность для субъекта конечной цели знания — полноты
истины,
но заданность для него — гносеологическая категория: заданность
только для субъекта. Субъекту задано охватить целое бытия — в себе же
самом целое есть, и, если бы его не было самого в себе, а оно должно было
бы осуществляться впервые в процессе познания, то само познание стало
бы призраком, не имея никакой опоры, никакого путеводного огня для
своего поступательного движения.
Это положение выдвигает Якоби на протяжении всей своей борьбы
с возникшим из Канта идеализмом, облекая свои аргументы в пользу об-
разных сравнений, стремясь ярче осветить всю несосотоятельность подоб-
ного обоснования знания на нем самом. Основной ход рассуждения Якоби
тот же, что и во всех рассуждениях на эту
тему
защитников реальности
предмета знания в современной философии, и лучше всего он выражается
словами С.Л. Франка, направленными против Марбургской школы: «X (т.е.
неизвестный предмет
знания),
есть исходная и опорная точка знания; но
именно
для того, чтобы быть таковой, она
сама
не может зависеть от зна-
ния
и вытекать из его внутренней природы, ибо исходить можно лишь из
того, что
существует
независимо от нашего намерения двинуться из него, и
опереться можно лишь на что-либо твердое и самодовлеющее, а не на саму
необходимость опереться». (Так же и у Якоби: «нужно знать, куда хочешь
подняться, прежде чем ставить лестницу» (III, 271-272)).
«Что
сказали бы
мы,
— продолжает С.Л. Франк, — о физике, который на Архимедово тре-
бование точки опоры ответил бы, что нет нужды искать ее, когда можно
стоять «на своих собственных
ногах»»
(Предм. знания, стр. 74). Это заклю-
чение С.Л. Франка напоминает следующий аргумент Якоби: «Представьте
себе, — говорит Якоби, — сомнамбулиста, который взобрался на высочай-
ший
шпиц башни и грезил бы, что не он стоит на башне и ею поддержи-
вается, но, что башня висит на нем; на башне висит земля; а он держит все
это,
паря в пространстве» (II, 236). Таким сомнамбулистом является, по
мнению Якоби, всякий трансцендентальный идеалист типа Фихте, выводя-
щий
мир из самоутверждений и самоотрицаний или из понятия науки и на-
учного мышления, создающего из недр самого себя противостоящий себе
объект, который есть только новая форма все того же самого мышления» *.
Вся критическая философия, а под «критической» надо понимать филосо-
фию
как Канта, так философию Фихте и Шеллинга, страдает основной по-
грешностью — стремлением «определить бесконечность бесконечностью»,
неопределенность неопределенностью
(III,
175),
тогда
как началом бытия и
знания
является определенность, мера и предел. Здесь Якоби опять ссылает-
* В
этом
смысле
Якоби
называет
философию
Фихте
не
вязанием
чулка,
т.е.
независимого
предмета,
а
вязанием
вязания.
462
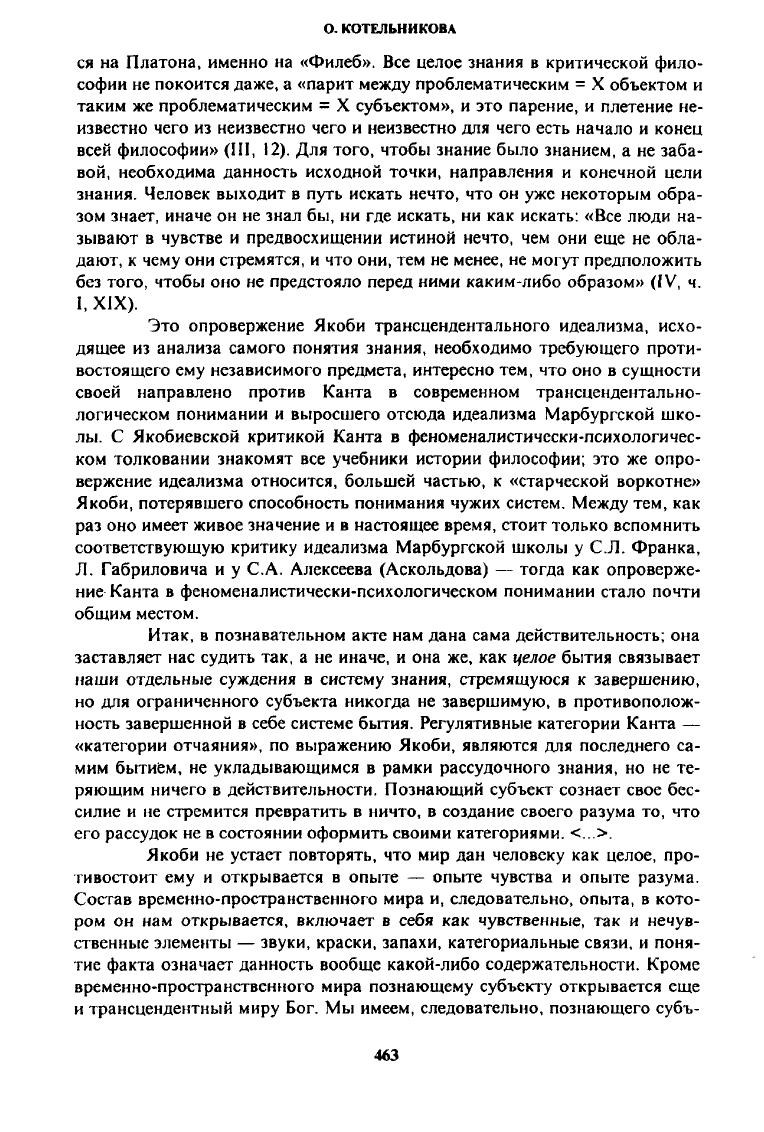
О.
КОТЕЛЬНИКОВЛ
ся
на Платона, именно на «Филеб». Все целое знания в критической фило-
софии
не покоится даже, а «парит
между
проблематическим
=
X объектом и
таким же проблематическим = X субъектом», и это парение, и плетение не-
известно чего из неизвестно чего и неизвестно для чего есть начало и конец
всей философии»
(III,
12). Для того, чтобы знание было знанием, а не заба-
вой,
необходима данность исходной точки, направления и конечной цели
знания.
Человек выходит в путь искать нечто, что он уже некоторым обра-
зом знает, иначе он не знал бы, ни где искать, ни как искать:
«Все
люди на-
зывают в
чувстве
и предвосхищении истиной нечто, чем они еще не обла-
дают,
к чему они стремятся, и что
они,
тем не менее, не
могут
предположить
без того, чтобы оно не предстояло перед ними каким-либо образом» (IV, ч.
Ι,ΧΙΧ).
Это опровержение Якоби трансцендентального идеализма, исхо-
дящее из анализа самого понятия знания, необходимо требующего проти-
востоящего ему независимого предмета, интересно тем, что оно в сущности
своей направлено против Канта в современном трансцендентально-
логическом понимании и выросшего отсюда идеализма Марбургской шко-
лы. С Якобиевской критикой Канта в феноменалистически-психологичес-
ком
толковании знакомят все учебники истории философии; это же опро-
вержение идеализма относится, большей частью, к «старческой воркотне»
Якоби,
потерявшего способность понимания
чужих
систем. Между тем, как
раз оно имеет живое значение и в настоящее время, стоит только вспомнить
соответствующую критику идеализма Марбургской школы у С.Л. Франка,
Л. Габриловича и у С.А. Алексеева (Аскольдова) —
тогда
как опроверже-
ние
Канта в феноменалистически-психологическом понимании стало почти
общим местом.
Итак,
в познавательном акте нам дана сама действительность; она
заставляет нас судить так, а не иначе, и она же, как
целое
бытия связывает
наши
отдельные суждения в систему знания, стремящуюся к завершению,
но
для ограниченного субъекта никогда не завершимую, в противополож-
ность завершенной в себе системе бытия. Регулятивные категории Канта —
«категории отчаяния», по выражению Якоби, являются для последнего са-
мим бытиём, не укладывающимся в рамки рассудочного знания, но не те-
ряющим ничего в действительности. Познающий субъект сознает свое бес-
силие и не стремится превратить в ничто, в создание своего разума то, что
его рассудок не в состоянии оформить своими категориями. <...>.
Якоби не
устает
повторять, что мир дан человеку как целое, про-
тивостоит ему и открывается в опыте — опыте
чувства
и опыте разума.
Состав временно-пространственного мира и, следовательно, опыта, в кото-
ром он нам открывается, включает в себя как чувственные, так и нечув-
ственные элементы — звуки, краски, запахи, категориальные связи, и поня-
тие факта означает данность вообще какой-либо содержательности. Кроме
временно-пространственного мира познающему
субъекту
открывается еще
и
трансцендентный миру Бог. Мы имеем, следовательно, познающего субъ-
463
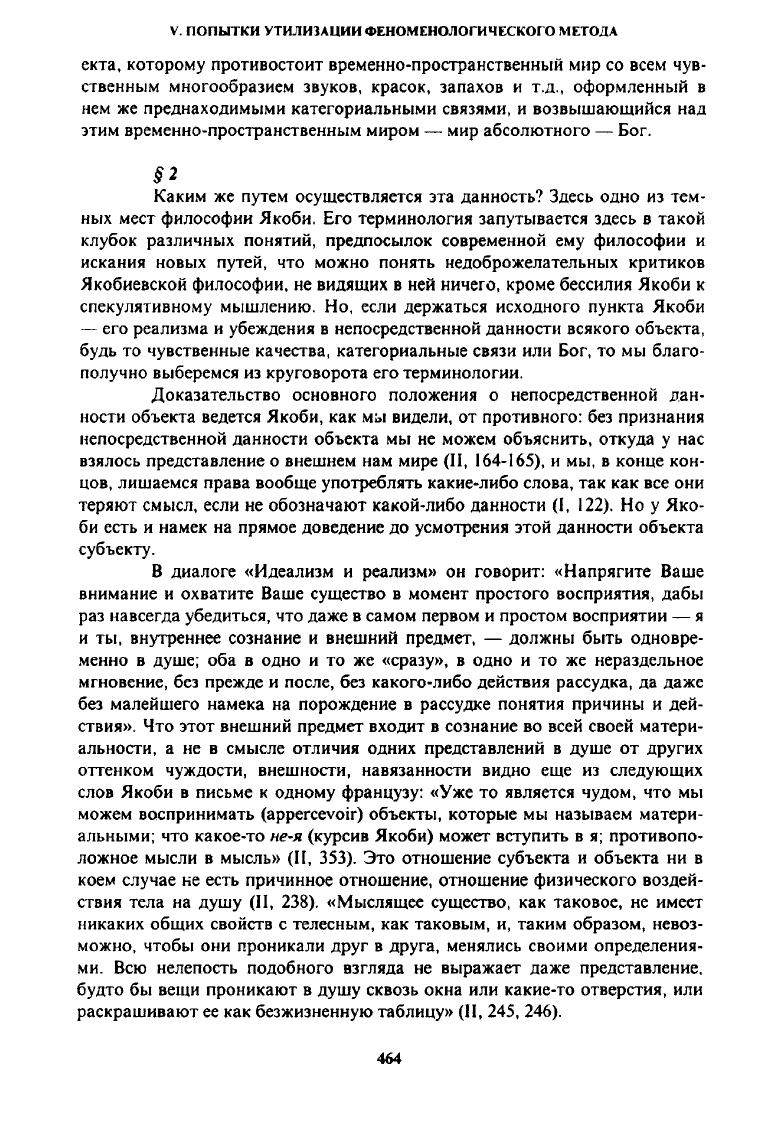
V.
ПОПЫТКИ
УТИЛИЗАЦИИ
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО
МЕТОЛА
екта, которому противостоит временно-пространственный мир со всем чув-
ственным многообразием звуков, красок, запахов и т.д., оформленный в
нем же преднаходимыми категориальными связями, и возвышающийся над
этим
временно-пространственным миром — мир абсолютного — Бог.
§2
Каким
же путем осуществляется эта данность? Здесь одно из тем-
ных мест философии Якоби. Его терминология запутывается здесь в такой
клубок различных понятий, предпосылок современной ему философии и
искания
новых путей, что можно понять недоброжелательных критиков
Якобиевской
философии,
не видящих в ней ничего, кроме бессилия Якоби к
спекулятивному мышлению. Но, если держаться исходного пункта Якоби
— его реализма и убеждения в непосредственной данности всякого объекта,
будь
то чувственные качества, категориальные связи или Бог, то мы благо-
получно выберемся из круговорота его терминологии.
Доказательство основного положения о непосредственной дан-
ности объекта ведется Якоби, как мы видели, от противного: без признания
непосредственной данности объекта мы не можем объяснить, откуда у нас
взялось представление о внешнем нам мире
(II,
164-165),
и мы, в конце кон-
цов,
лишаемся права вообще употреблять какие-либо слова, так как все они
теряют смысл, если не обозначают какой-либо данности (I, 122). Но у Яко-
би есть и намек на прямое доведение до усмотрения этой данности объекта
субъекту.
В диалоге «Идеализм и реализм» он говорит: «Напрягите Ваше
внимание
и охватите Ваше существо в момент простого восприятия, дабы
раз навсегда убедиться, что даже в самом первом и простом восприятии — я
и
ты, внутреннее сознание и внешний предмет, — должны быть одновре-
менно
в душе; оба в одно и то же
«сразу»,
в одно и то же нераздельное
мгновение, без прежде и после, без какого-либо действия рассудка, да даже
без малейшего намека на порождение в рассудке понятия причины и дей-
ствия». Что этот внешний предмет входит в сознание во всей своей матери-
альности, а не в смысле отличия одних представлений в
душе
от
других
оттенком чуждости, внешности, навязанности видно еще из следующих
слов Якоби в письме к одному французу:
«Уже
то является чудом, что мы
можем воспринимать (appercevoir) объекты, которые мы называем матери-
альными; что какое-то не-я (курсив Якоби) может вступить в я; противопо-
ложное мысли в мысль» (II, 353). Это отношение субъекта и объекта ни в
коем
случае
не есть причинное отношение, отношение физического воздей-
ствия тела на
душу
(II, 238). «Мыслящее существо, как таковое, не имеет
никаких
общих свойств с телесным, как таковым, и, таким образом, невоз-
можно,
чтобы они проникали
друг
в
друга,
менялись своими определения-
ми.
Всю нелепость подобного взгляда не выражает даже представление,
будто
бы вещи проникают в
душу
сквозь окна или какие-то отверстия, или
раскрашивают ее как безжизненную
таблицу»
(II,
245, 246).
464
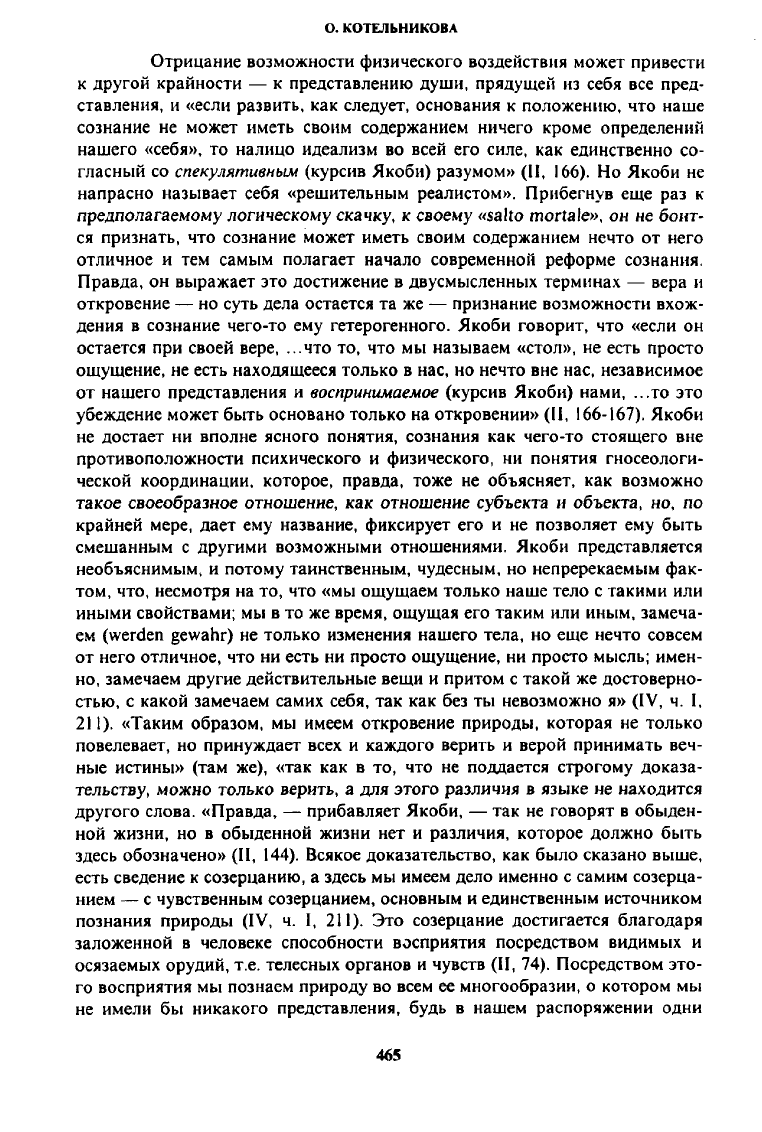
О.
КОТЕЛЬНИКОВА
Отрицание возможности физического воздействия может привести
к
другой крайности — к представлению души, прядущей из себя все пред-
ставления, и «если развить, как
следует,
основания к положению, что наше
сознание
не может иметь своим содержанием ничего кроме определений
нашего
«себя»,
то налицо идеализм во всей его силе, как единственно со-
гласный со
спекулятивным
(курсив Якоби) разумом» (II, 166). Но Якоби не
напрасно
называет себя «решительным реалистом». Прибегнув еще раз к
предполагаемому логическому скачку, к своему
«salto
mortale», он не боит-
ся
признать, что сознание может иметь своим содержанием нечто от него
отличное и тем самым полагает начало современной реформе сознания.
Правда, он выражает это достижение в двусмысленных терминах — вера и
откровение — но
суть
дела остается та же — признание возможности вхож-
дения в сознание чего-то ему гетерогенного. Якоби говорит, что «если он
остается при своей вере, ...что то, что мы называем
«стол»,
не есть просто
ощущение, не есть находящееся только в нас, но нечто вне нас, независимое
от нашего представления и
воспринимаемое
(курсив Якоби) нами, ...то это
убеждение может быть основано только на откровении»
(II,
166-167).
Якоби
не
достает ни вполне ясного понятия, сознания как чего-то стоящего вне
противоположности психического и физического, ни понятия гносеологи-
ческой координации, которое, правда, тоже не объясняет, как возможно
такое своеобразное отношение, как отношение субъекта и объекта, но, по
крайней
мере,
дает
ему название, фиксирует его и не позволяет ему быть
смешанным с другими возможными отношениями. Якоби представляется
необъяснимым, и потому таинственным, чудесным, но непререкаемым фак-
том, что, несмотря на то, что «мы ощущаем только наше тело с такими или
иными
свойствами; мы в то же время, ощущая его таким или иным, замеча-
ем (werden
gewahr)
не только изменения нашего тела, но еще нечто совсем
от него отличное, что ни есть ни просто ощущение, ни просто мысль; имен-
но,
замечаем
другие
действительные вещи и притом с такой же достоверно-
стью, с какой замечаем самих себя, так как без ты невозможно я» (IV, ч. I,
211). «Таким образом, мы имеем откровение природы, которая не только
повелевает, но принуждает всех и каждого верить и верой принимать веч-
ные истины» (там же), «так как в то, что не поддается строгому доказа-
тельству,
можно только верить, а для этого различия в языке не находится
другого
слова. «Правда, — прибавляет Якоби, — так не говорят в обыден-
ной
жизни, но в обыденной жизни нет и различия, которое должно быть
здесь обозначено»
(II,
144). Всякое доказательство, как было сказано выше,
есть сведение к созерцанию, а здесь мы имеем дело именно с самим созерца-
нием
— с чувственным созерцанием, основным и единственным источником
познания
природы (IV, ч. I, 211). Это созерцание достигается благодаря
заложенной в человеке способности восприятия посредством видимых и
осязаемых орудий, т.е. телесных органов и
чувств
(II,
74). Посредством это-
го восприятия мы познаем природу во всем ее многообразии, о котором мы
не
имели бы никакого представления,
будь
в нашем распоряжении одни
465
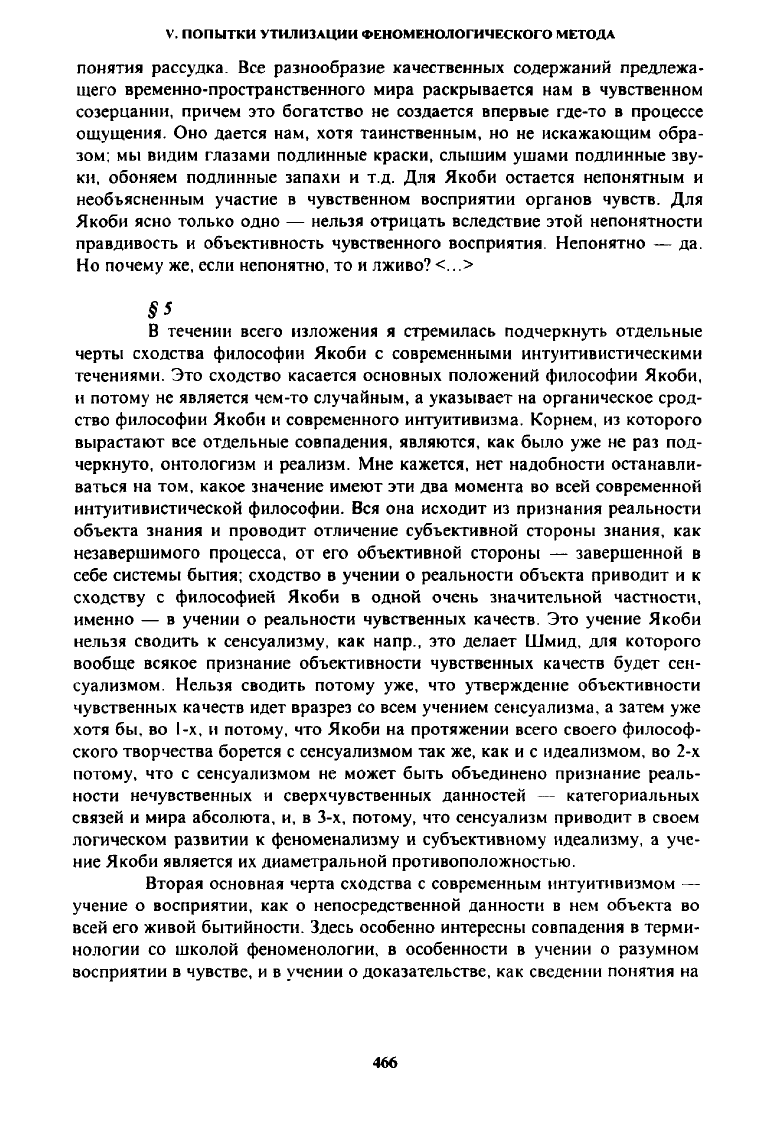
V.
ПОПЫТКИ
УТИЛИЗАЦИИ
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО
МЕТОДА
понятия
рассудка. Все разнообразие качественных содержаний предлежа-
щего временно-пространственного мира раскрывается нам в чувственном
созерцании,
причем это богатство не создается впервые
где-то
в процессе
ощущения. Оно дается нам,
хотя
таинственным, но не искажающим обра-
зом;
мы видим глазами подлинные краски, слышим ушами подлинные зву-
ки,
обоняем подлинные запахи и т.д. Для Якоби остается непонятным и
необъясненным
участие
в чувственном восприятии органов
чувств.
Для
Якоби ясно только одно — нельзя отрицать вследствие этой непонятности
правдивость и объективность чувственного восприятия. Непонятно — да.
Но
почему же, если
непонятно,
то
и
лживо? <...>
В течении всего изложения я стремилась подчеркнуть отдельные
черты
сходства
философии Якоби с современными интуитивистическими
течениями. Это
сходство
касается основных положений философии Якоби,
и
потому не является чем-то случайным, а указывает на органическое срод-
ство философии Якоби и современного интуитивизма. Корнем, из которого
вырастают все отдельные совпадения, являются, как было уже не раз под-
черкнуто, онтологизм и реализм. Мне кажется, нет надобности останавли-
ваться на том, какое значение имеют эти два момента во всей современной
интуитивистической философии. Вся она исходит из признания реальности
объекта знания и проводит отличение субъективной стороны
знания,
как
незавершимого процесса, от его объективной стороны — завершенной в
себе системы бытия;
сходство
в учении о реальности объекта приводит и к
сходству
с философией Якоби в одной очень значительной частности,
именно
— в учении о реальности чувственных качеств. Это учение Якоби
нельзя сводить к сенсуализму, как
напр.,
это
делает
Шмид, для которого
вообще всякое признание объективности чувственных качеств
будет
сен-
суализмом. Нельзя сводить потому уже, что утверждение объективности
чувственных качеств идет вразрез со всем учением сенсуализма, а затем уже
хотя
бы, во 1-х, и потому, что Якоби на протяжении всего своего философ-
ского творчества борется с сенсуализмом так же, как и с идеализмом, во 2-х
потому, что с сенсуализмом не может быть объединено признание реаль-
ности нечувственных и сверхчувственных данностей — категориальных
связей и мира абсолюта, и, в 3-х, потому, что сенсуализм приводит в своем
логическом развитии к феноменализму и субъективному идеализму, а уче-
ние
Якоби является их диаметральной противоположностью.
Вторая основная черта
сходства
с современным интуитивизмом —
учение о восприятии, как о непосредственной данности в нем объекта во
всей его живой бытийности. Здесь особенно интересны совпадения в терми-
нологии со школой феноменологии, в особенности в учении о разумном
восприятии в
чувстве,
и в учении о доказательстве, как сведении понятия на
466
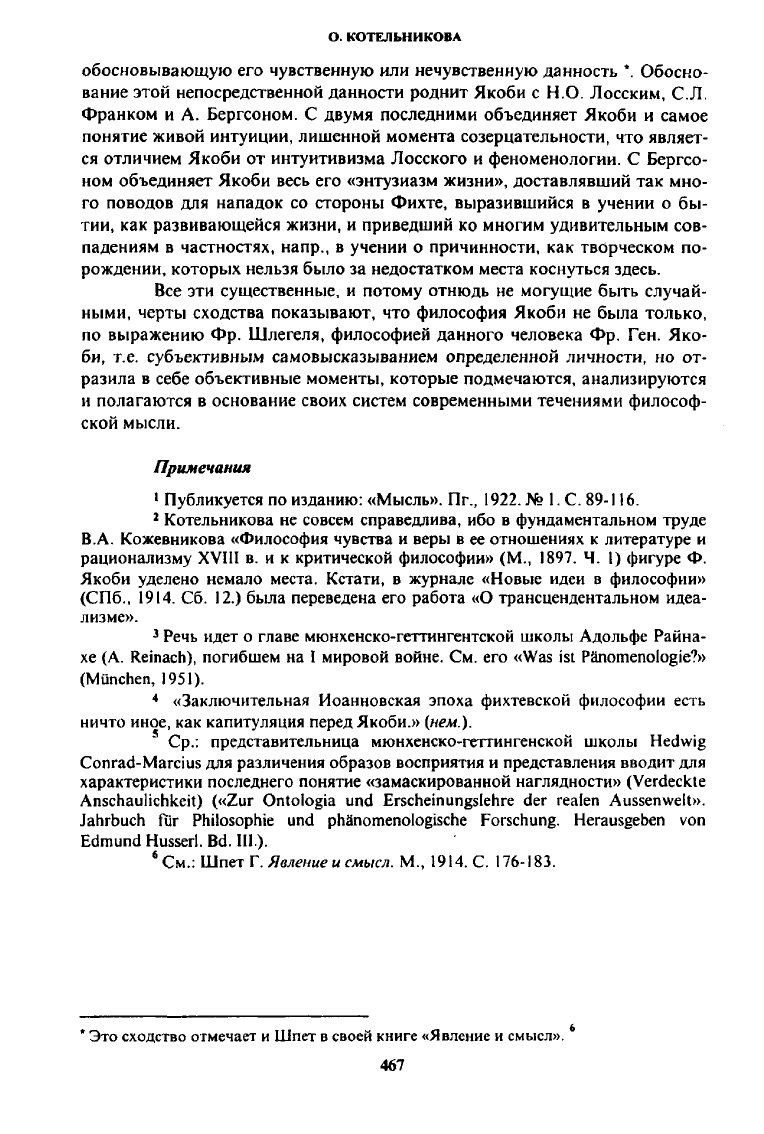
О.
КОТЕЛЬНИКОВА
обосновывающую его
чувственную
или нечувственную данность *. Обосно-
вание этой непосредственной данности роднит Якоби с Н.О. Лосским, С.Л.
Франком
и А. Бергсоном. С
двумя
последними объединяет Якоби и самое
понятие
живой интуиции, лишенной момента созерцательности, что являет-
ся
отличием Якоби от интуитивизма Лосского и феноменологии. С Бергсо-
ном
объединяет Якоби весь его «энтузиазм жизни», доставлявший так мно-
го поводов для нападок со стороны Фихте, выразившийся в учении о бы-
тии,
как развивающейся жизни, и приведший ко многим удивительным сов-
падениям в частностях, напр., в учении о причинности, как творческом по-
рождении, которых нельзя было за недостатком места коснуться здесь.
Все эти существенные, и потому отнюдь не могущие быть случай-
ными,
черты
сходства
показывают, что философия Якоби не была только,
по
выражению Фр. Шлегеля, философией данного человека Фр. Ген. Яко-
би,
т.е. субъективным самовысказыванием определенной личности, но от-
разила в себе объективные моменты, которые подмечаются, анализируются
и
полагаются в основание своих систем современными течениями философ-
ской
мысли.
Примечания
1
Публикуется по изданию: «Мысль». Пг., 1922. № 1. С.
89-116.
2
Котельникова
не
совсем справедлива,
ибо в
фундаментальном
труде
В.А.
Кожевникова «Философия чувства
и
веры
в ее
отношениях
к
литературе
и
рационализму
XVIII
в. и к
критической философии» (М.,
1897. Ч. 1)
фигуре
Ф.
Якоби уделено немало места. Кстати,
в
журнале «Новые идеи
в
философии»
(СПб.,
1914.
Сб.
12.)
была переведена
его
работа
«О
трансцендентальном идеа-
лизме».
3
Речь идет
о
главе мюнхенско-геттингентской школы Адольфе Райна-
хе
(А.
Reinach), погибшем
на I
мировой войне. См.
его «Was ist Pänomenologie?»
(München,
1951).
4
«Заключительная Иоанновская эпоха фихтевской философии есть
ничто иное, как капитуляция перед Якоби.» (нем.).
Ср.:
представительница мюнхенско-геттингенской школы Hedwig
Conrad-Marcius для различения образов восприятия
и
представления вводит для
характеристики последнего понятие «замаскированной наглядности» (Verdeckte
Anschaulichkeit) («Zur Ontologia
und
Erscheinungslehre
der
realen
Aussenwelt».
Jahrbuch ftlr Philosophie
und phänomenologische Forschung. Herausgeben von
Edmund
Husserl.
Bd.
III.).
6
См.: Шпет Г.
Явление
и
смысл.
М., 1914. С. 176-183.
*
Это сходство отмечает
и
Шпет в своей книге «Явление и смысл».
467
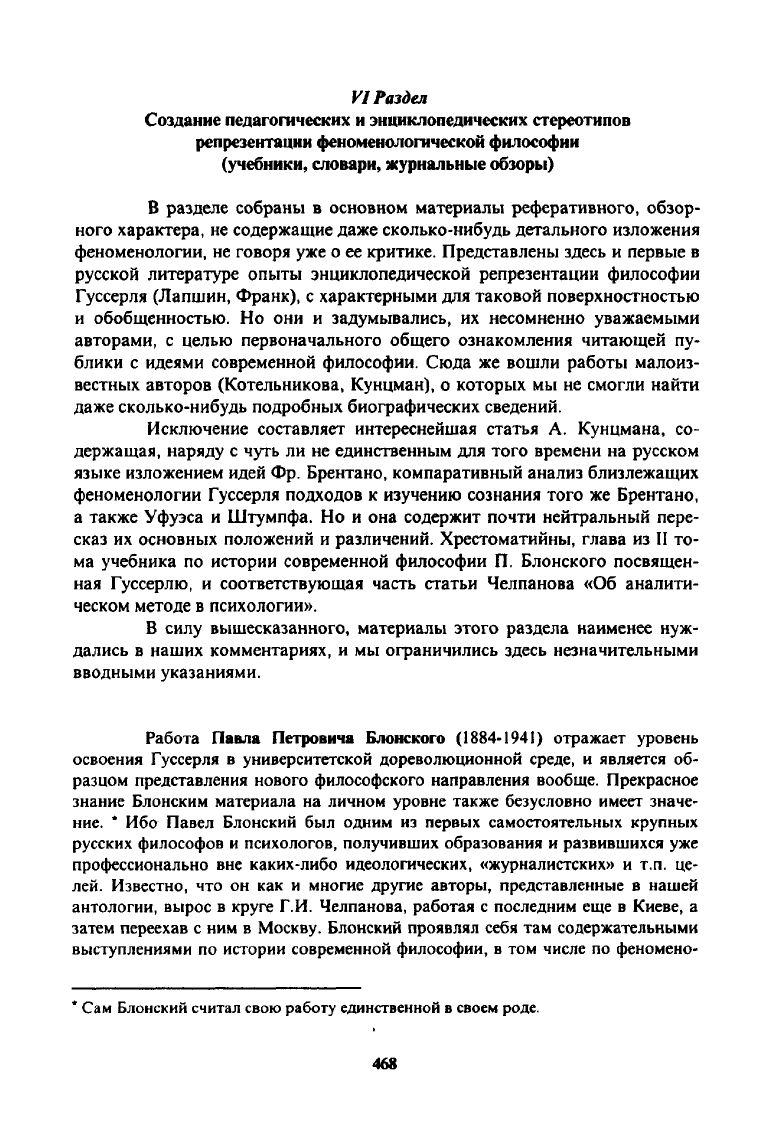
VI
Раздел
Создание
педагогических и энциклопедических стереотипов
репрезентации феноменологической философии
(учебники, словари,
журнальные
обзоры)
В разделе собраны
в
основном материалы реферативного, обзор-
ного характера,
не
содержащие
даже
сколько-нибудь детального изложения
феноменологии,
не
говоря
уже о ее
критике. Представлены здесь
и
первые
в
русской литературе опыты энциклопедической репрезентации философии
Гуссерля (Лапшин,
Франк),
с
характерными
для
таковой поверхностностью
и
обобщенностью.
Но они и
задумывались,
их
несомненно уважаемыми
авторами,
с
целью первоначального общего ознакомления читающей
пу-
блики
с
идеями современной философии. Сюда
же
вошли работы малоиз-
вестных авторов (Котельникова, Кунцман),
о
которых
мы не
смогли найти
даже
сколько-нибудь подробных биографических сведений.
Исключение
составляет интереснейшая статья
А.
Кунцмана,
со-
держащая, наряду
с
чуть
ли не
единственным
для
того времени
на
русском
языке
изложением идей Фр. Брентано, компаративный анализ близлежащих
феноменологии Гуссерля подходов
к
изучению сознания того
же
Брентано,
а также Уфуэса
и
Штумпфа.
Но и она
содержит почти нейтральный пере-
сказ
их
основных положений
и
различений. Хрестоматийны, глава
из II то-
ма учебника
по
истории современной философии
П.
Блонского посвящен-
ная
Гуссерлю,
и
соответствующая часть статьи Челпанова
«Об
аналити-
ческом методе
в
психологии».
В силу вышесказанного, материалы этого раздела наименее
нуж-
дались
в
наших комментариях,
и мы
ограничились здесь незначительными
вводными указаниями.
Работа
Павла Петровича Блонского
(1884-1941)
отражает уровень
освоения
Гуссерля
в
университетской дореволюционной среде,
и
является
об-
разцом представления нового философского направления вообще. Прекрасное
знание
Блонским материала
на
личном уровне также безусловно имеет значе-
ние.
* Ибо
Павел Блонский
был
одним
из
первых самостоятельных крупных
русских философов
и
психологов, получивших образования
и
развившихся
уже
профессионально
вне
каких-либо идеологических,
«журналистских»
и т.п. це-
лей.
Известно,
что он как и
многие
другие
авторы, представленные
в
нашей
антологии, вырос
в
круге
Г.И. Челпанова, работая
с
последним
еще в
Киеве,
а
затем переехав
с
ним
в
Москву. Блонский проявлял себя
там
содержательными
выступлениями
по
истории современной философии,
в том
числе
по
феномено-
1
Сам Блонский считал свою работу единственной в своем роде.
468

ПАВЕЛ
БЛОНСКИЙ
логии Гуссерля.
И в
дальнейшем
он
живо реагировал
на
развитие феноменоло-
гической философии
и
следил
за ее
рецепцией
в
отечестве (примером
чему
мо-
жет послужить публикуемая нами здесь
же
рецензия
на
книгу
Г.
Шпета
«Явление
и
смысл»). Глава
о
феноменологии Гуссерля венчает
2 том его
книги
«Современная философия»
(1918-1922),
посвященной наиболее известным
на-
правлениям философии конца
XIX
начала
XX
века, вслед
за
которой он предпо-
лагал выпустить второе издание,
в
котором наряду
с
бесстрастными обзорами,
хотел
приложить
и
критическую часть,
и еще
посвятить много места представ-
лению современной отечественной философии. К сожалению
его
проекту (как
и
аналогичному замыслу Шпета) не суждено было осуществиться.
В
конце
2
части
Блонский
писал:
«Мы —
русские,
и
состояние национальной философии
нас не
может
не
интересовать.
С
одной стороны
нам
лестно быть самобытными,
а, с
другой,
нам
хочется принимать
участие
в
судьбах
мировой общечеловеческой
философии». Но
к
своим русским коллегам Блонский
был
более
чем
суров.
Так
Вл. Соловьева,
С.
Трубецкого, Булгакова, Бердяева, Флоренского, Мережков-
ского
он
называет «врагами философии», упраздняющими
ее в
пользу религии.
Указывает
он и на
неоригинальность
и
эпигонство таких философов как Лопа-
тин,
Франк, Лосский. Среди увлеченных гносеологией
и
Кантом
в
России Блон-
ский
называет Введенского, приближающимся
к
позитивизму,
а
Челпанова
— к
метафизике.
Центральной тенденцией современной философии
он
считает
ее
стремление сделаться наукой
об
«активной цельной жизни».
Глава книги Блонского
о
феноменологии носит, конечно, весьма
об-
щий
характер, представляя только наиболее программные блоки раннего
про-
екта Гуссерля.
Это
прежде всего критика психологизма, учения
об
интенцио-
нальности, идеации, истине
и
очевидности. При этом
он
опирался
в
основном
на
оба
тома «Логических исследований»
и
статью
в
«Логосе»,
хотя «Идеи
I»
ему, очевидно, были также доступны.
Известность
в
историко-философских
кругах
принесла Блонскому
дру-
гая
его
работа,
о
Плотине (Философия Плотина.
1918).
В
послереволюционные
годы Блонский не без
успеха
делал
карьеру психолога, особенно прославившись
своей «Педологией» (1925), содержащей оригинальную теорию памяти.
В
20-30-
х
гг.
Блонский волглавлял кафедру школьной педологии
в
Академии коммуни-
стического воспитания им. Крупской.
В 1922
наряду
с
другими учеными подпи-
сал записку
об
организации русского психоаналитического общества.
П.П.
Блонский
Феноменология
Гуссерля
1. Анри Бергсон является в настоящее время одним из самых вид-
ных представителей интуитивизма. Под интуицией, как мы видели, Бергсон
понимает инстинкт, не имеющий практического интереса, или интеллекту-
альную симпатию. Но возможны и иные виды интуитивизма. Философия
Гуссерля и является таким образом образцом иного интуитивизма.
Эдмунд
Гуссерль
начал свою философскую деятельность логичес-
ким
исследованием чистой математики, а именно формальной арифметики
и
учения о многообразиях. Результатом этого исследования была его «Фи-
лософия
арифметики», которая находилась под сильным влиянием психоло-
469
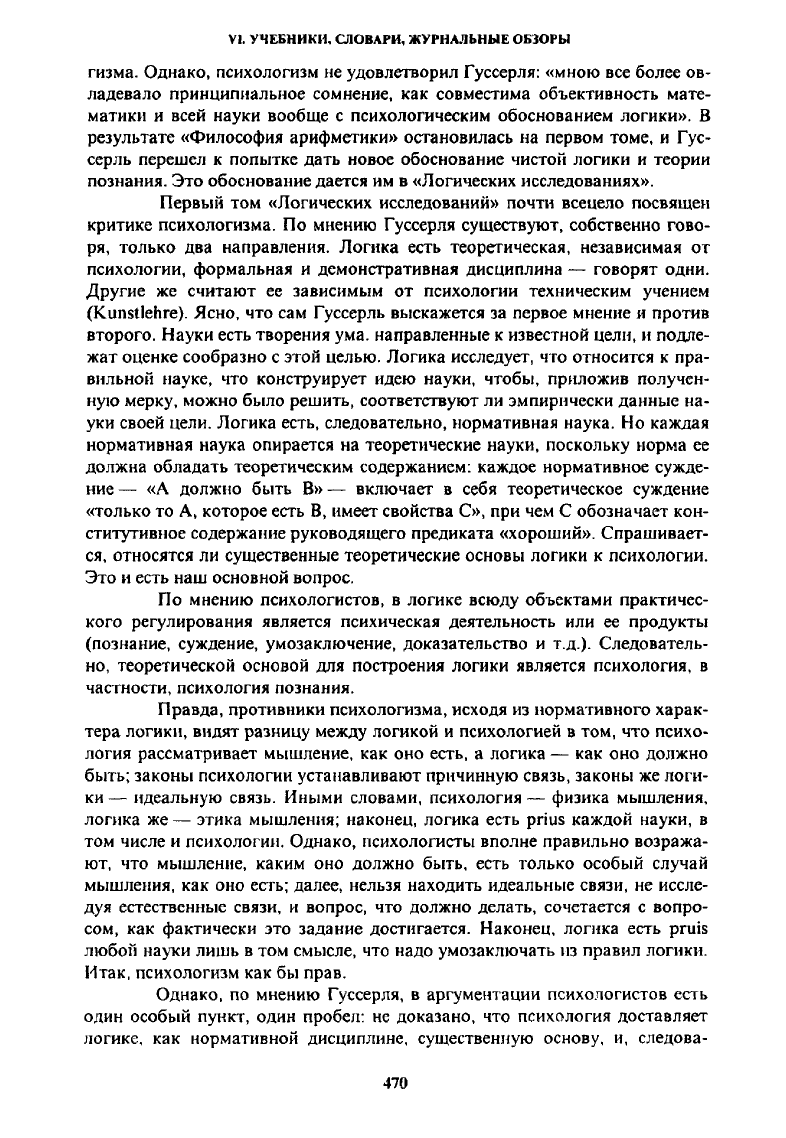
VI.
УЧЕБНИКИ,
СЛОВАРИ,
ЖУРНАЛЬНЫЕ
ОБЗОРЫ
гизма. Однако, психологизм не удовлетворил Гуссерля: «мною все более ов-
ладевало принципиальное сомнение, как совместима объективность мате-
матики
и всей науки вообще с психологическим обоснованием логики». В
результате
«Философия арифметики» остановилась на первом томе, и Гус-
серль перешел к попытке
дать
новое обоснование чистой логики и теории
познания.
Это
обоснование
дается им в «Логических исследованиях».
Первый
том «Логических исследований» почти всецело посвящен
критике
психологизма. По мнению Гуссерля
существуют,
собственно гово-
ря,
только два направления. Логика есть теоретическая, независимая от
психологии, формальная и демонстративная дисциплина — говорят одни.
Другие
же считают ее зависимым от психологии техническим учением
(Kunstlehre).
Ясно, что сам
Гуссерль
выскажется за первое мнение и против
второго. Науки есть творения ума. направленные к известной цели, и подле-
жат оценке сообразно с этой целью. Логика
исследует,
что относится к пра-
вильной
науке, что конструирует идею науки, чтобы, приложив получен-
ную мерку, можно было решить,
соответствуют
ли эмпирически данные на-
уки своей цели. Логика есть, следовательно, нормативная наука. Но каждая
нормативная
наука опирается на теоретические науки, поскольку норма ее
должна обладать теоретическим содержанием: каждое нормативное
сужде-
ние
— «А должно быть В» — включает в себя теоретическое суждение
«только
то А, которое есть В, имеет свойства С», при чем С обозначает кон-
ститутивное содержание руководящего предиката
«хороший».
Спрашивает-
ся,
относятся ли существенные теоретические основы логики к психологии.
Это
и
есть наш основной вопрос.
По
мнению психологистов, в логике
всюду
объектами практичес-
кого регулирования является психическая деятельность или ее продукты
(познание,
суждение, умозаключение, доказательство и т.д.). Следователь-
но,
теоретической основой для построения логики является психология, в
частности, психология познания.
Правда, противники психологизма, исходя из нормативного харак-
тера
логики,
видят разницу
между
логикой и психологией в том, что психо-
логия рассматривает мышление, как оно есть, а логика — как оно должно
быть; законы психологии устанавливают причинную
связь,
законы же логи-
ки
— идеальную связь.
Иными
словами, психология — физика мышления,
логика же — этика мышления; наконец, логика есть prius каждой науки, в
том числе и психологии. Однако, психологисты вполне правильно возража-
ют, что мышление, каким оно должно быть, есть только особый случай
мышления,
как оно есть; далее, нельзя находить идеальные связи, не иссле-
дуя естественные связи, и вопрос, что должно делать, сочетается с вопро-
сом,
как фактически это задание достигается.
Наконец,
логика есть pruis
любой науки лишь в том смысле, что надо умозаключать из правил логики.
Итак,
психологизм как бы прав.
Однако,
по мнению Гуссерля, в аргументации психологистов есть
один
особый пункт, один пробел: не доказано, что психология доставляет
логике,
как нормативной дисциплине, существенную основу, и, следова-
470
