Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве
Подождите немного. Документ загружается.

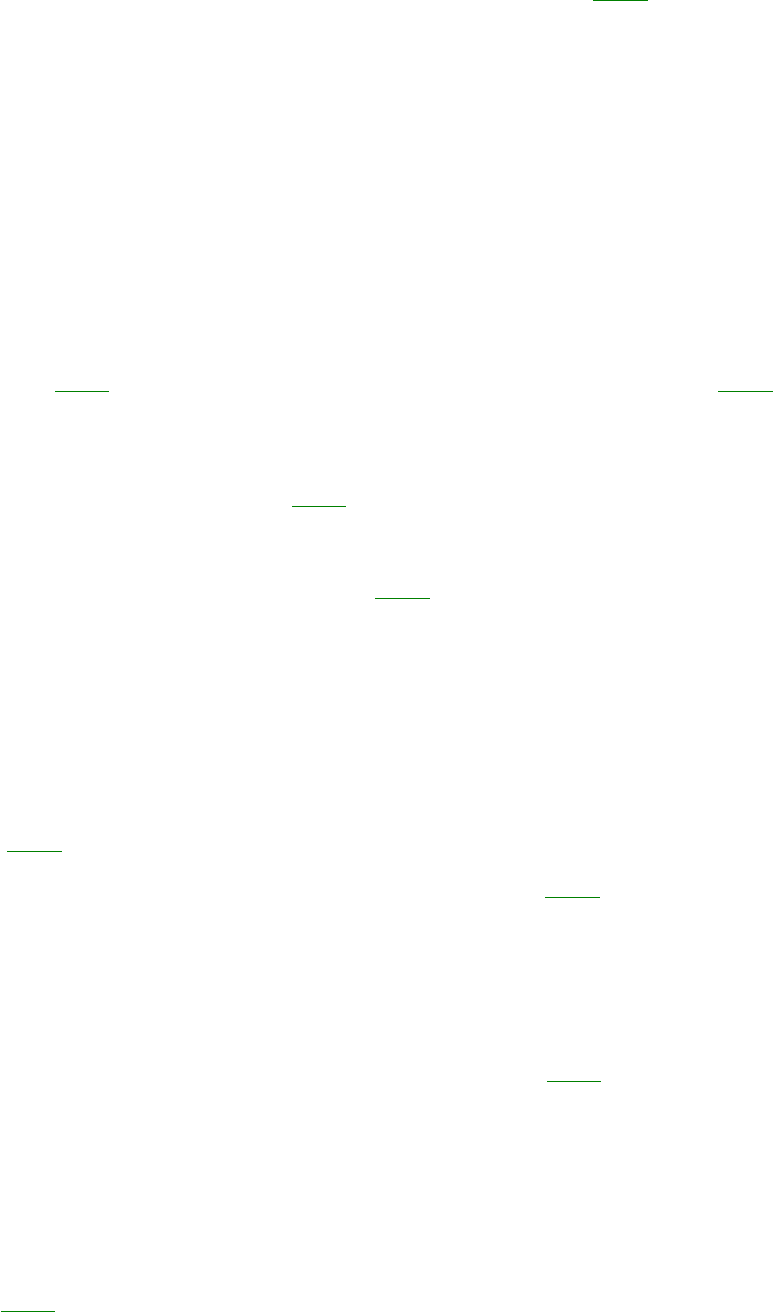
формулировку п. 1 ст. 48 более универсальной и предпочтительной, поскольку сделки являются хотя и
основной, но все же отнюдь не единственной правовой формой юридических (распорядительных)
действий (реализации правомочия распоряжения - элемента правоспособности)*(209). Кроме сделок
существуют еще и три формы юридических актов (корпоративные, административные и судебные), а
также юридические поступки; притом каждое из перечисленных действий может быть не только
правомерным, но и противоправным. Как юридическим, так и физическим лицам доступно не только
совершение сделок, но и участие в выработке и исполнении положений корпоративных актов,
инициирование принятия актов административных и судебных, а также подчинение их предписаниям и,
наконец, совершение юридических поступков, в частности таких, которые становятся основаниями для
cessio legis. Само собой понятно, однако, что применение п. 1 ст. 48 ГК должно осуществляться с учетом
другого положения п. 1 ст. 49, определяющего целевой характер правоспособности юридических лиц.
Несколько сложнее с публично-правовыми (государственными и муниципальными) образованиями. Но и
для них возможность совершения юридических (распорядительных) действий, в т.ч. уступки (цессии)
обязательственных прав и перевода обязательственных обязанностей (долгов), может быть усмотрена в
виде положений п. 1 и 2 ст. 124 ГК о том, что указанные субъекты участвуют в гражданском обороте на
равных началах с физическими и юридическими лицами с учетом особенностей, установленных для
юридических лиц (очевидно - некоммерческих организаций).
Вывод о том, что дозволенность перемены лиц во всяком обязательстве должна считаться
общим правилом, а запрет - исключением, "...которое должно находить себе оправдание в законе", был
сделан еще Д.И. Мейером*(210). В последующем его практически никто не подвергал сомнению*(211). В
советский период данный вопрос практически не поднимался. Так, например, в комментарии к статьям
211-216 ГК РСФСР 1964 г. упоминаются лишь практически встречающиеся случаи этих сделок, а также
формулируются следующие правила о недопустимости: (1) уступки, нарушающей принципы
планирования; (2) уступки, прямо запрещенной законодательством; (3) уступки и перевода по
обязательству, связанному с личностью должника*(212). Вывод о допустимости уступки требований и
перевода долгов по всем обязательствам, кроме тех, в отношении которых эти сделки прямо
запрещены, в советское время было возможно сделать только методом исключения: если имеется
исчерпывающий перечень запрещенного, то все остальное должно предполагаться разрешенным. В
принципе такой же способ рассуждения возможен и сегодня*(213), только надо помнить, что он касается
лишь активной цессии и пассивного перевода, в то время как вопрос о возможности сингулярной
перемены участников обязательства по иным основаниям (делегации обоих видов, пассивной цессии и
переводу прав) остается в этом случае открытым.
Гораздо весомым и универсальным является рассуждение, предложенное в свое время
дореволюционными цивилистами. Помимо обоснования возможности передачи всяких прав и долгов
"через правоспособность" их носителей, та же возможность обосновывалась ими и через свойства прав
и долгов как объектов гражданских прав. Как имущественные права, так и корреспондирующие им
имущественные обязанности, следует причислять к категории движимых имуществ. Движимое же
имущество всегда признается свободным в обороте, если иного не установлено законом. Значит, и
права требования, и долги как имущество движимое являются оборотоспособными, если иное не
установлено законом*(214). В настоящее время с точки зрения современного российского ГК, а также с
обоснованных выше теоретических позиций такое рассуждение не может быть оправдано (ГК, хотя и
знает категорию движимых вещей, но не причисляет к ним права и долги*(215), а мы не признаем
имущественные права объектами гражданских правоотношений). Тем не менее, оно несомненно
сохраняет теоретический интерес, по крайней мере, для сторонников концепции правопреемства -
передачи прав и сторонников признания прав объектами гражданских правоотношений (В.В. Байбак, В.А.
Лапач, Д.В. Мурзин, В.В. Почуйкин, А.С. Яковлев и др.). Увы, несмотря на возможность достаточно
недвусмысленного выведения из законодательства общего правила о допустимости сингулярной
перемены лиц во всяком обязательстве, "современная российская правоприменительная практика, - по
замечанию Л.А. Новоселовой, - в подходе к возможности изменения лиц в обязательстве ориентируется
больше на древние образцы, чем на потребности современного оборота"*(216). Автору настоящей
работы известны случаи, когда возможность совершения уступки требования в порядке цессии
отвергалась лишь потому, что о такой возможности нигде не упомянуто в законодательстве.
Нередко можно встретить и мнение, приурочивающее возможность совершения цессии
(приобретения требования по цессии) только к определенным субъектам. Так, в течение длительного
времени претендовал на статус господствующего взгляд, согласно которому для приобретения права
требования в порядке цессии необходимо было иметь лицензию на деятельность финансового агента,
т.е. специальную правоспособность субъекта, занимающегося финансированием под уступку денежных
требований - факторингом (ст. 825 ГК; см., однако, о ее действии и применении ст. 10 Вводного закона к
части второй Кодекса). Действительно, договор факторинга "по сути близок к договору возмездной
уступки требования"*(217), но будучи оставленным без комментариев данное положение на практике

легко огрубляется в заведомо неверный вывод типа "всякая цессия денежного требования за деньги -
это факторинг". Увы, почти что в таком (чуть более тонком) виде (цессия денежного требования,
возникшего из предоставления кредитором товаров, выполнения им работ или оказания услуг,
производящаяся за деньги (финансирование), представляет собой факторинг) этот вывод делается и
другим весьма авторитетным в своей области специалистом*(218). Это мнение не имеет абсолютно
ничего общего с действительностью и будет подвергнуто нами критическому разбору в параграфе о
соотношении современной цессии со смежными правоотношениями.
О том, насколько пресловутые "древние образцы" довлеют над современной деловой и судебной
практикой в вопросе о допустимости уступки требований, можно судить хотя бы по одному тому факту,
что этому вопросу уделяют самое пристальное внимание все без исключения специалисты,
разрабатывающие цессию. Наиболее объемные разделы своих монографий посвящают этому вопросу
Л.А. Новоселова*(219) и В.В. Почуйкин*(220); не составляем исключения в этом плане и мы*(221).
Минимально систематизировав возникающие в этой связи проблемы, мы получим возможность
выделить несколько их основных групп, существование которых обусловлено одним из следующих
заблуждений:
1) Возможность перемены лиц в обязательстве якобы может быть ограничена определенными
временными рамками. В частности, еще совсем недавно (вплоть до его прямого нормативного
разрешения*(222)) существовал вопрос о допустимости перемены лиц в обязательстве на стадии
исполнительного производства, и до сих пор периодически дает знать о себе вопрос о допустимости
перемены лиц в так называемых длящихся обязательствах (см. об этом ниже, в Приложении). В
действительности, перемена лиц в обязательстве допускается на любом этапе, на любой стадии
существования обязательств и, уж конечно, безотносительно к тому, продолжает ли обязательство в
момент своей уступки эволюционировать (изменяться), "обрастая" новыми элементами - правами и
обязанностями (это и есть обязательства, в практике обычно называемые длящимися), или оно уже
находится в полностью сформировавшемся, "застывшем" и неизменном состоянии. В обоих случаях
вопрос может касаться лишь предмета уступки*(223), *(224); во втором - также условий существования и
осуществления уступленных требований. Но ни в том, ни в другом случае для разрешения возникающих
проблем нет никакой надобности в запрещении или ограничении самой возможности уступки
требований.
2) Возможность перемены лиц в обязательстве якобы ограничивается заранее
предустановленным объемом (размером) требования. Из этого заблуждения вырастает практический
вопрос о недопустимости частичной уступки требования (уступки части требования, уступки некоторых,
но не всех требований, составляющих содержание так называемых сложных обязательств). В
действительности, следует признать, что перемена лица может производиться, по общему правилу, как
в отношении всего объема обязательства, так и в отношении его части, если иное не установлено
законом*(225). Единственным естественным ограничителем свободы волеизъявления в этом вопросе
является делимость предмета обязательства. В случае делимости предмета обязательства можно
сказать, что составляющие его право и обязанность также являются делимыми.
3) Возможность перемены лиц в обязательстве якобы исключается двусторонне обязывающим
характером договора, из которого возникло уступаемое требование (переводимый долг). Досадно, что
вослед этому заблуждению арбитражной практики отправилась и наука. Так, например, в одном из
комментариев к российскому ГК отмечается, что перемена кредитора в обязательстве из договора
купли-продажи или поставки "...будет одновременно означать и перевод долга, который требует
согласия другой стороны в обязательстве. По этим причинам сделка о переуступке требования может
быть признана судом недействительной"*(226).
Подобная позиция, с которой, конечно же, никак невозможно согласиться, являет собой
заблуждение, основанное на недопустимом смешении понятий об обязательстве и договоре и
неизбежно вытекающей отсюда путанице понятий о перемене лиц в обязательстве с переменой стороны
в договоре. Договор, как правило, является основанием возникновения не одного, а целого ряда
обязательств, притом, как правило, не односторонней, а именно встречной направленности. Ничто,
однако, (ни характер обязательств - (основной или акцессорный), ни их направленность) не препятствует
уступке прав (переводу долгов) как по всем обязательствам, возникшим из договора, так и только по
некоторым, в том числе и одному из них. Уступка одного из требований при наличии других, хотя бы и
встречных, означает только замену кредитора по уступленному требованию и ничего более; выводить из
такой уступки необходимость еще и одновременного перевода на нового кредитора (цессионария) также
и всех долгов по встречным требованиям нет никаких оснований. Да, так можно поступить - и в этом
случае состоится перемена лица во всех договорных обязательствах, или замена стороны в договоре -
но никакой необходимости в подобном поведении нет. Кроме того для того, чтобы так поступить,
очевидно, мало заключить только договор уступки требований - необходим еще и договор перевода
долгов по встречным требованиям, который, ясное дело, не произведет своего главного следствия
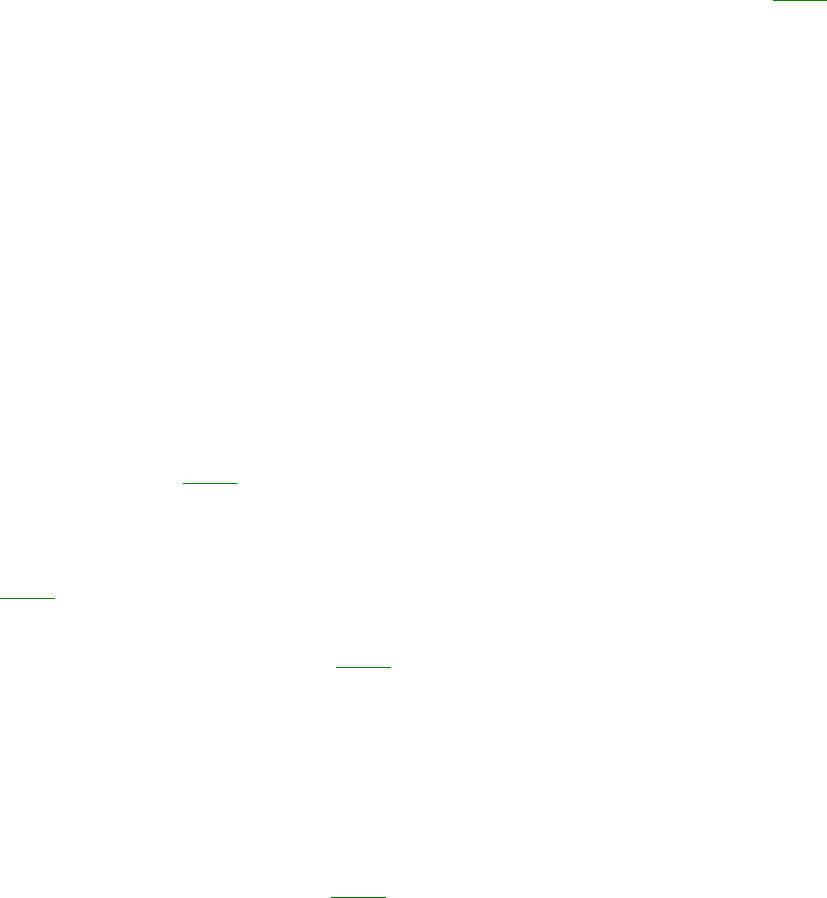
(замены должника) без санкции кредитора - второго контрагента по договору.
Уступка требования - перемена активного субъекта обязательства - ни при каких
обстоятельствах не может автоматически влечь и еще и перевода долга - перемену обязанного
субъекта. Перевод долга не может ни предполагаться, ни даже "вытекать" из каких-либо положений
договора или, тем паче, из его "существа". О переводе долга обязательно должно быть прямо указано в
договоре. Договор уступки требования в таком случае приобретет характер смешанного договора -
договора, сочетающего в себе элементы двух различных сделок - цессии и делегации. Уступив право
требования, вытекающее, скажем, из статуса поставщика (например, право получения покупной цены
поставленных товаров), лицо вовсе не перекладывает на плечи нового кредитора своих обязанностей
поставщика - они остаются на нем самом, на лице, ранее бывшем кредитором, на цеденте. Получится,
что обязанности по договору лежат на одном лице (исполняются одним лицом), а права по нему
принадлежат другому лицу и, стало быть, осуществляются этим самым другим лицом, только и всего.
Да, ситуация, при которой статус, скажем, покупателя, окажется разделен между двумя
различными лицами (обязанность уплаты покупной цены останется лежать на одноименном участнике
договора купли-продажи, в то время как право требования передачи вещи в результате его уступки
окажется принадлежащим постороннему договору лицу - цессионарию), вероятно, будет выглядеть
несколько необычно. С чисто практической точки зрения будет непросто добиться согласованности
действий от двух различных субъектов - осуществления права одним при надлежащем исполнении
обязанностей другим. Но "необычно" не означает "невозможно". Да и откуда берется эта самая
"необычность"? Уж не от арбитражной ли практики, юридически неадекватной, но зато так к
сегодняшнему моменту устоявшейся, что ничего другого уже и помыслить никто не в состоянии?!*(227)
Еще одним примером следования "древним образцам", причем не только в практике, но и в
теории, является проблема квалификации сделок, влекущих перемену лиц в обязательстве с точки
зрения зависимости их правового результата основания их совершения, т.е. вопрос об отнесении этих
сделок к числу абстрактных или каузальных.
Существование в римском праве сделок, в которых причина их совершения играла различную
юридическую роль, было замечено, по-видимому, еще в средние века. Но плотным научным
исследованием данного различия занялись лишь немецкие юристы XIX века - Brinz, Bekker,
Regelsberger, Dernburg. Развитие их взглядов следует относить к заслугам Stampe и Oertman`а.
Примечательно, что дореволюционная русская юридическая литература по проблеме абстрактных и
материальных сделок (обязательств, договоров), состоявшая в основном из соответствующих разделов
(глав, параграфов) учебников и курсов римского и гражданского права, основана, главным образом, на
взглядах первой группы немецких ученых. Работы Stampe были странным образом оставлены
современниками без внимания, а публикация Oertman`а, появившаяся в 1921 г., не могла быть учтена по
чисто естественным причинам.
В результате русская дореволюционная учебная литература стала носительницей таких
взглядов на проблему абстрактных и материальных сделок, которые, как выяснилось позднее, оказались
недостаточно проработанными. Так, например, В.М. Хвостов, проводя различие между каузальными и
абстрактными сделками, пишет, что если для действительности каузальной сделки необходимы
наличность и осуществление той цели, во имя достижения которой она совершается, то абстрактные
сделки "...сохраняют силу и производят свое действие даже в том случае, если цель, для которой они
заключены, не будет достигнута"*(228) (выделено автором. - В.Б.). Также и Г.Ф. Шершеневич полагает,
что "практическое значение различия между обоснованными и абстрактными договорами сводится к
тому, что отсутствие обстоятельства, составляющего основание обоснованного договора, поражает силу
последнего, тогда как при абстрактном договоре неосуществление ожидаемого обстоятельства, которое
имелось в виду той или другой стороной при установлении обязательства, не имеет никакого влияния на
силу договора"*(229). Правда, В.М. Хвостов признавал допустимым применение возражений о дефекте
основания даже в обязательствах абстрактных, но не для того, чтобы предотвратить наступление
правового результата абстрактного обязательства, а лишь для того, чтобы парализовать, уничтожить
уже фактически наступивший правовой результат*(230). Г.Ф. Шершеневич не говорит ни слова даже о
таких возражениях, из чего можно заключить, что, по его мнению, наступивший правовой эффект
абстрактной сделки абсолютен и юридически неопровержим. Утрированное воспроизведение такого
рода взглядов приводило к тому, что различие между абстрактными и каузальными сделками
(обязательствами и договорами) начинали видеть в простом отсутствии-наличии основания их
совершения: для каузальной сделки основание нужно, а в абстрактной сделке его может и не быть,
абстрактную сделку можно совершить "просто так", ради самой сделки.
Против подобных взглядов самым решительным образом выступил уже неоднократно
восхваленный нами А.С. Кривцов. Безосновательных, в прямом смысле этого слова, действий не
бывает. Всякое действие имеет причину. Значит, не может быть и безосновательных сделок. Никто не
обязывается только затем, чтобы обязываться*(231). Никто не выдает ценной бумаги просто из
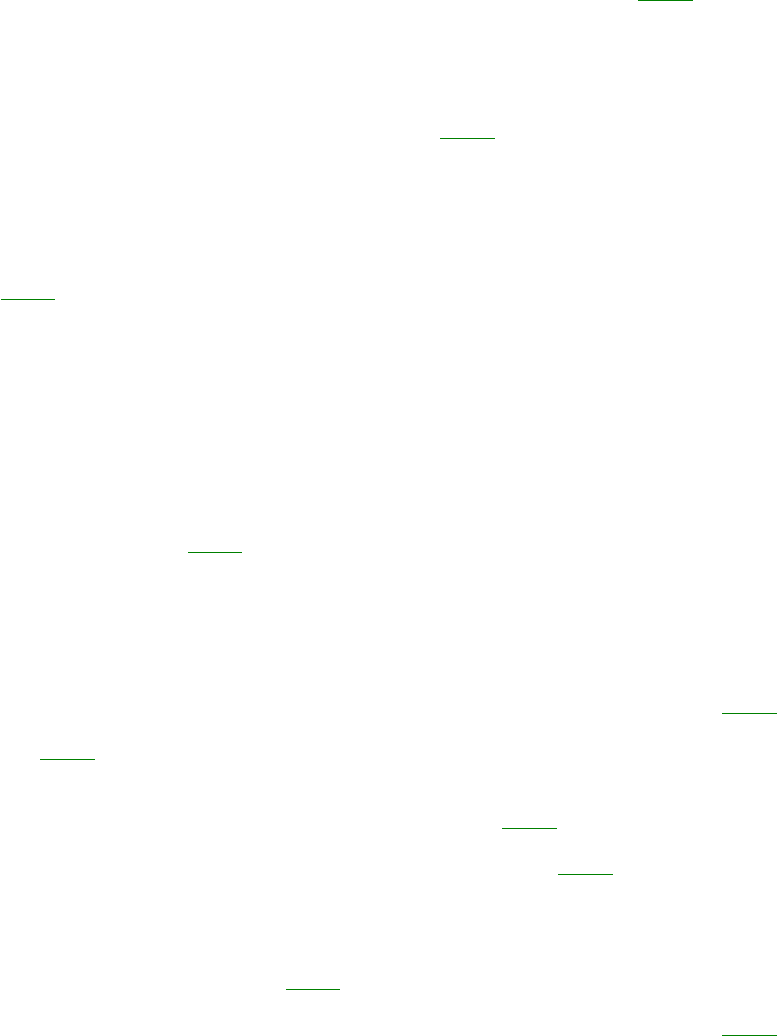
стремления выдать бумагу; никто не заключает договор ради самого договора; никто не дает
делегационного обещания ради самого обещания. Ценная бумага выдается ради, например, получения
кредита; договор заключается для того, чтобы приобрести, например, вещь; делегационное обещание
дается, допустим, в расчете на ликвидацию долга делегата перед делегантом. Причина сделки, ее
ближайший мотив - хозяйственный или правовой - всегда существуют. Но юридические функции
основания сделок могут быть различными как в материально-правовом, так и в процессуальном аспекте.
Различие между абстрактными и каузальными сделками основано, прежде всего, на том факте,
который право предполагает действительным. Если законодатель предполагает, что основание (causa)
сделки наличествует, действительно и не отпало ...тогда перед нами сделка абстрактная; если же в роли
предмета предположения выступает факт отсутствия основания - сделка каузальная*(232). Как на
следствие вышеназванного материально-правового различия нужно указать и на различие
процессуально-правового характера, а именно - на различное распределение бремени доказывания
наличности основания обязательств, в зависимости от того, возникли ли они в силу абстрактной, или в
силу каузальной сделки. Если кредитор желает реализовать права, приобретенные им по каузальной
сделке, то он должен доказать, что должник, принимая на себя корреспондирующие его правам
обязанности, имел на это соответствующее правовое основание*(233). Причем даже доказав это
обстоятельство, кредитор может столкнуться с возражениями должника, касающимися того
обстоятельства, что данное основание оказалось недействительным или отпало впоследствии. Но если
кредитор требует реализации своих прав, вытекающих из абстрактной сделки, то он не обязан
доказывать существование и действительность правового основания возникновения своих прав -
таковое предполагается существующим и действительным. "При абстрактных договорах обязательство
реализуется помимо доказывания его правооснования, и это делает его способным легко переходить от
одного лица к другому"*(234), - пишет И.Б. Новицкий в одной из своих ранних работ советского времени.
Свойство абстрактности - каузальности сделок можно выразить и "через должника". Должник по
обязательству из каузальной сделки может не производить исполнения и вообще ничего не делать и не
говорить до тех пор, пока кредитор не докажет наличие и действительность основания возникновения
своих прав. Должник же по обязательству, возникшему из абстрактной сделки, желающий снять с себя
бремя исполнения такого обязательства, сам должен доказать, что права кредитора безосновательны, а
потому не подлежат осуществлению и защите. Если он будет отказываться от исполнения и при этом
никак не обоснует своего отказа, такое его поведение будет расцениваться как неправомерное, а сам
должник будет принужден к исполнению через суд.
Исследований советских ученых-юристов в области абстрактных и каузальных сделок не
существует. Само разделение сделок на абстрактные и каузальные было объявлено "в советских
условиях" незначимым и схоластическим*(235). "Советское право вообще относится отрицательно к
абстрактным сделкам, - писал И.Б. Новицкий в другой свой работе. - Советскому праву нет надобности в
таком чрезмерном укреплении права кредитора, чтобы не давать должнику возможности даже ссылаться
на неосуществление того основания, из которого возникает право кредитора. Советскому праву чужд
формальный подход; оно обращает главное внимание на материальную сущность
отношения. ...Поэтому абстрактные сделки допускаются у нас только в совершенно исключительных
случаях (например, расчеты по сальдо). Относительно абстрактности уступки права требования
никаких указаний в законе нет, а потому нет оснований признавать ее абстрактной"*(236)
(выделено мной. - В.Б.). Тот же самый вывод и на том же самом основании сделан И.Б. Новицким и в
отношении перевода долга*(237).
Позднее вопрос об абстрактных и каузальных сделках лишь упоминался в рамках учебной
литературы, причем об абстрактных сделках говорилось именно как о сделках, действительность
которых не зависит от наличности и действительности их основания*(238). В теорию никто не
углублялся, да и никого это не интересовало, что было естественно, ведь "количество абстрактных
сделок, известных советскому гражданскому праву, исчисляется единицами"*(239). По изложению
учебников создавалось впечатление, что не просто "единицами", а "единицей", ибо единственным
примером абстрактной сделки, известным советским учебникам гражданского права, был вексель. Такое
положение вещей сохраняется в литературе до сих пор. В последних учебниках гражданского права
вспомнили тезис И.Б. Новицкого о том, что "для действительности абстрактных сделок обязательно
указание на их абстрактный характер в законе"*(240) (выделено мной. - В.Б.); "действительность
абстрактных сделок, недопустимость оспаривания их основания возможны лишь при обязательном
отражении их абстрактного характера и установлении соответствующего запрета в законе"*(241)
(выделено мной. - В.Б.). Как будто авторы подобных "предложений" не знают, что подобных "указаний" и
"запретов" нет и никогда не было ни в одной гражданской кодификации мира!
"С сожалением приходится отмечать, что теории абстрактных сделок в современной российской
цивилистике уделяется очень мало внимания, и совершенно естественно, что отсутствие таких
разработок приводит к весьма своеобразной трактовке этого понятия в правоприменительной практике в

приложении к конкретным видам сделок"*(242), - пишет Л.А. Новоселова. Мы полностью разделяем эти
сетования. Приведенные выше высказывания относительно необходимости указания на абстрактный
характер сделок в законе в современных условиях никак не могут быть признаны правильными. То, что
безусловно соответствовало действительности во времена написания своих работ И.Б. Новицким и
вывод о чем делал честь ученому, сегодня не имеет никакого отношения ни к действительности, ни к
чести "авторов" приведенных тезисов. Сделка абстрактна не потому, что ее так "обозвал" закон! С этой
точки зрения даже вексель не есть абстрактная сделка, потому что ни один нормативный акт не
характеризует ни сам вексель как абстрактную ценную бумагу, ни сделку по выдаче (передаче, акцепту,
авалированию) векселя как абстрактную сделку. Применительно к советским и даже современным
российским законам разделение сделок на каузальные и абстрактные является действительно
схоластическим, ибо сам закон на терминологическом уровне подобной классификации не проводит. Но
если принять во внимание не чисто словесную, а смысловую сторону гражданского закона, то станет
очевидным, что для того чтобы констатировать наличие абстрактных и каузальных сделок нет, никакой
надобности выискивать соответствующие слова в тексте закона. Подобное разделение обнаруживается
не из слов и выражений Кодекса, а из его содержания, хотя бы и переданного другими словами.
Сделка абстрактна не потому, что ее так назвал или того пожелал закон, а потому, что из самого
содержания сделки вытекает, что ее совершивший желал бы облегчить режим осуществления прав,
возникших из этой сделки. Внешне абстрактность сделки уступки требования выражается в том, что в ее
содержании отсутствует условие об эквиваленте за предоставленные (уступленные) права. Так, если в
заключенном договоре идет речь о том, что одно лицо обязуется передать другому определенную вещь,
но нет ни слова об основании передачи (то ли за эту вещь оно получит деньги, то ли иную вещь, то ли
рассчитывает на дарение, то ли на арендную плату, то ли еще на что-то - непонятно) - перед нами
абстрактный договор (абстрактная сделка), если угодно - договор о передаче вещи или договор о
традиции. Но если перед нами договор о передаче вещи, в котором хотя прямо сказано, что он
"абстрактный", однако при этом указывается, что вещь передается за предоставленные деньги, нет
никаких оснований квалифицировать данную сделку как абстрактную. Еще раз подчеркиваем: дело не в
том, чтобы назвать сделку абстрактной, а в том, чтобы она по сути своей была таковой; в том, чтобы
наличность и действительность производимых ею юридических последствий не зависели от основания
совершения этой сделки. Абстрактная сделка - одно из средств укрепления стабильности гражданского
оборота и вместе с тем одно из средств упрочения абсолютно-правовых результатов сделок -
результатов, на которые при нормальном ходе оборота полагается неопределенный круг лиц. Поэтому
весьма логично признавать абстрактный характер в первую голову за сделками, производящими
абсолютно-правовые последствия - распорядительными сделками.
В законодательстве возможность заключения той или иной сделки как абстрактной может
выражаться двумя способами: (1) прямым указанием на абстрактность сделки или (2) умолчанием об
эквиваленте (каузе, основании, причине) совершения сделки. Первый способ, как уже отмечалось,
относится к числу, скорее фантастических, чем практических; во всяком случае, ни одной
законодательной нормы, в которой та или иная сделка объявлялась бы абстрактной, мы припомнить не
можем*(243), а значит, в действительности остается только второй. Несмотря на всю кажущуюся его
замысловатость, практическое его применение в действительности совсем несложно благодаря тому,
что подавляющее большинство сделок рассматривается законодательством именно как каузальные.
Больше того, основание их совершения входит в число признаков, определяющих понятие каждой такой
сделки. Так, например, не может быть "абстрактной купли-продажи" или "абстрактной аренды", что
называется, по определению: сами наименования сделок уже говорят о наличии эквивалента и его
характере (качестве). "По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и
уплатить за него определенную денежную сумму (цену)" (п. 1 ст. 454 ГК). На каком основании продавец
становится обязанным к передаче вещи? На основании принятия на себя покупателем встречного
обязательства по уплате ее покупной цены. А по какой причине принимает на себя подобное
обязательство покупатель? На что он рассчитывает? Очевидно, либо на уже состоявшуюся передачу
ему продавцом права собственности на вещь, либо на будущую подобную передачу. В самом
определении договора как договора купли-продажи уже заложены указания на основания возникающих
из него обязательств. То же и с договорами аренды, ссуды, ренты, займа, кредита и даже дарения.
Могут ли быть и являются ли абстрактными (с точки зрения современного гражданского
законодательства) сделки, влекущие перемену лиц в обязательстве? - договоры цессии требования и
перевода долга? Ознакомление с нормами гл. 24 ГК позволяет установить, что законодатель не говорит
ни слова об основании совершения данного рода сделок, о той причине, по которой лицо "расстается" с
принадлежащими ему правами или принимает на себя чужое долговое бремя. О чем свидетельствует
подобное законодательное молчание? Только о том, что обе рассматриваемые сделки - договор уступки
требования и договор перевода долга - могут быть совершены по самым различным основаниям. Раз
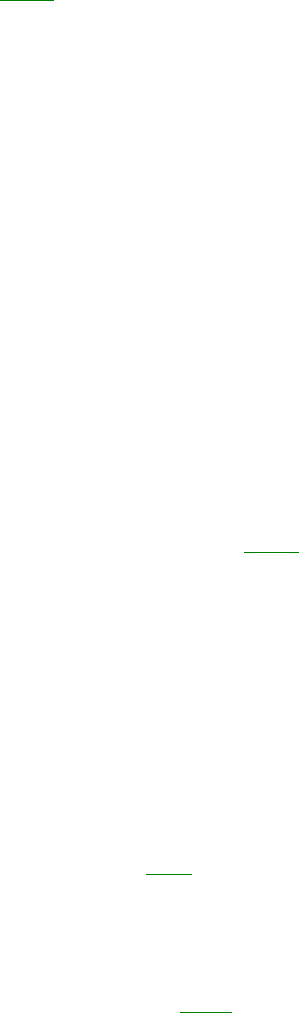
гражданское законодательство не содержит указания на обязательность для них какого-то строго
определенного основания (цели) совершения, то значит, что подобные сделки могут быть совершены по
любому, не противоречащему закону основанию. Можно уступить право требования в качестве
отступного, погасив, тем самым, существующий долг; можно "продать" право требования, т.е. уступить
его, получив за это денежную сумму; можно принять на себя чужой долг как за вознаграждение со
стороны прежнего должника, причем во всякой возможной форме - денежной, вещевой, в виде
уступаемого требования или лицензии на использование исключительного права, так и вовсе без какого
бы то ни было вознаграждения, т.е. облагодетельствовать должника и т.д. Основание совершения
уступки требования и перевода долга не влияет ни на юридическую природу данных сделок, ни на
содержание возникших из этих сделок правоотношений*(244). Цессия всегда остается цессией, вне
зависимости от того, почему она совершена, так же, впрочем, как и перевод долга - переводом долга,
независимо от причины, по которой он состоялся.
Влияет ли на абстрактную природу конкретной уступки требования и перевода долга прямое
указание на основание совершения соответствующего договора? Практика свидетельствует, что именно
в таком виде заключается подавляющее большинство соглашений о цессии; как правило, сторонами
устанавливается обязанность уплаты денежного эквивалента (цены) уступаемого права. Несколько реже
сейчас встречаются прежде широко распространенные многосторонние соглашения о зачете взаимных
требований, элементами которых являлись, как правило, многочисленные встречные уступки
требований. Договоры о переводе долгов в практике встречаются существенно реже, поэтому говорить о
какой-то общей тенденции здесь возможным не представляется, но и среди этого небольшого числа
также встречаются договоры, в которых прямо указывается, по какой причине одно лицо становится
должником за другого. Чаще всего - это стремление нового должника "покрыть" собственный долг перед
прежним должником. Каковы последствия наличия в договорах подобных условий?
На наш взгляд, будет ли в соглашении о цессии либо договоре перевода долга прямо сказано,
что за основание его породило, или не будет - это неважно. На его абстрактную природу это
обстоятельство никак не влияет и в каузальный соответствующий договор не превращает. Вместе с тем
было бы неправильным и совершенное игнорирование воли сторон, выразившейся, в числе прочего, и в
условии, которое касается основания совершения соответствующего договора. Достижение
договоренности по этому вопросу означает, что для сторон является важным, принципиальным
моментом то, чтобы соответствующее основание в действительности существовало. При нормальном
течение хода дел оно предполагается существующим и действительным; иное необходимо доказывать.
Абстрактный по своей природе договор с подобным условием приобретает характер договора
титулированного, становится, по выражению Л.А. Новоселовой "...чем-то средним между абстрактной и
каузальной сделкой, но все же больше тяготеющим к сделке абстрактной"*(245). Пресловутое
"тяготение" проявляет себя в ограниченном (относительном или одностороннем) действии титула: его
наличность и действительность оказывает влияние только и исключительно на отношения участников
договора (старого и нового кредиторов, либо прежнего и нового должников), но не влияет на их
отношения с третьим лицом, в договоре не участвующим (должником при цессии требований и
кредитором при переводе долгов). Так, цедент не вправе, ссылаясь на то, что следуемое ему от
цессионария по договору уступки встречное предоставление не было им получено, получено
несвоевременно, является недействительным или отпало впоследствии, требовать возврата
уступленного права и, уж тем более, - принуждать должника, уже исполнившего обязательство
цессионарию, к повторному исполнению. Точно также не вправе поступить подобным образом и новый
должник, не получивший ожидаемого эквивалента от первоначального должника, обязанность которого
он принял на себя по титулированному договору перевода долга. Однако дефектами основания
титулированной цессии или титулированного перевода вправе, а в некоторых случаях - и обязаны
пользоваться должники и кредиторы, хотя бы и не участвующие в соответствующих договорах, но
заинтересованные в охранении собственных интересов (см. выше, концы § 7-9 главы 2).
Итак, цессия прав и перевод долгов по современному российскому гражданскому
законодательству должны пониматься как сделки, которые хотя и могут быть заключены как с указанием
их основания, но, несмотря на это, должны рассматриваться как сделки абстрактные. Что же касается
сделок делегации, интерцессии и перевода прав, то, имея в виду отсутствие специальных указаний
закона на сей счет, мы не имеем никаких оснований признавать эти сделки каузальными. Напротив,
ориентируясь на исторический материал и выполненные в предшествующей главе общие теоретические
рассуждения, мы, кажется, вправе заключить, что всякая делегация, цессия и перевод развивались по
преимуществу именно как сделки абстрактные, притом - в их чистой форме; их заключение в
титулированной форме, т.е. с ограниченным материальным эффектом, является, скорее, исключением.
Последний общий вопрос, который следует обсудить перед дальнейшим изложением, касается
следующего. Являются ли сделки, имеющие своим следствием перемену лиц в обязательстве,
реальными или консенсуальными? Ответ на него кажется достаточно очевидным: такие сделки попросту

не могут быть реальными хотя бы потому, что их предмет не относится к числу вещей. Действительно,
само наименование сделок реальными происходит от латинского res, т.е. "вещь", и, по общему правилу,
означает сделки, считающиеся совершенными в момент передачи вещи. Это узкое или собственное
понимание категории "реальные сделки". Но вот какой вопрос в таком случае небесполезно обсудить:
какова причина выделения реальных сделок и их противопоставления консенсуальным? Ответить на
него можно, только имея в виду то юридическое значение, которое связывается с передачей вещей.
Общеизвестно, что именно передача вещи (владения движимой вещью) признается моментом перехода
права собственности на эту вещь (п. 1 ст. 223 ГК). А что есть момент перехода (прекращения прежнего и
возникновения нового) права собственности? Одно из возможных абсолютно-правовых, т.е.
распорядительных, последствий сделок. Реальные сделки, стало быть, выделены из общей массы
сделок не столько по моменту их заключения, сколько по наличию у них распорядительного (абсолютно-
правового) эффекта*(246). Ясно, что абсолютно-правовые последствия могут наступать не только в
отношении одних лишь вещей: так, пресловутая перемена лиц в обязательстве, сводящаяся к
прекращению субъективного обязательственного права (требования) в одном лице и к производному
возникновению на его базе другого требования, тоже представляет собой не что иное, как абсолютно-
правовое (распорядительное) последствие.
С этой точки зрения как делегационные обещания, так и договоры уступки и перевода должны
быть отнесены к числу распорядительных сделок. Да, в них не фигурирует никаких вещей, которые
могли бы быть предметом передачи, и они не могут, следовательно, влечь за собой абсолютно-
правового результата в сфере вещных прав. Но, вместе с тем такие сделки направляются распоряжение
существующими обязательственными субъективными правами и юридическими обязанностями, т.е. на
достижение результатов, лежащих в сфере гражданской правоспособности и носящих, стало быть,
абсолютно-правовой характер. Договоры уступки требований и долгов вступают в силу (считаются
заключенными) с момента достижения соглашения по всем их существенным условиям и с этой точки
зрения должны были бы быть признаны консенсуальными; но каков гражданско-правовой эффект такого
консенсуса? Возникновение обязательства - относительно-правовой связи между определенными
лицами? Ничуть не бывало! - прекращение существующего обязательственного правоотношения,
сопровожденное возникновением на его месте нового, с участием лица (кредитора или должника), в
установлении прежнего обязательства не участвовавшего.
На обыденном языке этот результат описывается гораздо проще и понятнее: обязательство,
будучи облеченным доверием к нему не только со стороны его участников, но и посторонних лиц,
вступило на путь циркуляции, стало объектом гражданского оборота, приобрело характер
самостоятельной имущественной ценности. Если до совершения цессионного договора обязательство
не имело иного действия, кроме относительного, то после его совершения к обязательству оказались
прикосновенны не только его участники, но и, по крайней мере, одно, прежде постороннее ему лицо; с
каждой последующей цессией количество лиц, прикосновенных к подобной "имущественной ценности",
увеличивается. Теоретически в оборот одного обязательства может быть вовлечен сколь угодно
широкий (неопределенный) круг лиц; их интересы, связанные с охранением элементов их динамической
правоспособности, и призвано защитить гражданское право.
В свете сказанного хотелось бы сказать несколько слов о другом распространенном ныне
недоразумении, которое заключается в трактовке сделок, направленных на перемену лиц в
обязательствах как сделок исключительно безусловных. То обстоятельство, что законодательство
обходит молчанием вопрос о возможности совершения условной цессии или условного перевода долга,
не должно расцениваться как основание для вывода о недопустимости осложнения данных сделок
условиями. Законодательство вообще не устанавливает каких-либо ограничений на возможность
совершения условных сделок (в том числе и по перемене лиц в обязательстве). Нигде в
законодательстве не встретить указания на возможность совершения, скажем, договора купли-продажи
или договора хранения под условием. Но это вовсе не означает, что такие договоры заключить
невозможно, а говорит всего лишь о том, что нет необходимости устанавливать специальное
разрешение всякий раз применительно к конкретным сделкам. Статья 157 ГК однозначно установила,
что как под отменительным, так и под отлагательным условием может быть совершена всякая сделка,
лишь бы осложняющее условие соответствовало сути той или другой конкретной сделки.
Отменительное условие прекращает (отменяет) возникшие правовые последствия на будущее время,
отлагательное "отлагает", т.е. откладывает или отсрочивает наступление правовых последствий
совершения сделки впредь до своего наступления. Сказанное, будучи преломленным к конкретным
сделкам по перемене лиц в обязательстве, означает, что умолчание законодательства по данному
вопросу свидетельствует о дозволенности осложнения данных сделок - как делегационных, так и
цессионных, так и переводных - условиями любых типов - отменительными или отлагательными. В
прямом законодательном санкционировании нуждается, таким образом, не возможность, а, наоборот,
запрет осложнения той или иной конкретной сделки условием всякого или строго определенного типа.
Наиболее известны в этом отношении запреты вексельного законодательства на осложнения условиями
обязательств акцептанта, векселедателя простого векселя, индоссантов и авалистов (см. ст. 26, 75, 12,
32 Положения о переводном и простом векселе), а также запрет на осложнение условием вексельного
предложения уплатить (ст. 1 Положения). Ясно, что некоторая неточность в терминологии (речь должна
идти, конечно, не об обязательствах, а именно о сделках) не должна служить препятствием ни к
уяснению сути сказанного, ни к адекватным ей выводам.
Осложнение сделки условием приводит к возникновению своеобразных юридических
последствий в виде секундарных прав и корреспондирующего им состояния юридической связанности.
Уступка права требования, совершенная под отлагательным условием (например, под условием
совершения какой-либо сделки третьим лицом - контрагентом цедента), не влечет прекращения этого
права требования у цедента и возникновения его у цессионария иначе, как с момента наступления этого
условия. До наступления этого условия цедент оказывается связанным перед цессионарием бременем
сохранения условно переданного права в надлежащем состоянии - он уже не может его уступить (иначе,
как под отменительным условием), не может его осуществить, не может изменять его содержание
соглашением с должником и не может совершать действий, направленных на прекращение или
изменение этого права. Цессионарий же оказывается связанным в своем поведении необходимостью
обеспечения предоставления эквивалента за уступленное право в соответствии с условиями сделки.
Отменительное условие, напротив, связывает цедента бременем сохранения полученного от
цессионария эквивалента в течение определенного срока, на протяжении которого может наступить
значимое условие; цессионария - бременем сохранения приобретенного права или, во всяком случае,
всего того, что будет получено им от его осуществления.
То же самое можно сказать и о ситуации перевода долга под условием.
Любопытно, что, даже будучи совершенными под условиями, договоры уступки требования и
перевода долга не изменяют своего распорядительного характера, поскольку с наступлением условия
отлагательного стороны связывают наступление абсолютно-правовых последствий, а с отменительным -
их отмену. Кроме того, осложнение сделки условием приводит к созданию дополнительных
(вспомогательных) юридических последствий абсолютно-правового характера - прав ожидания или
секундарных прав, составляющих элементы так называемой динамической правоспособности.
Таким образом, определяя место сделок по перемене лиц в обязательствах в системе сделок
современного российского гражданского права, следует иметь в виду, что: (1) все они могут иметь своим
предметом любое обязательство, за исключениями, прямо установленными законом или вытекающими
из его общих предписаний, причем как в полном объеме обязательства, так и во всякой его части, при
условии делимости предмета обязательства; (2) все эти сделки являются абстрактными, хотя действие
их абстрактности может быть ограничено - сведено к относительному материальному эффекту
посредством титулирования сделок; (3) все они могут совершаться и как условные и как безусловные
сделки, но при этом (4) сделки делегационные относятся к числу односторонних, в то время как
цессионные и переводные - к числу договоров; (5) сделки делегации являются сделками реальными, в
то время как сделки цессионные и переводные - консенсуальными с точки зрения момента своего
заключения, но вместе с тем распорядительными (реальными) с точки зрения создаваемых ими
гражданско-правовых последствий.
Далее рассмотрим специфические черты каждой сделки, служащей основанием перемены лиц в
обязательстве, по нормам современного российского гражданского законодательства.
§ 2. Договор уступки требования (цессия)
а) Общие положения. Определение
Перемена активного субъекта обязательства, или иначе - переход прав кредитора к другому
лицу, может произойти, согласно п. 1 ст. 382 ГК, либо по сделке (уступка требования), либо на основании
закона. В настоящем параграфе нас будет интересовать первый случай, т.е. переход права требования
по сделке.
ГК не уточняет, что за сделка имеется им в виду. Помещение им в "скобках" после указания на
сделку словосочетания "уступка требования" может быть, конечно, сочтено наименованием такой
сделки, но, скорее всего, законодатель здесь имел в виду указать на цель сделки. Вне зависимости от
своего характера (односторонняя ли она или относится к числу договоров) и, уж тем более, - названия,
это должна быть такая сделка, которая непосредственно направлена на достижение распорядительного
эффекта - уступку требования (его прекращение у одного кредитора и производное возникновение в
другом лице).
Все следующие положения статей главы 24 ГК сформулированы, однако, таким образом, что из
них однозначно прослеживается ориентация исключительно на сделку договорного характера. Так, п. 2

ст. 382 ГК указывает, что "для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника,
если иное не предусмотрено законом или договором". Если согласие должника не требуется, то чье же
требуется? Очевидно, согласие субъектов, прежде должника упомянутых, то есть "другого лица" (к
которому будут "переходить" права кредитора) и самого этого "кредитора". На договорный характер
уступки требования указывают и некоторые другие нормы Кодекса; он признается и подавляющим
большинством ученых, и арбитражной практикой. Представляется, что договорную природу сделки, о
которой говорит § 1 гл. 24 ГК, можно считать вполне однозначно установленной; больше того, из Кодекса
ясно следует, что им имеется в виду договор, заключенный между двумя кредиторами - прежним и
новым. Следовательно, все дальнейшие нормы ГК о перемене кредитора в обязательстве следует
понимать как нормы, регламентирующие договор сингулярной сукцессии или активной цессии.
Договор сингулярной сукцессии (активной цессии) - это соглашение, в силу которого одна
сторона (первоначальный кредитор, цедент) передает другой стороне (новому кредитору, цессионарию)
субъективное обязательственное право (право требования) к третьему лицу (должнику, цессионару), а
цессионарий приобретает это право требования.
б) Требования, не подлежащие цедированию*(247)
Имея в виду сделанные ранее общие выводы, а также наличие в ГК норм, регламентирующих
отдельные случаи недопустимости совершения цессии*(248), можно утверждать, что общим правилом
ГК считает дозволенность уступки в порядке сингулярной сукцессии всякого требования по всякому
обязательству. Исключения из этого правила, известные ГК, немногочисленны. Это:
1) требования, связанные с личностью кредитора, так называемые строго личные или высоко
персонифицированные (термин Л.А. Новоселовой) требования (в качестве примера ст. 383 ГК приводит
требования об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью);
2) требования, уступка которых противоречит закону или иным правовым актам (п. 1 ст. 388 ГК);
3) требования, уступка которых противоречит договору (имеется в виду договор первоначального
кредитора с должником) (п. 1 ст. 388 ГК)*(249);
4) без согласия должника - требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет
существенное значение для должника (п. 2 ст. 388 ГК), либо иное требование, не подлежащее уступке
без согласия должника в силу прямого указания закона или соглашения цедента с должником (п. 2 ст.
382 ГК).
Русские ученые - цивилисты различных эпох выделяли также ряд частных случаев требований,
цессию которых они считали недопустимой в силу самой природы этих требований. В основном это были
строго личные права, т.е. права, в принципе не приспособленные к передаче, точнее - неразрывно
связанные с личностью только одного конкретного кредитора (право требования предоставления
узуфрукта, оказания личных услуг, возмещения за оскорбление, клевету, обиду; право требования
возвращения дара, возникшее вследствие неблагодарности одаряемого, и некоторые др.)*(250). В
Комментарии к ГК РСФСР 1964 г. к строго личным требованиям отнесены также требование о выплате
авторского гонорара и требования, связанные с отношениями членства в кооперативных
организациях*(251). К этой категории прав мы можем добавить право требования одаряемого к
дарителю об исполнении обещания дарения (п. 2 ст. 572 ГК), а также право требования заемщика к
кредитору о выдаче кредита (ст. 819 ГК).
В различные времена выделялись различные требования, уступка которых прямо запрещалась
законом. Так, в дореволюционной России наиболее известным было предписание о запрещении
передачи прав из закладных и заемных писем, обеспеченных закладом недвижимости*(252). В советское
время принципиально недопустимой считалась уступка такого требования, которая приводила бы к
нарушению принципов планирования, например, требования о поставке продукции, о передаче
предприятиями друг другу основных фондов*(253). Транспортными уставами и кодексами было
закреплено положение о недопустимости уступок прав предъявления претензий и исков к
перевозчику*(254). Современными авторами нередко обращается внимание на недопустимость уступки
ряда требований, связанных с банковской деятельностью*(255), например, требований клиента к банку
по распоряжению банковским счетом*(256) и вообще любых требований банка после отзыва у него
лицензии на совершение банковских операций и т.п.; требований арендатора к арендодателю без
согласия последнего (противоречит п. 2 ст. 615 ГК); недопустимость безвозмездной уступки любых
требований в отношениях между коммерческими организациями (противоречит ст. 575 ГК);
недопустимость уступки любых требований, совершенной потенциальным банкротом во вред своим
кредиторам (ранее противоречила и противоречит ныне соответствующим нормам законодательства о
несостоятельности (банкротстве)*(257). До недавнего времени к этому перечню следовало бы добавлять
еще и случай недопустимости уступки резидентом России резиденту же любых требований, выраженных
в иностранной валюте, кроме как по специальному разрешению Банка России на каждую уступку:
таковая противоречила п. 7-10 ст. 1 и п. 1 и 2 ст. 6 ранее действовавшего Закона РФ о валютном
регулировании и валютном контроле. В настоящее время следует согласиться с мнением В.В.
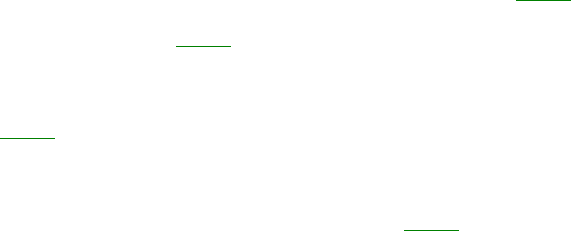
Почуйкина, согласно которому новый (ныне действующий) российский валютный закон*(258) не относит
право требования, выраженное в иностранной валюте, к числу валютных ценностей и не рассматривает
уступку такого права в качестве валютной операции*(259).
В настоящее время следует констатировать недопустимость уступки:
1) любых требований лицом, признанным банкротом, без санкции на то временного, внешнего
или конкурсного управляющего (противоречит ст. 64, 82, 101, 109, 112, 133 и 140 Закона о
несостоятельности (банкротстве)*(260));
2) любых требований малолетними (противоречит ст. 28 ГК);
3) отдельных прав из ценных бумаг, удостоверяющих совокупность прав, например, уступки
только права получения дивидендов из акции без уступки остальных прав (противоречит п. 1 ст. 142 ГК,
устанавливающей начала презентационности и неделимости ценных бумаг)*(261);
4) преимущественного права покупки (противоречит п. 4 ст. 250 ГК РФ);
5) залогодержателем своих прав по договору о залоге, иначе, как при условии одновременной
уступки тому же лицу и прав по обеспеченному залогом обязательству (ст. 355 ГК);
6) требований, возникших из договоров пожизненной ренты и пожизненного содержания с
иждивением (противоречит п. 2 ст. 589 ГК);
7) финансовым агентом требований, которые он сам приобрел в порядке уступки (противоречит
ст. 829 ГК, если иного не будет предусмотрено договором финансирования под уступку данного
требования).
Конечно же, отыскать все законодательные предписания, которые могут послужить основаниями
для ограничения или запрещения уступки тех или иных требований, невозможно. Но можно вывести
общее правило, хотя бы и на основании приведенных выше примеров. Как можно заметить,
законодательные ограничения на совершение сделок уступки требований устанавливаются исходя из
нескольких различных критериев: субъектного, объектного, содержательного и временного.
Следовательно, ответ на вопрос относительно допустимости той или иной конкретной сделки цессии
может быть дан только после тщательного детального изучения всех имеющихся в законодательстве
ограничений, касающихся: (1) правоспособности контрагентов предполагаемой сделки; (2)
оборотоспособности объектов предполагаемых к уступке требований; (3) возможности наделения
правами определенного содержания только строго определенных лиц; (4) возможного времени
совершения тех или иных сделок.
Точное определение позиции по вопросу о недопустимости уступки того или иного отдельно
взятого требования имеет и еще один существенный практический аспект: требования, которые не могут
быть предметом уступки, не могут быть также и предметом залога (п. 1 ст. 336 ГК), а в более широком
смысле - и предметом всякого иного обеспечения, реализация которого неизбежно или вероятно связана
с изменением субъекта данного требования.
в) Форма договора цессии требований
ГК регулируется вопрос о форме, в которой должна быть совершена сделка сингулярной
сукцессии (см. ст. 389). По общему правилу уступка требования, основанного на сделке, совершенной в
простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной
форме, т.е., простой письменной или нотариальной.
Уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть
зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено
законом.
Каких-либо специальных предписаний о форме сукцессии требований, возникших из устных
сделок, а также, юридических фактов, не являющихся сделками (например, из событий, юридических
поступков, административных актов, судебных решений, причинения вреда, неосновательного
обогащения), законом не установлено. Следовательно, должны применяться предписания общие,
которые суть следующие.
В силу общего правила п. 1 ст. 159 ГК следует заключить, что поскольку для сделок уступки
перечисленных требований не устанавливается, что они должны быть совершены письменно, постольку
они могут быть совершены и устно, если иного не будет установлено соглашением сторон (например,
предварительным договором). Законом же, как известно, установлено "иное" в отношении (1) сделок
юридических лиц между собой и с гражданами и (2) сделок граждан между собой на сумму,
превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда -
таковые должны совершаться в простой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК). Не требуется письменной
формы для сделок (даже двух указанных выше категорий), если эти сделки исполняются при самом их
совершении, а также, если они совершаются во исполнение письменного договора (п. 2 и 3 ст. 159, п. 2
ст. 161 ГК).
Следуя содержанию рассмотренных норм ГК, можно заключить, что современный российский
законодатель придерживается взгляда, согласно которому форма договора сингулярной сукцессии
