Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве
Подождите немного. Документ загружается.

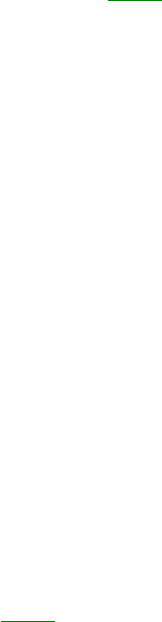
требования возмещения убытков, причиненных неосуществимостью приобретенного требования.
1) Обязанность цедента передать документы об уступленном праве в юридической литературе
рассматривается как важнейшая обязанность цедента и отмечается почти всеми авторами, хотя бы в
малейшей степени затрагивавшими проблемы уступки требования.
В отечественной литературе идет вялотекущая полемика по вопросу о юридическом значении
нарушения данной обязанности: а не свидетельствует ли ее нарушение о том, что цессия просто не
состоялась, как не оформленная надлежащим образом? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять,
какова была цель законодательного возложения подобного рода обязанности на цедента.
На наш взгляд, невозможно усомниться в том, что возложение на цедента обязанности передачи
документов, удостоверяющих уступленное право, сделано исключительно в интересах цессионария, но
не должника. Самая постановка вопроса о подобной обязанности связывается законодательством с
наличием цессионария - нового кредитора, лица, которому эти документы необходимы, а значит, их
передача не может быть ни элементом самой уступки требования, ни элементом ее оформления - она
может быть только последствием уже состоявшейся уступки. Исполнение этой обязанности лишает
цедента формальной легитимации (и, следовательно, в большинстве случаев, чисто фактической
возможности получить исполнение) и дает такую легитимацию в руки цессионарию (позволяя
последнему доказать еще и факт приобретения им права, хотя и косвенным образом*(291)). Исполнение
обязанности передать документы ни на наличность, ни на действительность акта цессии,
следовательно, не влияет; ее нарушение цедентом дает цессионарию право иска о понудительном ее
исполнении и, уж конечно. не свидетельствует об отсутствии цессии.
Состав документов, подлежащих передаче цедентом цессионарию, в законе не определен.
Определение его должно осуществляться также исходя из цели возложения на цедента данной
обязанности: состав документов должен быть таким, чтобы он доказывал наличность и
действительность уступленного права должнику и любым незаинтересованным в этом третьим лицам
(прежде всего, конечно, для цессионария важно, чтобы документы позволяли бы ему доказать
наличность и действительность права суду). Так, например, наличность и действительность права
требования возврата кредита доказывается (следуя современной арбитражной практике) следующей
совокупностью документов: (1) кредитным договором; (2) расчетными документами банка-кредитора о
выдаче кредита по данному кредитному договору с календарными штампами об исполнении; (3)
бухгалтерскими документами банка-кредитора о списании суммы кредита со своего корреспондентского
счета; (4) бухгалтерскими документами банка, обслуживающего заемщика, о зачислении суммы кредита
на банковский счет заемщика. С практической точки зрения, очевидно, можно говорить об обязанности
цедента передать все имеющиеся у него документы об уступленном праве; пригодятся ли они в
дальнейшем цессионарию или нет - не вопрос цедента.
В случае, если уступленное требование имеет обеспечение, оформленное документально
(например, залог, поручительство, передаваемую банковскую гарантию, соглашение о неустойке и др.),
вместе с документами об уступленном требовании подлежат передаче также и документы об
обеспечении. Данное правило основано на принципе следования дополнительных требований судьбе
основного (ст. 384 ГК). Естественно, передавать документы об обеспечении не нужно, если договором
сингулярной сукцессии предусмотрено, что требование переходит к цессионарию без имеющегося
обеспечения, каковое за отсутствием в лице цедента главного требования должно быть признано с
момента уступки прекратившимся. При наличии обеспечения в виде залога движимого имущества
помимо передачи цедентом документов о таком залоге цедент обязан также передать само имущество,
составляющее предмет залога цессионарию как новому залогодержателю*(292).
Как мы подчеркивали выше, для исполнения обязанности по передаче документов,
удостоверяющих цедированное право, в договоре необходимо обусловливать определенный срок, ибо
законодательство такого срока не устанавливает. Вопрос этот с практической точки зрения может
оказаться чрезвычайно важным, а потому отдавать его разрешение на откуп практике применения п. 2
ст. 314 ГК явно не следует.
Разумеется, цедент не обязан отдавать документы "в никуда". Имея в виду возможность
обращения цессионария к нему с регрессом на случай недействительности уступленного права,
возможность обращения к нему должника с требованием вручения долгового документа, наконец,
возможность повторного обращения неаккуратного или недобросовестного цессионария с требованием
выдать документы еще раз, цедент вправе не выдавать документов иначе, как под расписку
цессионария в их получении. Выдача такой расписки составляет кредиторскую обязанность
цессионария; ее неисполнение влечет последствия, предусмотренные ст. 406 ГК. Оптимальным
вариантом содержания такой расписки было бы перечисление в ней всех полученных документов их не
только формальными, но и юридически значимыми содержательными признаками, включая все отметки,
сделанные на документах цедентом. Как вариант, можно предложить сохранение у цедента ксерокопий
документов, переданных цессионарию, с отметками последнего на каждой копии о получении
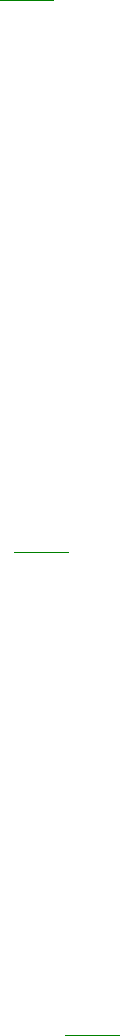
соответствующего оригинала.
Как поступить с документами о праве в случае уступки части требования или одного из многих
требований, вытекающих из одного (неделимого) долгового документа или единственного комплекта
документов? Должны ли документы о праве, часть которого принадлежит цеденту, а часть передана
цессионарию, оставаться у цедента либо передаваться цессионарию? Законодательство этого вопроса
не решает. В литературе данный вопрос тоже практически не обсуждался; пожалуй, только И.Б.
Новицкий удостоил его своим вниманием, отметив, что при уступке части требования из долгового
документа, цедент вправе сохранить у себя подлинник этого документа, но обязан обеспечить
получение новым кредитором надлежаще заверенной копии за счет последнего*(293). Нам
представляется, что при ответе на данный вопрос нужно исходить из следующего основного
практического положения: первоначальный кредитор (цедент) сохраняет возможность получить
надлежащее исполнение от должника даже при отсутствии у него долгового документа (см. п. 2 ст. 408
ГК). Рассматривая данный вопрос более широко, можно сказать, что такую возможность прежний
кредитор сохраняет даже при отсутствии у него всяких доказательств своего права. Причина проста -
должнику достоверно известна личность цедента именно как личность кредитора, в то время как о
существовании цессионария и его личности должник может и вообще ничего не знать. Более того, ряд
договоров предполагает исполнение, учиняемое по инициативе должника, безотносительно к факту
представления кредитором каких-либо документов. Так, например, поставщик, получивший предоплату
по договору поставки, должен выполнить собственную обязанность по поставке товара, не спрашивая с
покупателя каких-либо документов.
В ином положении находится новый кредитор. Не располагая доказательствами наличности и
действительности права, он никогда не сможет убедить должника в собственной правомочности.
Наличие у него копий документов о праве, хотя бы и "надлежаще заверенных", права не доказывает, ибо
из самих копий документов следует, что их оригиналы оформлены на чужое имя. Более того, с таких,
например, документов, как ценные бумаги, копии, в принципе, не снимаются и публичным порядком не
заверяются. Все вышеизложенное убеждает нас в мысли о том, что даже при частичной уступке
требования (уступке одного из нескольких, удостоверенных одним документом (комплектом документов),
требований) общим правилом должно быть правило об обязанности цедента передать документы об
уступленном праве цессионарию. Только при таком решении вопроса права цессионария будут
надлежащим образом гарантированы и смогут осуществиться.
Как же обеспечить в таком случае легитимацию цедента? Очевидно, что цеденту для
осуществления сохраненных им за собою прав потребуются: (1) доказательство того, что документы,
удостоверяющие его статус кредитора, находятся у третьего лица (цессионария)*(294); (2)
доказательство основательности (законности) вручения этих документов цессионарию, т.е.
доказательство состоявшейся уступки требования; (3) при получении исполнения - выдача расписки о
получении частичного исполнения с указанием о невозможности отметить его на долговом документе по
причине нахождения данного документа у третьего лица.
На случай, когда недобросовестный должник пожелает воспользоваться отсутствием у цедента
легитимирующих документов и на этом основании откажет в исполнении, цеденту, очевидно, должно
быть предоставлено право привлекать к участию в споре лицо, у которого легитимирующие документы
находятся, т.е. цессионария. За цессионарием в связи с этим должна быть признана соответствующая
обязанность, о которой мы скажем далее.
Существование обязанности цедента передать цессионарию документы об уступленном праве
является безусловно необходимым и не подлежит сомнению. Но, как указывалось выше, один лишь
только факт нахождения документов о праве у цессионария сам по себе еще не свидетельствует о том,
что и удостоверенное ими право также принадлежит цессионарию. Документы о праве необходимы, но,
как правило, недостаточны для материальной легитимации цессионария (его узаконения в качестве
кредитора). Документы о праве цедента могут оказаться у третьего лица по самым различным
основаниям: цедент может передать их для хранения, для того, чтобы показать, как оформляются
подобные документы, для проведения их юридической или криминалистической экспертизы и т.п.; в
конце концов, третье лицо может просто неправомерно завладеть документами о чужом праве, подобно
тому, как владельцем вещи может быть не только ее собственник, но и арендатор, и перевозчик, и
хранитель, и вор.
Возникает вопрос: отчего же в таком случае ни в законодательстве, ни в литературе*(295)
практически ничего не говорится об обязанности цедента обеспечить цессионария доказательствами
состоявшейся уступки (состоявшегося перехода) права, удостоверенного переданными документами?
Возможно, как законодатель, так и ученые находят излишним особо упоминать об этой обязанности из-
за ее бесспорно необходимого и очевидного характера, но нам кажется, что дело тут несколько в ином.
Подобной обязанности в строго юридическом смысле на цеденте все-таки не лежит; если уж и говорить
о чем-то подобном, то, скорее, не об обязанности, а о бремени и к тому же лежащем в равной степени на
обоих участниках уступки. Сказанное станет абсолютно ясным, если принять во внимание тот очевидный
факт, что единственным доказательством состоявшегося перехода прав может быть только... договор
уступки требования (как единый документ или совокупность документов). Очевидно, что в "изготовлении"
подобного "доказательства" цедент принимает ничуть не большее участие, чем цессионарий, а
последний - не меньшее, чем цедент. Максимум, на что нужно цессионарию (именно ему, как лицу,
заинтересованному в выполнении требования должника по п. 1 ст. 385) обратить внимание цедента - так
это на оформление дополнительного экземпляра договора уступки (цессии), предназначенного для
передачи должнику.
Если договор сингулярной сукцессии предусматривает необходимость совершения
дополнительных действий по передаче права через какое-то время после его заключения, то
доказательством состоявшейся уступки должен служить, наряду с самим договором, по-видимому,
экземпляр акта приема-передачи права, письмо цедента цессионарию либо иной согласованный в
договоре документ о такой передаче.
Если договор сингулярной сукцессии предусматривает автоматический переход права по
исполнении цессионарием какой-либо обязанности (например, по уплате цеденту определенной
денежной суммы), то наряду с экземпляром договора сингулярной сукцессии доказательством
состоявшейся уступки будут служить документы, подтверждающие исполнение цессионарием этой
обязанности.
2) Обязанность цедента сообщить цессионарию сведения, имеющие значение для
осуществления уступленного требования, также рассматривается учеными как одна из главных
обязанностей цедента во всякой цессии. Вслед за законодателем современные российские ученые
ставят ее на второе место (после обязанности передать документы).
В число сведений, имеющих значение для осуществления уступленного требования и
подлежащих сообщению цессионарию цедентом, несомненно входят сведения об (1) имевшем место
полном или частичном исполнении обязанности, корреспондирующей уступленному праву; (2) условиях
осуществления цедированного требования (времени, месте и субъекте его предъявления, способе
предъявления, месте и времени, куда должно быть произведено исполнение и иные подобные); (3)
имеющемся обеспечении исполнения обязательства, в содержание которого входит уступленное право;
(4) действительных и вероятных возражениях, которые должник мог бы противопоставить заявителю
требования; (5) обстоятельствах, опровергающих указанные возражения. Данные сведения на практике
как правило также выражаются в форме документов (каких-либо иных договоров, писем, телеграмм,
справок, сообщений, протоколов и т.п.), в силу чего в договоре цессии полезно указывать, что
сообщение всяких сведений цедент обязан подкреплять документом или, по крайней мере, ссылкой на
источник, из которого эти сведения почерпнуты, а также - на право цессионария требовать изготовления
и предоставления ему копий документов, содержащих любые из перечисленных сведений, разумеется,
за его, цессионария, счет, как лица, заинтересованного в наличии таких документов.
Исполнение обязанности сообщения сведений, имеющих значение для осуществления
уступленного права, должно быть, с одной стороны, обусловлено сроком, по крайней мере,
совпадающим со сроком исполнения обязанности по передаче документов о наличности и
действительности права, а с другой - должно происходить немедленно по появлении у цедента таких
сведений. Отметим, что пока должник не уведомлен о совершении цессии, вероятность получения
цедентом новых сведений, имеющих значение для осуществления цедированного права, весьма высока.
К информации об имеющемся обеспечении исполнения обязательства, содержание которого
слагается в том числе и из уступленного требования, относятся не только сведения о всех неустойках,
поручительствах, гарантиях, залогах и задатках (т.е. способах обеспечения, известных ГК), но и иных
мерах, преследующих побуждение цессионара к надлежащему исполнению соответствующей
обязанности. Естественно, что не нужно сообщать об имеющемся обеспечении путем удержания вещи
цессионара и иных аналогичных способах, связанных с личностью конкретного кредитора. С
прекращением требования у кредитора, удерживающего вещь (цедента), отпадает и само право
удержания, ибо его осуществление связано с нахождением вещи в руках именно нового кредитора
(цессионария). У последнего же этой вещи нет и попасть к нему на законном основании она не может.
Уведомление о возражениях должно иметь своим предметом не только те из них, с которыми
цеденту уже пришлось столкнуться в свою бытность кредитором (действительные возражения), но и те,
которые должник хотя и не заявлял, но в принципе может в любое время заявить (вероятные
возражения). Естественно, мы не имеем в виду возражения, основанные на законодательном дефекте
требования, ибо цессионарий обязан знать законодательство и значит предполагать возможность
заявления ему возражений из данного дефекта. Мы говорим о возражениях, касающихся лишь данного
конкретного требования и являющихся делом случая, которые обычно имеют процессуально-правовой
характер. Так, например, цедент знает, что уступленное им требование может быть осуществлено
только при условии предварительного исполнения им (цедентом) некоторой обязанности. Цеденту
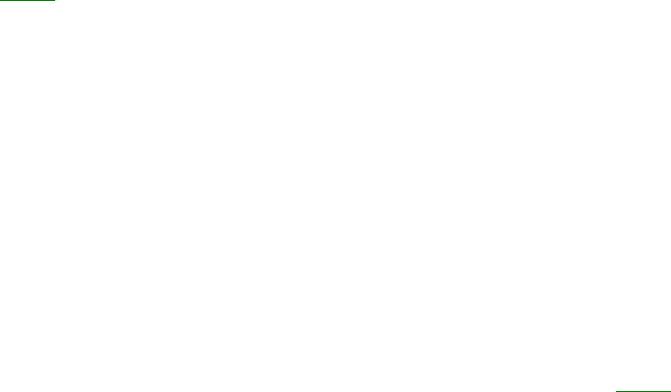
известно, что обязанность эту он исполнил, т.е. почва для законодательного (материально-правового)
возражения отсутствует. Но цеденту также известно, что, исполнив обязанность, он не запросил с
получателя исполнения никакого документа об этом. Если лицом, получавшим исполнение, был не
цессионар, а кто-то иной, весьма велика вероятность, что цессионар, прежде чем исполнять требование
нового кредитора, поинтересуется, а как обстоит дело с исполнением встречного обязательства?
Несомненно, что цессионарий обратится за сведениями к цеденту и, получив таковые, потребует
возмещения с цедента убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора: должен был
уведомить об отсутствии доказательств и, соответственно, о вероятностных возражениях, но не
уведомил.
Наконец, сведения об обстоятельствах, опровергающих действительные и вероятностные
возражения, также обычно содержатся во всякого рода документах, обычно - документах о фактических
обстоятельствах, имеющих юридическое значение. Нет препятствий и для использования сведений,
почерпнутых из показаний свидетелей и иных допустимых законом источников доказательств.
Вообще же рассматривая проблему предоставления документов и сообщения сведений
цедентом относительно наличности и качества уступленного права с точки зрения практики, следовало
бы настоятельно рекомендовать потенциальным цедентам предоставлять такую информацию и
документы, а цессионариям - требовать таковые или, по крайней мере, убеждаться в их наличии, еще на
стадии согласования условий договора цессии. То есть прежде чем заключать договор цессии,
цессионарий должен (в смысле разумного поведения, а не юридической обязанности) ознакомиться с
документами, удостоверяющими требование, и получить максимум информации. В этом же
заинтересован и цедент. Это видно из следующего.
3) Следующей обязанностью цедента является обязанность обеспечения действительности
переданного требования. Цель возложения на цедента этой обязанности - обеспечение именно
передачи (уступки) права, а не простой лишь внешней видимости такой передачи. Допустив передачу
"недействительного" (несуществующего) права, мы должны были бы войти в логическое противоречие,
ибо недействительное право не есть существующее право, а, следовательно, не есть право. Говорить
об уступке недействительного права, следовательно, принципиально невозможно; совершив нечто
подобное, цедент обязан вознаградить цессионария точно так же, как обязан вознаградить покупателя
нерадивый продавец, отгрузивший, к примеру, тальк вместо муки. Как покупатель не получает
ожидаемого товара, точно также и цессионарий, удовлетворившись видимостью требования,
ожидаемого требования не получает. "...Если обязательство, право по которому передано, оказывается
недействительным, то цессионарий вправе требовать от цедента вознаграждения на том основании, что
цедент не исполнил своего обязательства по сделке об уступке - не передал ему права: то, что
передано, недействительно"*(296). Дело, следовательно, по мнению Д.И. Мейера, заключается в
ответственности цедента за несостоявшиеся ожидания цессионария, намеревавшегося приобрести
право, а получившего вместо права лишь одну его внешнюю видимость. На наш взгляд, это
"объяснение" вовсе не свидетельствует о том, что на цеденте лежит какая-то обязанность перед
цессионарием вроде обязанности обеспечить действительность уступаемого права. Скорее уж, следует
говорить о некой абсолютно-правовой (всеобщей) обязанности воздерживаться от совершения любых
вредоносных действий, в том числе посредством создания ложных представлений о наличности и
действительности тех или других субъективных прав. Убытки, причиненные подобными действиями,
разумеется, должны быть возмещены как, впрочем, и всякие вообще убытки, причиненные
неправомерными (противоправными) и виновными действиями.
Сказанное является основанием для некоторых, нечасто встречающихся и почти не
разделяемых в отечественной литературе, умозаключений.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что норма ст. 390 ГК, устанавливающая
принцип ответственности цедента за недействительность уступленного требования, явно не
соответствует норме ст. 178 Кодекса. Если верно, что объективная сторона основания ответственности
цедента по ст. 390 ГК состоит в заключении им договора, направленного на цессию (уступку)
недействительного (несуществующего) права, то с юридической точки зрения такое действие должно
быть расценено не иначе, как введение цедентом цессионария в существенное заблуждение*(297). Как
известно, сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения, относится к категории
оспоримых, т.е. может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под
влиянием заблуждения. В нашем случае таковой стороной будет цессионарий. Согласно п. 2 ст. 178 ГК
помимо традиционных последствий недействительности (реституция) цессионарий будет иметь право
требовать возмещения ему причиненного цедентом реального ущерба. Норма же ст. 390 ГК говорит
просто об ответственности цедента перед цессионарием за недействительность переданного
требования, не ограничивая ее размер суммой одного лишь реального ущерба. В каком же объеме
должен отвечать цессионарий за недействительность переданного требования - сполна (по ст. 390) или
только в сумме реального ущерба (по п. 2 ст. 178)? Есть в данных нормах и еще одно несоответствие:

ст. 390 говорит о безусловной ответственности, в то время как п. 2 ст. 178 - об ответственности,
наступающей только при введении цедентом цессионария в заблуждение (относительно вопроса о
действительности уступленного права). Как правильно? Следует ли ст. 390 применять (как норму
специальную) приоритетно перед нормой общей или же с учетом п. 2 ст. 178? Контекст ст. 390 позволяет
установить, что вопросы об объеме и условиях ответственности цедента за недействительность
уступленного требования в ней попросту не затрагиваются (не обсуждаются). Общая норма (п. 2 ст. 178
ГК) касается, стало быть, таких вопросов, которые нормой специальной (ст. 390) не разрешаются, а это
значит, что норма общая должна иметь субсидиарное применение к ситуации, регламентируемой
специальной нормой. Норма ст. 390 (об ответственности цедента за недействительность уступленного
требования) должна применяться с учетом ограничений, установленных п. 2 ст. 178 ГК.
Принцип ответственности цедента только за свое содействие впадению цессионария в
заблуждение означает ограничение случаев его ответственности перед цессионарием за убытки,
причиненные недействительностью уступленного требования только такими, в которых цедент знал или
должен был знать о недействительности уступаемого им требования. Если цедент в момент подписания
договора цессии знал, что сделка, являющаяся основанием возникновения уступленного требования,
совершена со стороны должника лицом, не имевшим необходимых для этого полномочий, но не
предупредил об этом цессионария, то его виновное поведение, способствовавшее впадению
цессионария в заблуждение, налицо. К этому же разряду случаев, очевидно, должны быть причислены
действия по уступке требования, заведомо для цедента парализованного дебиторскими эксцепциями,
относящимися к факту возникновения или существования требования. С некоторой натяжкой к
основаниям ответственности цедента по ст. 178 и 390 ГК можно отнести и случаи уступки требования,
заведомо для цедента не подкрепленного достаточными доказательствами его возникновения,
существования или опровержения известных ему возражений должника. И, напротив, вполне ясно, что
если цедент еще до подписания договора цессионарием предупредил последнего о всех недостатках
требования и рисках, связанных с вопросом его возникновения и сохранения, предоставил в руки
цессионария все документы и сведения, необходимые для противодействия известным ему эксцепциям
должника, а цессионарий, проигнорировав предупреждение, требование все-таки приобрел и (или) не
пожелал (не смог) воспользоваться предоставленными ему цедентом материалами и сведениями, то все
происшедшие от этого неблагоприятные последствия должны падать на самого цессионария. Цедент
здесь ни при чем, ибо предметом договора цессии было не просто требование, а такое требование,
которое характеризуется лишь вероятностным существованием и (или) сопряженное с известными
осложнениями при его осуществлении. Цессионарий делал приобрести именно такое (сомнительное в
том, другом, или всех отношениях) требование - что ж, он именно его и приобрел, т.е. вместе с
бременем сопряженных с ним рисков и прочих осложняющих моментов.
Затем, само собой понятно, что если цессионарий не потерпел реального ущерба от того, что
приобрел недействительное требование, почвы для применения ст. 390 ГК нет и не может быть.
Возвратить эквивалент, полученный им от цессионария, он будет обязан по п. 2 ст. 167 и п. 2 ст. 178 ГК.
Любопытно, что ни к уплате номинальной стоимости требования, оказавшегося недействительным, ни к
уплате рыночной стоимости, которую данное требование имело бы, будучи действительным, ни одна из
законодательных норм цедента не обязывает. Связывая это последнее обстоятельство с ранее
сделанным выводом (об ограниченном объеме и виновной ответственности цедента), можно сделать
вывод о том, что ст. 390 ГК не должна применяться к случаям безвозмездной уступки*(298).
Подтверждением его правильности служит, на наш взгляд, п. 3 ст. 576 ГК, который, среди норм об
уступке, подлежащих применению к случаям дарения права, правила ст. 390 (об ответственности
цедента за недействительность уступленного права) не называет. Цедент отвечает перед цессионарием
за недействительность переданного ему требования, стало быть, не только (1) в ограниченном объеме и
лишь (2) при условии, что он своим поведением способствовал впадению цессионария в заблуждение,
но еще и при том условии, что (3) совершенная им уступка требования была возмездной.
Наступает ли ответственность цедента за отпадение (прекращение) уступленного права после
совершения его уступки, но по причинам (обстоятельствам), которые возникли до ее совершения? По
аналогии с предшествующим рассуждением можно было бы заключить, что если такие обстоятельства
не были и не могли быть известны цеденту в момент уступки, т.е. представляли собой такие недостатки,
о которых цедент не предупредил цессионария не в силу своей недобросовестности, а лишь потому, что
объективно и не мог о них предупредить, ответственности цедента наступать не должно; в ином случае
цедент при возмездной уступке, напротив, должен признаваться ответственным за отпадение
(прекращение) уступленного права. Думается, однако, что аналогия эта мало уместна, поскольку
разрешаемый при ее посредстве случай имеет мало общего с той ситуацией, решение которой мы
делаем предметом аналогии. В самом деле, если ст. 178 и 390 разрешают вопрос об ответственности
цедента за недействительность уступленного права, т.е. случай, когда предметом уступки было не
существовавшее требование и уступки, стало быть, по сути, вовсе не было, то обсуждаемая сейчас

проблема касается случая цессии существовавшего права (совершившейся уступки), но обладавшего
такими недостатками, которые привели к его прекращению в лице цессионария. Думается, что за такого
рода недостатки цедент возмездным образом уступленного права должен отвечать в любом
случае*(299) и к тому же в полном объеме. Соображение здесь очень простое: если о недостатках,
связанных с установлением (возникновением), права управомоченное лицо может и не знать, то
недостатки в уже возникшем (существующем) праве никак не могут появиться без того или другого
участия в этом (а значит - без ведома) его обладателя. Даже если такое "участие" будет выражаться в
обыкновенном упущении со стороны управомоченного или даже в установлении встречного к себе
требования, участие, а значит - основание для знания о недостатках существующего права и
ответственности за уступку такового, все равно налицо. Больше того, временной границей
ответственности цедента за недостатки, приведшие к прекращению уступленного права, должен
считаться не сам момент уступки, а момент получения должником уведомления об уступке (см. об этом,
в частности, ст. 412 ГК). Можно сказать, что цедент по возмездной цессии связан неким подобием
гарантийного обязательства перед цессионарием: он гарантирует, что уступленное им требование не
является сейчас и никогда в последующем не окажется недействительным; если все-таки окажется, что
это не так (уступленное требование является или станет недействительным), то он, цедент, за это
расплатится. В первом случае - при виновном поведении и в объеме, ограниченном размером реального
ущерба; во втором - безотносительно к вине и в полном объеме.
4) В отличие от недействительности уступленного требования его неосуществимость означает
ответственность цедента, связанного условием о поручительстве за должника всегда, т.е.
безотносительно к вине цедента и, разумеется, в полном объеме.
В предыдущих изданиях настоящей работы мы высказали мнение о существовании обязанности
цедента перед цессионарием считать себя утратившим статус кредитора и воздерживаться от повторной
уступки данного требования новым приобретателям и от его осуществления. В настоящее время
считаем необходимым изменить данное мнение в том смысле, чтобы признать подобную обязанность не
относительной, а абсолютной, т.е. лежащей на цеденте в той же самой мере, в какой она лежит и на
всех других лицах. Да совершение повторной уступки или осуществления однажды уступленного
требования наиболее вероятно может последовать именно со стороны цедента. Гражданское
законодательство, как известно, не устанавливает никаких ограничений на количество экземпляров, в
котором оформляются документы, удостоверяющие совершение сделок и возникновение требований;
кроме того, реализация большинства общегражданских требований возможна на основании не только
подлинников, но и нотариально удостоверенных копий документов. Но от этого - чисто случайного -
обстоятельства абсолютно-правовая природа обязанности цедента воздерживаться от причинения
ущерба цессионарию не изменяется. Обязанность воздержания возникает у цедента в момент передачи
(отчуждения) прежде принадлежащего ему права, т.е. в тот момент, когда он попадает в положение
лица, постороннего этому праву, в положение всякого третьего (кроме кредитора и должника) лица.
Разумеется, обязанность воздерживаться от уступки и осуществления относится не только
непосредственно к уступленному (основному) требованию, но и требованиям, неразрывно связанным с
ним (требованиям-принадлежностям), в частности - обеспечивающим интересы кредитора путем
обеспечения исполнения основного обязательства, поскольку таковые, согласно ст. 384 ГК, переходят к
новому кредитору вместе с основным требованием, если иное не предусмотрено законом или
договором.
б) Обязанности цессионария и права цедента
ГК прямо не говорит ни об одной из обязанностей цессионария - лица, приобретшего требование
по договору сингулярной сукцессии. Но это не значит, что таких обязанностей (и, соответственно, прав
цедента) по данному договору не возникает и возникнуть не может. Во всяком случае, делать на
основании такого умолчания законодателя вывод об односторонне обязывающем характере договора
сингулярной сукцессии было бы неправильным.
1) Имея в виду, что цессия требований может быть осуществлена как на возмездной, так и на
безвозмездной основе, следует указать, что в соответствующих случаях на цессионарии будут лежать
обязанности, возникновение и исполнение которых вызывается возмездными договорами, являющимися
основаниями для передачи вещей в собственность или ограниченное вещное право. Следовательно,
основной обязанностью цессионария в титулированных договорах возмездной сингулярной сукцессии
является предоставление обусловленного договором цессии имущественного эквивалента - уплаты
денег, передачи вещи, уступки иного требования и т.п. (п. 4 ст. 454 и п. 2 ст. 567 ГК). В литературе на эту
обязанность, как обязанность, вытекающую именно из договора сингулярной сукцессии, указывает
только К.Н. Анненков*(300). Большинство ученых по этому поводу вовсе не высказывается. Те из их
числа, которые признают сингулярную сукцессию сделкой, основанной на сделке общегражданской (М.
Агарков, Е. Годэме, Г. Дернбург, Р. Саватье, Г. Шершеневич и др.), по-видимому, считают обязанность
передачи эквивалента элементом соответствующей общегражданской сделки (купли-продажи, мены и

т.п.).
Неисполнение цессионарием обязанности предоставления эквивалента делает цессию
безосновательной. По этой причине на основании ст. 168 ГК арбитражные суды нередко квалифицируют
такой договор в качестве ничтожной сделки (см. об этом Приложение). Думается, однако, что такое
решение не является правильным. Ничтожная сделка не порождает никаких прав и обязанностей, в том
числе и обязанности по предоставлению встречного удовлетворения за уступленное право. Но если
такой обязанности порождено не было, то в чем же, в таком случае, упрекать цессионария? Что он не
исполнил, если у него не возникло ни одной обязанности? Никто никогда не признает ничтожным
договор купли-продажи, по которому покупатель отказывается уплатить причитающуюся с него покупную
цену; напротив, именно в силу наличности и действительности такого договора покупатель
присуждается к ее уплате. Нет оснований поступать иначе и с договором возмездной цессии.
2) Определенную (несложную, впрочем) загадку являет собой норма ст. 1106 ГК, согласно
которой "лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право
другому лицу на основании несуществующего или недействительного обязательства, вправе требовать
восстановления прежнего положения". О чем в ней говорится? К чему относятся слова "на основании
несуществующего или недействительного обязательства"? - к слову "передавшее" или к словами
"принадлежащее ему право"? Смысловое наполнение нормы (трактовка ею вопроса о правах цедента -
лица, передавшего право), а также ее систематическое расположение позволяют заключить, что речь
идет об уступке, совершенной без надлежащего основания; уступке, основание которой либо было
изначально недействительным, либо отпало впоследствии. Право уступлено, но ожидаемого
(следуемого) за уступленное право эквивалента (встречного удовлетворения) так и не получено, а стало
быть, произошло неосновательное обогащение цессионария - вот гипотеза ст. 1106. В соответствии с
общими принципами кондикционного права цедент может потребовать от цессионария, а цессионарий
обязан возвратить цеденту: (1) уступленное право со всеми его принадлежностями; (2) документы,
удостоверяющие переданное право и его принадлежности; (3) заложенную движимость (если она
передавалась цедентом цессионарию в качестве предмета обеспечения уступленного требования); (4)
выданные цедентом доказательства уступки. Вопрос с возвратом объектов (2) - (4) никаких затруднений
не вызывает, чего нельзя сказать по поводу обязанности возврата уступленного права.
Подобно тому, как передача права не имеет особенных внешне видимых проявлений, точно
также не имеет их и возврат (обратная передача) права. Но если моментом передачи требования при
уступке является момент совершения договора сингулярной сукцессии, то что считать моментом
возврата требования - моментом его передачи (перехода) при отмене уступки? По всей видимости, в
возмездных договорах сингулярной сукцессии существует единственный момент, за которым можно
признать указанное значение - момент истечения срока исполнения обязанности цессионария передать
эквивалент за уступленное требование. С этого момента цессионарий обязан исходить из
представления о том, что он более не является кредитором и, стало быть, воздерживаться от
осуществления требования и распоряжения им под угрозой понуждения его цедентом к возмещению
убытков.
Имеет ли возврат требования обратный эффект? Иными словами, в случае отмены уступки по
причинам, предусмотренным ст. 1106 ГК, будет ли считаться, что требование никогда от цедента не
отрывалось и вовсе цессионарию не уступалось, или же все-таки его судьба будет существенно более
сложной, соответствующей действительно происходившим с ним пертурбациям*(301)? Вопрос этот
имеет немаловажное практическое значение, ибо за тот период, что требование находилось у
цессионария, оно могло "обрасти" как рядом недостатков (например, возражений), так и рядом
преимуществ (например, вновь установленных обеспечительных прав); кроме того, за это время на
сумму требования могли быть начислены проценты. Какова судьба всех этих элементов в случае
возврата требования? За отсутствием прямого законодательного разрешения этого вопроса, исходя из
общеправового принципа, согласно которому обратная сила юридически значимых действий не может
предполагаться, а также - из основного принципа цессионного права, согласно которому уступка
требования не может ухудшать положения должника, мы должны отказаться от признания за возвратом
уступленного требования его цеденту обратного эффекта.
Как быть в том случае, если предписание ст. 1106 ГК реализовать невозможно по причине
прекращения уступленного требования, например, осуществлением (исполнением корреспондирующей
ему обязанности) или зачетом встречного требования должника к цессионарию и (или) по причине
уничтожения документов, это право удостоверявших? За отсутствием специальных предписаний,
регулирующих именно этот вопрос, а также опять-таки опираясь на постулат, согласно которому уступка
требования не может ухудшать положения должника, мы должны констатировать, во-первых,
невозможность принудительного восстановления прекратившегося права ни при каких условиях и
обстоятельствах, а во-вторых - возможность удовлетворения интереса цедента только посредством
применения п. 1 ст. 1105 ГК (о праве потерпевшего в случае невозможности возврата ему полученного

от него или сбереженного за его счет имущества требовать возмещения его действительной стоимости,
а также убытков, причиненных изменением такой стоимости).
3) Является ошибкой указание в некоторых работах*(302) на обязанность цессионария считаться
с объемом переданных ему цедентом прав (этот объем не может быть большим, чем у
правопредшественника). Такая обязанность у цессионария действительно существует, но, во-первых,
ничуть не в большей степени, чем на всех других лицах (включая, между прочим, и цедента), т.е. она
имеет абсолютный характер, а во-вторых, субъектом корреспондирующего ей субъективного права
является, безусловно, не цедент, а должник (цессионар). Соответственно, место этой обязанности - при
изучении правоотношений с участием последнего.
4) В случаях, предусмотренных п. 1 и 2 ст. 577 ГК, в титулированных безвозмездных цессионных
договорах (договорах дарения прав - ст. 572 ГК), содержащих обещание дарения (уступки права) в
будущем, за цедентом признается право отказаться от исполнения такого договора. На цессионарии,
соответственно, должна лежать обязанность претерпевать последствия реализации этого права, не
рассчитывая на возмещение убытков (п. 3 ст. 577 ГК).
Цедент также вправе отменить уже состоявшуюся безвозмездную уступку требования в случаях,
установленных п. 1, 3 и 4 ст. 578 ГК*(303), т.е. при наличии любого из следующих оснований отмены
дарения:
а) совершение одаряемым (цессионарием) покушения на жизнь дарителя (цедента), жизнь кого-
либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленное причинение дарителю (цеденту)
телесных повреждений. По данному основанию безвозмездная уступка требования отменяется
односторонним волеизъявлением цедента, а если цедент был умышленно лишен цессионарием жизни -
односторонним волеизъявлением наследников цедента;
б) совершение дарения права индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его
предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого
лица несостоятельным (банкротом). По данному основанию дарение отменяется судом по иску
заинтересованных лиц;
в) в случае, если даритель переживет одаряемого*(304). Техника отмены уступки (возврата
права) в данном случае определяется содержанием условия договора дарения. В случае, если
договором предусмотрена автоматическая отмена дарения права, то никакого особенного акта обратной
уступки такого права не требуется: оно будет признаваться возвращенным цеденту немедленно в
момент смерти одаренного. Если же договором дарения предусмотрено именно право дарителя
отменить дарение в случае смерти одаренного, то подаренное право сможет возвратиться к цеденту
только при условии одностороннего изъявления им воли об отмене дарения.
Разумеется, все односторонние волеизъявления, направленные на отмену уступки, получат
юридическую силу и значение не прежде, чем они будут доведены до сведения заинтересованных лиц -
цессионария или его наследников. Уведомление должника о возврате права имеет, очевидно, то же
самое значение, что и уведомление должника об уступке, т.е. факультативное значение,
предусмотренное п. 3 ст. 382 ГК.
5) ГК не уточняет, принадлежит ли кому-нибудь из сторон договора сингулярной сукцессии (и
если да - то при каких условиях, а также в какой технике реализуется) право требования совершения
обратной уступки. Подчеркиваем, что данный вопрос не должен смешиваться с рассмотренными выше
вопросами о праве цедента считать уступленное требование возвращенным при нарушении
цессионарием обязанности предоставления эквивалента, а также по основаниям отмены состоявшегося
дарения. В данном случае речь идет о том, что в силу неких обстоятельств (см. ст. 450, 451 ГК) одна из
сторон уступки вправе потребовать расторжения договора, возврата (по крайней мере, в части уступки) в
первоначальное положение и возмещения убытков.
Представляется, что помимо общих правил ГК, регламентирующих основания и порядок
изменения и расторжения договоров (ст. 450-453), которые, несомненно, должны иметь применение к
договору цессии так же, как и ко всякому другому договору, цеденту принадлежит право требовать
расторжения договора сингулярной сукцессии и возврата в первоначальное положение в случае так
называемой фидуциарной цессии. Смысл и назначение фидуциарной цессии состоит в безвозмездной
уступке требования на время для целей обеспечения исполнения какого-либо обязательства цедента
перед цессионарием. При отпадении цели совершения фидуциарной цессии (исполнении обязательства
цедентом) цессионарий обязан совершить обратную уступку требования цеденту. Возможно и иное
использование фидуциарной цессии. Уступка в этом случае совершается на возмездной основе
(цессионарий передает цеденту эквивалент), но с обязательством обратного выкупа требования
цедентом по прошествии определенного времени (аналог фидуциарной продажи, репорта-депорта,
сделки по твердому курсу). Наступление оговоренного срока порождает право цессионария потребовать
внесения выкупа и "всучить" обратно полученное требование*(305).

За отсутствием специальных нормативных предписаний по вопросу о технике обратного
перехода уступленного требования в случае расторжения договора цессии по общегражданским
основаниям уступленное требование следует признать возвращенным цеденту по основаниям,
установленным законом для расторжения договора и с момента наступления этих оснований. Так, если
договор цессии расторгается по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК), то требование следует считать
возвращенным от цессионария обратно к цеденту, по общему правилу, с момента достижения
соглашения о расторжении цессии, если только им самим не будет предусмотрено иное. Если договор
цессии расторгается судом по мотиву его существенного нарушения одной из сторон (п. 2 ст. 450) или по
причине существенного изменения обстоятельств (ст. 451), то моментом возврата уступленного
требования обратно к цеденту следует считать момент вступления в законную силу судебного акта,
удовлетворяющего иск о расторжении договора цессии. Наконец, если договор цессии считается
расторгнутым в результате реализации одной из его сторон права на односторонний отказ от
исполнения возникших из договора обязательств, то моментом обратного перехода требования,
очевидно, нужно будет признать момент одностороннего волеизъявления об отказе от исполнения
обязательств (точнее - момент его доведения до сведения другой стороны договора).
Во всех рассмотренных случаях уведомление должника о возврате права имеет чисто
факультативное значение (п. 3 ст. 382 ГК).
6) Анализируя правоотношения, складывающиеся между цедентом и цессионарием при
частичной уступке, мы пришли к выводу о том, что, вопреки противоположному мнению И.Б. Новицкого,
и в этом случае обязанность цедента передать цессионарию документы об уступленном праве
сохраняется. Основное соображение в пользу данного решения - практическая возможность цедента
легитимироваться перед должником в качестве его кредитора даже без документов о праве, в то время
как у цессионария такая возможность отсутствует.
В то же время нельзя исключить и ситуации, когда без документов о праве кредиторская
легитимация оказывается невозможной даже для цедента. Поскольку и в таком случае документы о
частично уступленном праве подлежат передаче цессионарию и находятся у этого последнего, на него
логично было бы возложить две обязанности: во-первых, содействовать цеденту в получении
исполнения; во-вторых, после получения исполнения самим - возвратить документы о частично
уступленном праве цеденту, для того чтобы тот мог осуществить принадлежащую ему часть права*(306).
С содержательной стороны обязанность содействия цеденту в получении исполнения должна
быть, видимо, той же, что и идентичная обязанность цедента. Главное назначение этой обязанности -
сделать цессионария должником цедента в вопросе о явке к должнику в место, время и с документами,
указанными цедентом, а также о явке и представлении указанных цедентом документов в суд по делу
между цедентом и должником. Относительно же обязанности возврата документов хотелось бы
отметить следующее. Возвращены должны быть все те документы, которые были цессионарием
получены от цедента, как о самом частично уступленном требовании, так и о его обеспечении.
Исключены из возвращаемых могут быть лишь такие документы, которые, во исполнение своей
кредиторской обязанности перед должником, цессионарий вручил последнему как необходимое условие
получения исполнения. Такие документы должны быть заменены расписками должника в их принятии
(изъятии). Таким образом, следует считать допустимым возвращение документов не в том составе и
количестве, в котором они были получены от цедента.
Сказанное о возврате документов относится в полной мере и к возврату заложенной
движимости, обеспечивающей исполнение уступленного требования. Если часть этой движимости была
реализована для удовлетворения цессионарием своих требований, возврату подлежит, разумеется,
только не реализованная часть. В этом случае возвращаемые документы, удостоверяющие долговое
требование, непременно должны содержать отметку о получении исполнения в размере суммы,
вырученной от продажи отсутствующей части предмета залога.
Кроме того, опять же во исполнение кредиторских обязанностей цессионарий при получении
исполнения может оказаться вынужденным выполнить требование должника отметить на долговом
документе факт получения частичного исполнения. Возврат документов с подобными отметками
цессионария не должен смущать цедента, если, разумеется, сумма полученного цессионарием
частичного исполнения не превышает суммы уступленной части требования. Следовательно, считается
вполне логичным и допустимым возвращение документов в ином юридическом состоянии, чем то, в
котором они были получены от цедента.
Возврату подлежат только документы, удостоверяющие частично уступленное право.
Доказательства частичной уступки, которыми цедент снабдил цессионария, не возвращаются. Они
необходимы цессионарию для обоснования перед должником и всеми третьими лицами (включая
контролирующие государственные органы) правомерности получения от должника материальных
ценностей во исполнение соответствующего обязательства.
в) Правоотношения с участием должника
Вторая группа правоотношений складывается между кредиторами и должником. Две подгруппы
отношений (должник - цедент и должник - цессионарий) при их изучении принято объединять, исходя из
того соображения, что сделка цессии, совершаясь без участия в ней должника, не может ухудшать его
правового положения. Цессия не может мешать должнику ни досрочно исполнить обязанность, которая
корреспондирует уступленному праву, ни заявить к зачету встречное требование, ни парализовать
требование имеющимися возражениями и т.д. На кого именно упадут любые неблагоприятные
последствия таких действий - на цедента или цессионария - для должника, по большому счету, все
равно, почему в дальнейшем мы будем говорить не столько об обязанностях того или иного кредитора,
сколько о правах должника, подразумевая, что цедент и цессионарий являются солидарными
носителями корреспондирующих им обязанностей.
Наибольшее значение для понимания сущности трансформации обязательственных
правоотношений с цедированным субъективным правом имеют: (1) обязанность считаться с объемом и
качеством приобретенного права, т.е. приобретение права в том его виде, в котором оно принадлежало
цеденту и (2) обязанность цессионария считать исполнение, произведенное должником цеденту
несмотря на совершившуюся уступку, надлежащим, если должник к моменту совершения исполнения не
был уведомлен о перемене кредитора.
1) Обязанность считаться с объемом и качеством приобретенного права установлена ст. 384 ГК,
согласно которой "Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального
кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к
моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие
исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на
неуплаченные проценты". Рассмотрим обе части (оба предложения), составляющие эту норму; начнем
со второй части, как с уже рассмотренной.
То, что законодатель обозначил термином "в частности" составляет содержание обязанностей
цедента перед цессионарием: уступая требование, цедент должен помнить, что одновременно с ним он
уступает все права, связанные с ним, в частности - права, обеспечивающие исполнение, а также право
на неуплаченные (точнее - не набежавшие) проценты. Что же касается первой части нормы ст. 384 ГК, то
в ней законодатель имел в виду решить "основную проблему цессионного права", которая "заключается
в защите прав должника"; или, иными словами, закрепить один из трех основополагающих, никогда не
подвергавшихся сомнению ни теорией, ни практикой, принципов сингулярного обязательственного
преемства. Уступка требования не должна ухудшать положения должника, т.е. должник не может быть
обязан перед цессионарием в большем объеме и на худших условиях, чем он был обязан перед
цедентом. Эта норма имеет прямое отношение к рассматриваемой сейчас теме, поэтому остановимся
на ней несколько подробнее.
Развитие нормы ст. 384 находим в ст. 386 и 412 ГК. Первая из них устанавливает, что "должник
вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против
первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к
новому кредитору", т.е. закрепляет сохранение за должником общих условий его обязанности и
ответственности. Вторая статья закрепляет, что "в случае уступки требования должник вправе зачесть
против требования нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору",
возникшее "...по основанию, существовавшему к моменту получения должником уведомления об уступке
требования, и срок требования наступил до его получения либо этот срок не указан или определен
моментом востребования". Оплата по выставленным счетам. Это - специальное правило по отношению
к общему, сформулированному в ст. 386, так как касается сохранения одного из условий обязанности и
ответственности должника.
Показательно, что рассматриваемое правило ст. 384 ГК - "право первоначального кредитора
переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту
перехода права" - сформулировано с оговоркой "если иное не предусмотрено законом или договором".
Ее выделение нами курсивом объясняется одной причиной, имеющей два весьма негативных
последствия. Причина эта - неправильное толкование данной оговорки. Негативные же последствия
таковы: при расширительном ее толковании (особо предпочитаемом цессионариями) на должника
пытаются возложить бремя и обязанности, не лежавшие на нем в момент уступки требования, и отнять
существовавшие привилегии, предусмотрев все это безобразие договором сингулярной сукцессии; при
ограничительном же толковании этой оговорки просто не замечают, что приводит в практике к выводам о
недействительности частичной уступки.
Следует признать, что под "иным, предусмотренным договором" законодатель имел в виду
именно возможность договориться о передаче не всего, а лишь части существующего объема прав либо
некоторых прав из всего комплекса, возникших на основании определенного договора.
В нормах ст. 384 и 386 ГК, на первый взгляд, заключено противоречие. В первой указывается,
что и объем и условия уступленного права определяются моментом перехода права. Во второй же
