Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве
Подождите немного. Документ загружается.

Сингулярное правопреемство в обязательстве
Предисловие
Обязательственные правовые отношения не рассчитаны на неопределенно длительное
существование. Но в течение даже самого краткого срока существования обязательства с любой из его
сторон могут произойти такие события, которые, несомненно, должны будут отразиться на судьбе
самого правоотношения. Конечно же, на судьбе обязательства отразятся далеко не всякие перемены в
судьбе его участников: на то оно и обязательство (юридическое понятие), чтобы сохранять силу
невзирая на те многочисленные перипетии, которые, по общему правилу, лежат на риске стороны,
подвергшейся их воздействию. Так, ни временные денежные затруднения, ни болезнь участника
обязательства, ни смена его настроения или отношений с кредитором, ни иные количественные
изменения не влияют ни на условия, ни на действие, ни на существование обязательств. Но что
произойдет с обязательственным правоотношением при качественном изменении его субъектного
состава? При таком изменении, вследствие которого сохранение обязательства в прежнем виде уже или
нецелесообразно или просто невозможно. Что будет с обязательством в случаях, например, смерти
(объявления умершим) гражданина-кредитора или гражданина-должника? Реорганизации юридического
лица - той или другой стороны обязательства? Недееспособности? Банкротства, признания безвестно
отсутствующей какой-либо одной или обеих сторон?
В зависимости от случая законодательство и теория решают поставленные вопросы по-разному,
в зависимости от обстоятельств конкретного случая и социально-экономических условий развития
соответствующего общества. Известное влияние на решение этих вопросов оказывает даже такой
фактор, как время, ибо с течением времени трансформируется существо воззрений на само
юридическое понятие обязательства. Если первоначально обязательство имело строго личный характер
и прекращалось как со смертью кредитора, так и со смертью должника, то сегодня такая ситуация никак
не может считаться общим правилом; напротив, так может произойти лишь в отношении очень
ограниченного круга обязательств строго личного характера (алиментного обязательства, обязательства
возмещения вреда здоровью, обязательства написать картину, оказать личные услуги и т.п.).
Содержание всех остальных обязательств (не являющихся строго личными) сохраняется в неизменном
виде. Важнейшим юридическим последствием смерти участника обязательств является включение всех
их составляющих (субъективных прав - требований и юридических обязанностей - долгов) в состав
имущественного комплекса с особым правовым режимом - наследственной массы. Специфический
правовой режим такого комплекса заключается в одновременном переходе всех прав и обязанностей,
составляющих наследственную массу, к одному или нескольким призванным к наследству и принявшим
наследство наследникам и обозначается термином универсальное правопреемство.
Можно предположить, что именно случай изменения сторон обязательственного
правоотношения в результате наследования и стал той конструкцией, которая послужило образцом для
подражания при создании более общего института перемены лиц в обязательстве. Если перемена
участника обязательства может произойти в ходе наследственного преемства, то почему нельзя
допустить иных ситуаций, приводящих к идентичным правовым последствиям - замене личности
кредитора и (или) должника? Ясно, что полным аналогом наследственного преемства является
правопреемство, имеющее место при реорганизации юридических лиц, а также при возникновении и
прекращении публично-правовых (государственных и муниципальных) образований. Во всех этих
случаях имеет место полное или универсальное правопреемство, т.е. одновременное изменение
субъекта всех гражданских правоотношений, прежде приуроченных к личности их предыдущего
участника - правопредшественника (ауктора). Количественный показатель (все права и долги) и
телеологический (функциональная их связь с деятельностью определенного лица -
правопредшественника) - вот два критерия универсализма в правопреемстве. Обязательства
(требования и долги) - естественная органическая составляющая комплекса правоотношений,
составляющего объект универсального правопреемства.
Весьма сходны с описанными ситуации, в которых объектом преемства становится комплекс
прав и обязанностей правопредшественника, приуроченных к определенной его деятельности. Так
происходит, в частности, при купле-продаже, аренде и залоге предприятий, а также при их передаче в
доверительное управление; комплекс прав и обязанностей переходит и к финансовому агенту в
результате заключения договора финансирования под уступку денежного требования - факторинга. В
полной мере универсальным такое правопреемство не может быть названо, ибо его результатом
становится переход к правопреемнику (сукцессору) уже не всех прав и обязанностей ауктора, а только
тех из них, которые неразрывно связаны с его предпринимательской деятельностью, т.е. необходимо

входят в состав его предприятия, составляют, если можно так выразиться, его элемент. Критерий
количественный, как видим, несколько размывается: объектом правопреемства становятся не все права
и обязанности, но только некоторые; однако критерий целевой сохраняется. Состав прав и
обязанностей, в которых происходит преемство, по-прежнему определяется не волюнтаризмом их
обладателей, а объективным фактором - необходимой связью их с деятельностью по эксплуатации
предприятия. Среди обязательств таковы требования и долги, связанные с поставкой продукции,
производимой предприятием, оплатой сырья и материалов, закупаемых им, долги по заработной плате,
налогам и т.п. В отрыве от предприятия такие обязательства лишены смысла - их невозможно исполнить
и нет оснований нести лицу, не обладающему предприятием. В то же время и предприятие без таких
обязательств немыслимо: не имея требований к контрагентам-поставщикам, невозможно получить с них
имущество, необходимое для функционирования предприятия (оборудование, сырье, материалы,
деньги), а не имея требований к работникам, нельзя заставить их выполнять соответствующие трудовые
функции.
Если переход обязательственных прав и обязанностей можно приурочить не только к
неустранимому изменению личности их носителя, но и к случаю изменения принадлежности
имущественного комплекса, то возникает следующий естественный вопрос: возможно ли связать
принадлежность требования или долга с принадлежностью индивидуально-определенной вещи?
Возможно ли обременить вещь требованием или долгом? Да, отвечает законодательство, это возможно;
так, например, за проданной вещью следует обременяющее ее требование арендатора и связанный с
нею долг арендодателя; заложенная и удерживаемая вещи обременяются долгами, которые
обеспечиваются при помощи залога и удержания; долги лица, признанного несостоятельным
(банкротом) обременяют те вещи, которые были отчуждены должником в течение года,
предшествовавшего его банкротству и т.д.; на принципе неразрывного единства судьбы требований и
воплощающей его вещи выстроен целый гражданско-правовой институт - ценные бумаги. Этот случай
правопреемства еще менее заслуживает того, чтобы называться универсальным; с точки зрения состава
своего объекта это преемство в одном-единственном единичном праве или долге. И все-таки здесь еще
сохраняется другая основная черта универсализма в преемстве: целевое единство требования (долга) с
индивидуально-определенной вещью.
На определенном этапе развития гражданского оборота должна была появиться мысль о
возможности не полного, но частичного или сингулярного правопреемства, т.е. такого преемства в
правах и обязанностях, объект которого всецело определяется произволом участников оборота, их
ничем не стесненного свободного усмотрения. Иными словами, речь идет о допустимости перемены лиц
в отдельных, произвольно отобранных сторонами, обязательствах, безотносительно к их количеству,
целевой, функциональной или иной их связи с деятельностью, имуществом или иными качествами
обладающего ими лица.
В настоящей работе мы сосредоточим свое основное внимание лишь на четырех институтах,
служащих целям сингулярной перемены лиц в обязательственных правоотношениях - делегации
(активной и пассивной), цессии прав (активной цессии), переводе долга и так называемой cessio legis
(законной цессии). Рассмотрение понятия о делегации производится в его первоначальном значении,
сформировавшемся в римском праве, т.е. как инструмент перемены и активных субъектов
обязательства (кредиторов), и пассивных (должников). Ныне действующий российский ГК понятия о
делегации не знает, но регламентирует переход прав кредитора на основании соглашения
правопредшественника с правопреемником - договора уступки требования, т.е. институт активной
цессии (§ 1 гл. 24), а также - замену должника по его соглашению с заступающим на его место
преемником, санкционированному кредитором, т.е. институт перевода долга (§ 2 гл. 24)*(1).
Теоретически мыслимые, но Кодексом не регламентируемые случаи цессии долгов (пассивной цессии) и
перевода прав в настоящем исследовании лишь минимально описываются, но подробно не
исследуются*(2). Наконец, согласно ст. 387 ГК перемена кредиторов (именно кредиторов, но не
должников!*(3)) в отдельно взятых обязательствах может происходить на основании не договора
уступки, а при наступлении иных обстоятельств, указанных в законе. По нашему Кодексу к числу таких
обстоятельств относятся, в частности, исполнение обязательств поручителем и страховщиком, а также
случай, предусмотренный ст. 384 ГК*(4). Эта группа случаев сингулярного правопреемства образует
институт законной цессии или цессии из (на основании) закона. Поскольку ни одно из этих наименований
не является точным*(5), а точное наименование (цессия из обстоятельств, указанных в законе, иных,
кроме договора уступки) является неудобным и длинным, мы будем употреблять его иностранные
эквиваленты - cessio legis и суброгация.
Специально подчеркиваем, что в настоящей работе не исследуются перипетии, происходящие
со сторонами обязательственных правоотношений в результате наследования и всякого иного случая
универсального преемства. Другая линия, ограничивающая предмет настоящей работы, проходит по
виду правоотношений, перемену лиц в которых мы делаем предметом изучения. Это - именно

обязательственные правоотношения, т.е. в настоящей работе мы не касаемся вопросов перемены
сторон в правоотношениях вещных, исключительных, личных, наследственных и корпоративных*(6).
Сделанные ограничения должны постоянно находиться во внимании читателя, удерживая их от
необоснованных упреков в том, что наше "учение о правопреемстве" страдает явной неполнотой.
Подчеркиваем еще раз: мы не преследуем целью дать развернутое учение о правопреемстве вообще.
Наша цель более скромна: предложить вниманию читателя учение об одном из видов правопреемства
(сингулярном), по одному из видов правоотношений (обязательствам). Фактически это учение об
институтах делегации, цессии, перевода долга и некоторых их "усложнениях" - ответвлениях,
комбинациях и своеобразных случаях.
Чем обусловлен выбор темы исследования? Почему мы решили изучать именно сингулярное
правопреемство и именно в обязательствах? Разве не менее важной является разработка теории
правопреемства в гражданском праве вообще? Чем хуже и универсальное преемство в тех же
обязательствах? И преемство (неважно, какое) в отношениях иного типа (например, в вещных или
исключительных)?
Выбор предмета исследования был продиктован следующими соображениями.
Нам представляется, что было бы методологически неправильно рассматривать в рамках одной
работы и учение об универсальном преемстве и теорию сингулярного преемства. Одно дело - строить
общее учение о правопреемстве или (еще лучше) о возникновении и принадлежности субъективных
прав (юридических возможностей) и совсем другое - заменять это учение простой "суммой" двух других
учений. Универсальное + сингулярное - не равняется "правопреемству вообще", точно так же, как учение
о вещах, сложенное с учением о результатах интеллектуальной деятельности, нематериальных благах,
работах, услугах и информации не дает общей теории объектов гражданских правоотношений. Строить
общее учение о правопреемстве мы не готовы по содержательным соображениям; выдавать за него
простую компиляцию двух частных теорий - считаем попросту нечестным и неправильным по причинам
методологическим (слишком резка разнородность предметов изучения). Да, пусть и при универсальном
и при сингулярном правопреемстве изменяются субъекты юридических отношений, но цели такого
изменения различны. Обслуживание этих (различных) целей достигается с помощью двух различных
конструкций.
Универсальное преемство - вещь, если можно так сказать, вынужденная, изобретенная, прежде
всего, собственниками и исторически предназначенная для определения судьбы именно вещных, а не
обязательственных прав на случай, если с собственником вещи происходит что-то экстраординарное,
непредвиденное, непредотвратимое. Время его появления - глубокая незапамятная древность. Почва,
на которой родился этот институт, - представление о правопреемнике как продолжателе личности
предшественника. Такое понимание правопреемства означает не что иное, как ...отрицание
правопреемства! Действительно, кто кому преемствует, если перед нами один и тот же (с точки зрения
права) субъект юридических отношений, хотя и представленный (выраженный) в мире фактических
отношений различными физическими лицами (людьми)? Скорее уж следует говорить о преемстве в
отношениях фактических, чем в правовых!
Иное дело - преемство сингулярное - конструкция, причиной появления которой стала
необходимость в товарном обмене (торговле). Созданная первоначально для преемства также лишь в
отношении вещных прав (например, для перенесения права собственности на какой-либо конкретный
предмет из имущественной массы известного субъекта) данная конструкция продолжала развиваться
сообразно развитию товарного и денежного оборота. Последнее обстоятельство привело к этапу, когда
возникает необходимость для сокращения случаев перемещения товаров и денег производить то, что
сегодня именуется "взаиморасчетом". Если А должен некоторую сумму В, а В должен эту же (или
меньшую) сумму С, то совершенно незачем А нести деньги к В, а последнему передавать эти же деньги
С: достаточно, чтобы В указал А на необходимость уплаты существующего перед ним долга не ему, а
третьему лицу - С. Именно на почве такого рода взаиморасчетов и выросло (не сразу, конечно, а
постепенно, по мере эволюции самого понятия об обязательстве от "личных уз", "оков права" - к
имущественному долгу и "вещи в требовании") то, что мы сегодня называем уступкой права требования
и переводом долга. "Семенами", посеянными на этой почве, оказались, во-первых, новое европейское
(германизированное) понятие обязательства и, во-вторых, по-новому понятая (истолкованная) суть
римской концепции универсального правопреемства. Теперь это не преемство в физической (телесной)
личности, а именно в правовой сфере*(7).
Вторая причина, по которой мы решили оставить теорию универсального преемства (во всяком
случае, пока) вне нашего внимания - причина чисто юридическая. И хотя со времени выхода в свет
первого издания настоящей работы ее действие несколько ослабилось, сама причина все же не исчезла.
Дело в том, что основным видом универсального преемства является преемство наследственное, о
котором написано уже немало. Даже нормы законодательства о преемстве при реорганизации
юридических лиц строятся по аналогии с нормами наследственного права*(8). В то же время о
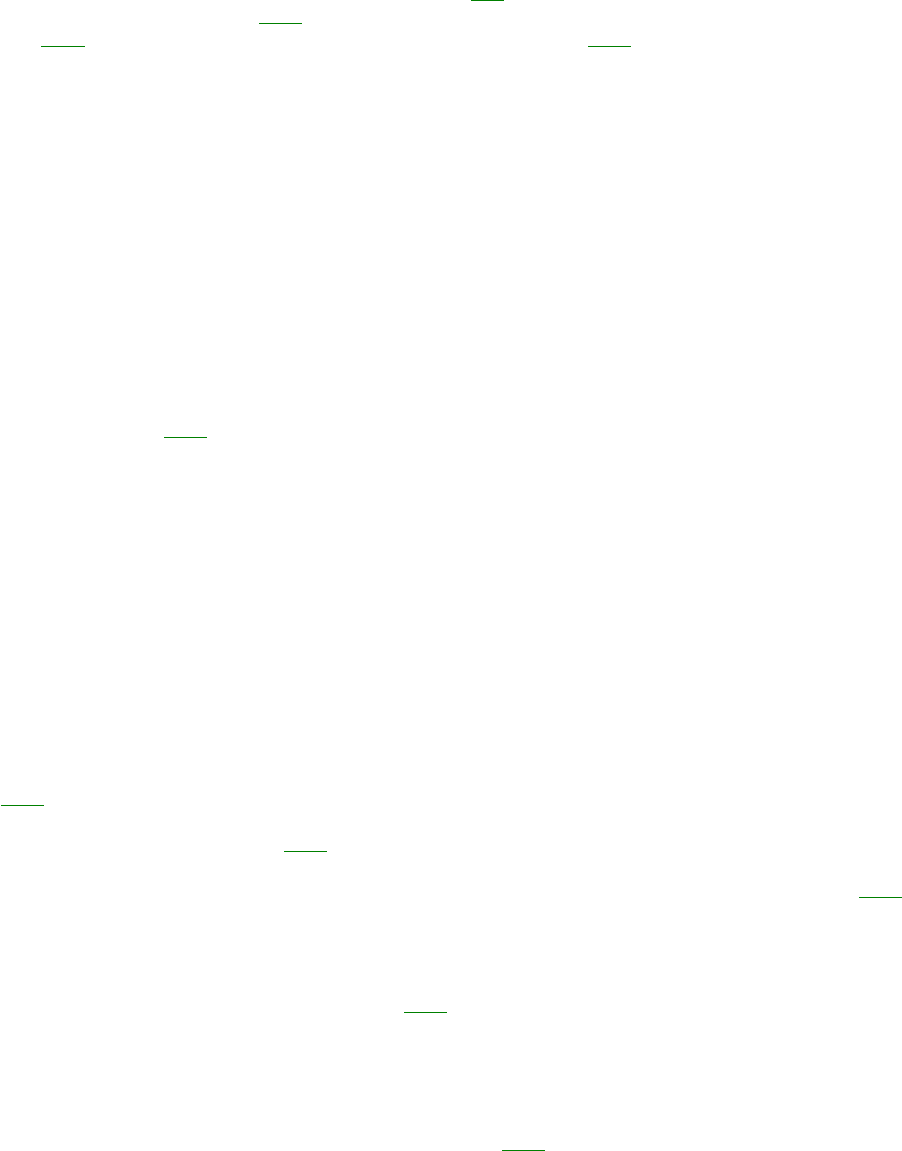
сингулярном правопреемстве написано гораздо меньше, а о сингулярном преемстве в
обязательственных правоотношениях не написано почти ничего; какой-либо теории, по аналогии с
которой можно было бы построить постулаты сингулярного преемства, как это имеет место в случае с
различными видами преемства универсального, нет.
В последние пять лет вопросам сингулярного преемства в обязательствах уделяется довольно
много внимания - защищено более десятка диссертаций*(9), в т.ч. по конструкции уступки денежных
требований в рамках факторинга*(10); опубликован ряд монографий (в основном - на основе
диссертаций)*(11), а также напечатано большое количество статей*(12). Вопросы перемены лиц в
обязательстве активно рассматриваются и в работах, посвященных смежной проблематике, в т.ч.
гражданским правоотношениям в целом, объектам гражданских правоотношений, обязательственному и
договорному праву. По-прежнему эти вопросы продолжают рассматриваться в рамках монографий и
разделов учебников об обязательствах; по-прежнему рассмотрение их ограничивается, как правило,
кратким фрагментарным пересказом текста соответствующих статей Гражданского кодекса.
Современное состояние научных исследований объявленной тематики по-прежнему нельзя
считать удовлетворительным.
Во-первых, одно только простое изучение предложенного здесь перечня работ по сингулярному
правопреемству в обязательствах наглядно свидетельствует о существенной диспропорции в
распределении научного внимания, неравномерности ученых усилий, посвящаемых тем или иным
аспектам данной тематики. Основное внимание уделяется институту уступки требования (цессии),
причем не всегда это внимание имеет своим предметом саму его конструкцию. Большое количество
материала авторы посвящают исследованию норм положительного законодательства и арбитражной
практики его применения при осуществлении цессии в рамках факторинга. Институт сингулярной
перемены лиц в обязательстве в целом рассматривается реже; перевод долга - совсем нечасто;
наконец, делегации по римскому праву так и не посвящено специально ни одной (!) русскоязычной
монографической работы*(13). То, что вызывает наибольшие научные затруднения, как раз и не
изучается; напротив, предметом внимания ученых становятся узко практические, если не сказать,
казуальные, исключительно прагматические проблемы, проистекающие, главным образом, из причин, не
имеющих никакого отношения к развитию науки.
Во-вторых (и в главных!) сейчас нередко случается так, что количественное обилие публикаций,
увы, обратно пропорционально их содержательным достоинствам. Именно такая ситуация сложилась и
в рассматриваемой нами сфере, свидетелем чему станет всякий внимательный читатель, который
рискнет последовать за нами. Или это чисто механистические компиляции, не содержащие ни грамма
личного вклада их авторов в науку, или простые пересказы арбитражной практики с комментариями
норм § 24 ГК и оправданиями его 128-й статьи, не иначе как по недоразумению причислившей
"имущественные права" к объектам гражданских прав. Некоторое исключение, да и то, главным образом,
лишь в критической, но не содержательно-конструкционной части, представляет собой указанная выше
монография В.В. Байбака.
К сожалению, восполнить недостаток научного изучения сингулярного обязательственного
правопреемства в настоящее время нечем. Русское дореволюционное правоведение заняться
изучением этого института просто не успело; период советский же был временем неактуальности такого
изучения*(14). В системе планового хозяйства уступать кому-то права требования или переводить на
кого-то долги не было возможно по определению: для всего требовался план, а планировать уступки
прав и переводы долгов невозможно*(15). Не использовались данные институты и в отношениях с
участием граждан, ибо такое использование предполагает широкое развитие товарно-денежных и
кредитных отношений, что при социалистической системе хозяйствования тоже было исключено*(16).
Сохранение цессии и перевода долга в социалистических Гражданских кодексах имело значение
своеобразного "резерва", "бронепоезда на запасном пути", который эпизодически использовался в
отношениях с участием советских внешнеторговых организаций, а также в отношениях с участием
советских организаций за границей. Как разновидность уступки требования расценивалась уступка прав
по векселям и чекам на основании индоссаментов*(17). "...Нельзя не сделать вывода, - писал один из
представителей науки советского гражданского права, - что эти правовые институты (уступки требования
и перевода долга. - В.Б.) могут иметь значение только в отношениях между представителями буржуазии
и прежде всего предпринимателями. Функция рассматриваемых институтов заключается в
обслуживании классовых интересов буржуазии. Особенно очевидным подтверждением этого вывода
является необходимость уступки требований и принятия на себя чужого долга при продаже предприятий
и при слиянии их в мощные монополистические объединения"*(18).
Выбор в качестве предмета исследования преемства именно в обязательственных
правоотношениях объясняется, как уже было отмечено, не только крайней скудостью научно-ценных
публикаций по данной теме, но и практической актуальностью данной проблематики в современных
российских условиях. Развитие рыночных отношений привело к тому же, к чему пришли когда-то
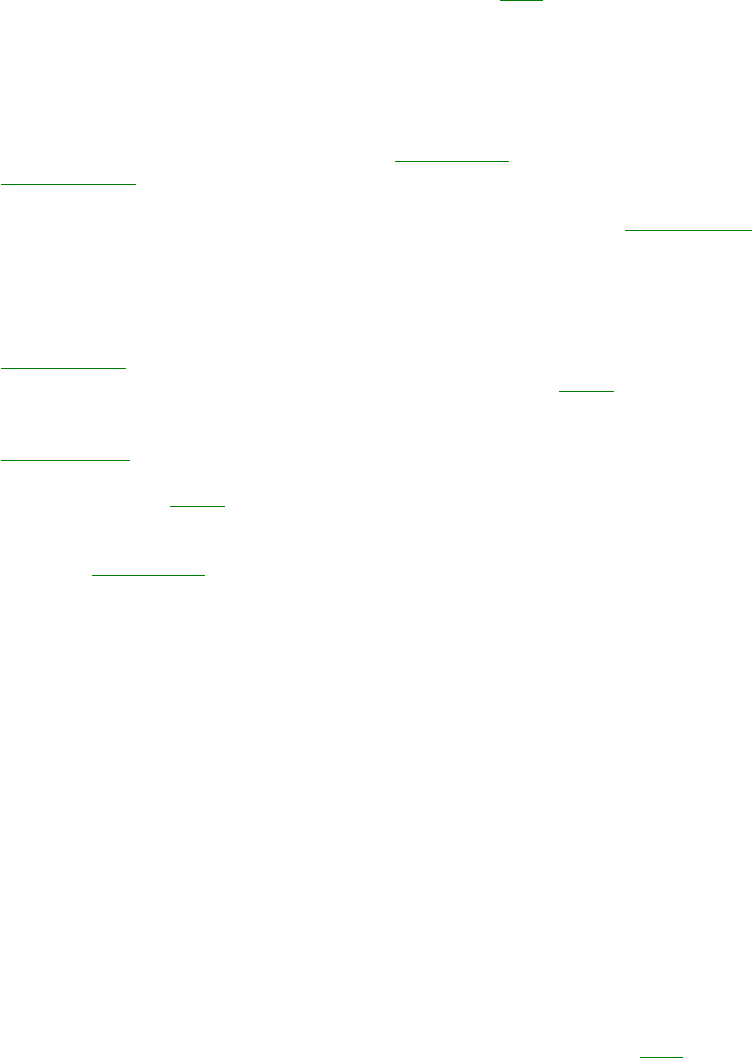
римляне: гораздо удобнее не "гонять" деньги по счетам всех участников определенного круга
отношений, а передать их один раз последнему из кредиторов. Удобно и порой (например, с точки
зрения налоговой) просто выгодно. Препятствием к широкому использованию институтов цессии и
делегации в современной России является отсутствие подробных нормативных предписаний о них и уже
отмечавшееся отсутствие профессиональной юридической литературы. Эти обстоятельства не были бы
препятствием к нормальному развитию ситуации при условии, что уровень профессиональных знаний и
навыков толкования и применения норм права большинством российских юристов (а главное - судей)
был бы безупречным. К сожалению, ничего подобного утверждать сегодня нельзя, скорее, все
складывается с точностью до наоборот. Результатом становится извращение имеющихся нормативных
предписаний до такой степени, что они становятся трудно узнаваемыми, а их смысл и значение либо
просто теряются, либо изменяются едва ли не на противоречащие. Соответствующее свойство обретает
и практика применения таких "норм" - юридических мутантов*(19).
Кроме того, современный российский ГК содержит целый ряд категорий, которые именно по
причине скудости нормативных предписаний и о них самих и о сингулярном преемстве очень сложно
разграничить как между собой, так и со случаями уступки требования и перевода долга. Путаница в
применении этих категорий приводит к попыткам воздействия на социальные связи неадекватными
юридическими средствами, которые завершаются либо ничем, либо проклятиями российских
коммерсантов в адрес государственных органов, чиновников и судей.
Настоящая работа состоит из трех глав и приложения.
Глава первая посвящена определениям основных юридических категорий, так или иначе
связанных с конструкцией перемены лиц-участников правоотношений вообще и обязательственных
правоотношений в частности. Вывод, составляющий основное достояние первой главы, хотя и не нов, но
несколько иначе, чем раньше, обоснован и интересен по своим последствиям: субъективные права и
юридические обязанности не могут "переходить" и "передаваться"; они могут прекращаться у одного
лица и возникать у другого. Иными словами, должна вестись речь именно о конструкции перемены лиц,
а не перехода (передачи) прав. На этой точке зрения строится и все последующее изложение
материала.
Вторая глава рассказывает об историческом прошлом делегации и уже имеющихся попытках ее
теоретического конструирования и осмысления. Выводы данной главы представляют собой выводы о
делегации и цессии "вообще", о том, какими эти институты должны быть с точки зрения
целесообразности и логики.
Третья глава посвящена конструированию делегации, цессии и перевода долга по нормам
действующего российского гражданского законодательства. Сделанные в ней выводы сравниваются с
выводами предыдущей главы, что служит основой для заключения о том, насколько российские
конструкции интересующих нас институтов приближены к своим идеальным аналогам и, значит,
насколько они согласуются с требованиями целесообразности и логики.
Наконец, приложение посвящено изложению и анализу уже весьма многочисленных материалов
российской арбитражной практики по делам, так или иначе связанным с применением норм ГК о цессии
и переводе долга.
Не все сделанные в настоящей работе выводы являются бесспорными. Мы прекрасно осознаем,
что задача научного изучения перемены лиц в обязательствах по гражданскому праву не может быть
решена одним данным исследованием, а потому также не претендуем на полноту охвата теоретического
и законодательного материала. В основном за рамками настоящей работы остается иностранное
законодательство, хотя в ряде случаев, подтверждающих или, напротив, опровергающих сделанные
нами выводы, ссылки на него приводятся.
23 апреля 2007 г.
Вадим Белов
Глава 1. Общие положения
Изучению сингулярного правопреемства должно предшествовать формулирование
исследователем собственной позиции по ряду вопросов, связанных с проблемой места категорий
"субъективное право" и "юридическая обязанность" в системе, традиционно именуемой "правовое
отношение". Проблема эта сводится к следующему: составляют ли субъективные права и юридические
обязанности содержание правового отношения или занимают в нем какое-то иное место.
Решение данной проблемы в первом (традиционном) смысле*(20) приводит к выводу о
самостоятельности категорий "субъективное право" и "юридическая обязанность" и отсутствии их
подчиненности иным, более общим категориям, в том числе категории "объект правоотношения".

Содержание понятия не может быть в одно и то же время еще и его же объектом*(21); кстати, по этой
причине должны быть отвергнуты как нелогичные любые попытки противопоставления понятий "объект
права" (в субъективном, естественно, смысле) и "объект правоотношения"*(22). Следует, конечно,
согласиться с тем, что это обстоятельство само по себе еще не означает, что субъективные права и
юридические обязанности не могут быть объектами иных субъективных прав и обязанностей -
субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание иного правоотношения*(23); точно также
нельзя не признать поспешным сделанный нами ранее вывод о том, что если права и обязанности не
могут быть объектами гражданских правоотношений, то значит, что они не могут быть и объектом
(предметом) гражданского оборота. Гражданский оборот и гражданские правоотношения - конечно, вещи
разные.
Решение проблемы в противоположном смысле*(24) делает возможным отнесение
субъективных прав и юридических обязанностей к иной родовой категории, в т.ч. и разновидности,
например, объектов правоотношения, а значит, позволит говорить о правах на права и правах на
обязанности, следовательно, сделает допустимой категорию типа "передача прав", "переход прав".
Как можно видеть, ни одно решение вопроса о содержании понятия "правоотношение" само по
себе еще не исключает возможности признания субъективных прав и обязанностей объектами
гражданских правоотношений. И это вполне естественно, ибо следует прежде установить, а что же такое
суть сами объекты правоотношений?*(25)
§ 1. К вопросу об общем понятии объекта правоотношения и его значении для дальнейшего
исследования
Понятие об объекте правоотношения, как известно, является спорным. Наиболее известными
определениями данного понятия являются определение объекта, как того, на что направлено
воздействие правоотношения (С.С. Алексеев, О.С. Иоффе, Я.М. Магазинер и др.), и как того, по поводу
чего возникает правоотношение (М.М. Агарков, Н.Г. Александров, О.А. Красавчиков, И.Б. Новицкий и Л.А.
Лунц и др.). Первый подход может быть условно назван философским*(26); второй -
функциональным*(27). Но и у авторов, придерживающихся одного и того же подхода к определению
объекта, нет единства во взглядах на содержательную сторону данного явления - под объектами
предлагают понимать вещи или "то, в отношении чего возможны акты распоряжения" (М.М. Агарков); как
действия (О.С. Иоффе); любые блага, ценности (И.Л. Брауде и подавляющее большинство современных
авторов - сторонников признания прав объектами гражданских правоотношений); любые блага, кроме
действий и лиц (С.С. Алексеев, К.К. Яичков); фактические отношения*(28) (Ю.К. Толстой). В учебной
литературе взгляды различных авторов нередко комбинируются. В дореволюционной литературе
высказывались мнения о целесообразности признания объектами правоотношений вещей и лиц (Д.Д.
Гримм). В зависимости от своего содержания концепции объектов также поделились на две группы -
монистические, т.е. признающие значение объекта за единственной субстанцией (только вещи, только
действия и т.д.), и дуалистические, т.е. допускающие существование объектов нескольких различных
родов и видов*(29).
В чем тут дело? Чем вызваны такая разноголосица во мнениях и такое разнообразие взглядов?
Судьба научной категории "объект правоотношения" по-своему уникальна. Само ее выдвижение
правоведением произошло сравнительно поздно - не ранее середины XIX века. Ученые-юристы
предприняли попытку сконструировать общую теорию правоотношения и почти немедленно столкнулись
с проблемой поиска места в системе правоотношения римскому учению о вещах. Что такое вещи с точки
зрения теории правоотношения? Просто их игнорировать - невозможно: учение о вещах - краеугольный
камень римского права. И неспроста: естественные свойства вещей таковы, что сполна предопределяют
содержание всей системы субъективных вещных прав, а некоторые из них еще и оказывают известное
влияние на содержание обязательств. Ряд обстоятельств различного свойства - начиная с формально-
логического (если в правоотношении есть субъект, то в нем должен быть и объект) и кончая политико-
правовыми соображениями (правоведение становилось свидетелем того, как в сферу правопорядка
начинают проникать отношения, не имеющие никакого отношения к вещам) - привел к столь же
естественному, сколь и несуразному ответу: вещи (а возможно и какие-то иные субстанции, свойства
которых предопределяют содержание и существование правоотношений, неизвестные римлянам, но все
сильнее дающие о себе знать европейскому правоведению XIX века) - это объекты гражданских
правоотношений. Выходит, что как таковой "проблемы объекта" для цивилистики первоначально вовсе
не существовало; объект правоотношения изначально представлял собой не категорию, и даже не
понятие, а простой термин, вывеску, если угодно - собирательное обозначение для вещей и субстанций,
им подобных. Проблема объекта не сводится ни к чему другому, кроме как к проблеме гражданско-
правового значения свойств субстратов, которые, будучи рассматриваемы сами по себе (свойства, а не

субстраты), не подпадают под признаки ни субъектов правоотношения, не входят в его содержание и не
могут быть рассмотрены в качестве юридических фактов*(30). Можно сказать, что содержательное
решение вопроса об объекте права изначально было предопределено самой жизнью; юридической
науке оставалось только найти ее верное общее решение, годное не только для вещей, но и
позволяющее "фильтровать" любые субстанции на предмет наличия или отсутствия у них свойств
объектов права*(31). Вот тут-то наука и споткнулась! Найти общее решение проблемы объекта
оказалось совсем непросто. Те решения, которые находились, либо сводили понятие объекта к понятию
"блага", либо оказывались заведомо неверными как не соответствующие "условию задачи" (из числа
объектов "вываливались" вещи). Пробовали зайти с другой стороны (от вещей) - эффект тот же:
обосновать, что вещи суть объекты удавалось (например, при помощи редукции из вещей
"выуживались" их свойства, на первый взгляд, родовые и должные образовать общее понятие объекта
прав), но сделать следующий шаг не получалось - юридическое понятие объекта (а точнее - понятие
юридического объекта) вновь ускользало, растворяясь в общеэкономических категориях (товар,
имущество, ценность, стоимость и благо)*(32). Ученые оказались в положении нерадивых учеников: одна
их часть стремилась не столько найти верное решение, сколько получить его видимость, приводящую к
получению заданного ответа; другая - констатировала ошибочность предустановленного ответа, но
взамен сконструировала нечто, что никак не могло сойти даже за видимость решения.
Итог плачевен. Решение проблемы объекта каждый ученый избирает сам для себя,
руководствуясь при этом одному ему известными соображениями. Как уже говорилось, в советской
юридической литературе длительное время господствовала, а в современной - продолжает
господствовать точка зрения о том, что субъективные права и юридические обязанности составляют
именно содержание правоотношения. В то же время именно из советской цивилистики к нам пришла и
сегодня принимается как должное точка зрения о том, что, по крайней мере, субъективные права вполне
могут быть объектами иных субъективных прав. Она воплотилась даже в законодательстве: ст. 128 ГК
РФ относит к объектам гражданских прав всякие (вещные, обязательственные и корпоративные)
имущественные, а также всякие (имущественные и неимущественные) исключительные права (права на
результаты творческой деятельности). Своим возникновением данная ситуация обязана господством
дуалистических теорий объектов правоотношений, причем в их крайних вариациях. Все, что является
благом, все, что представляет собой известную ценность, заключает в себе известную стоимость
(потребительную или меновую), все это и может быть объектом правоотношения. И если такую ценность
представляют собой обязательственные права (требования) или обязанности (долги), то нет и никаких
причин отказать и в их включении в число объектов правоотношений.
Оценку подобных рассуждений, кажется, нужно начать следующим замечанием.
Многозначно не только понятие объекта. Многозначно понятие самого правоотношения; известно
минимум три различных о нем представления. Правоотношение - это либо (1) фактическое
(материальное, базисное) отношение, урегулированное нормами объективного права (правоотношение в
материальном смысле); либо (2) особое идеологическое (надстроечное) отношение, возникающее в
результате правового регулирования, этакий "юридический слепок" с фактических отношений, их
юридическая форма (правоотношение в формальном смысле); либо (3) единство юридической
(идеологической) формы и материального (фактического) содержания (правоотношение в смысле
двуединого образования). Ясно, что прежде чем рассуждать о том, могут ли гражданские права и
обязанности (правоотношения) быть объектами правоотношений, следовало бы уточнить, о
правоотношениях в каком смысле понимаемого мы беремся размышлять. Нет и не может быть объекта
правоотношения вообще, но могут быть только объекты правоотношения в том или другом -
материальном, формальном либо двуедином - смысле. В таком случае вот вопрос: о чем же все-таки
спор?
Мы являемся сторонниками второй (формальной) концепции правоотношения*(33). Правильно
ли отсюда заключить, что мы не вправе искать объект в какой бы то ни было иной сфере, кроме
идеологической? Проверим. Если объект правоотношения это то, на что направлено воздействие
правоотношения (идеи) (философский подход), а идея не может воздействовать ни на что, кроме идеи,
то объект способен претерпевать на себе воздействие правоотношения лишь в том случае, если он сам,
как и правоотношение, идеален; "уползти" в сферу фактических отношений он никак не может*(34). Если
же объект - это то, по поводу чего возникают правоотношения, объект-функционал (функциональный
подход), то он каков? непременно идеален, ибо нет никакого смысла создавать правоотношения ради
воздействия на нечто материальное - попытка такого воздействия будет заведомо безрезультатной?
Нет, не обязательно, ибо повод не всегда связан с воздействием или его перспективой. Иными словами,
чтобы решить вопрос о природе объекта правоотношения при функциональном подходе к пониманию
объекта, мы должны предварительно ответить на другие вопросы: Какую функцию выполняет объект в
праве (правовой реальности, правопорядке)? Почему, по какой причине, он становится поводом к его
возникновению, изменению или прекращению? Что объект делает в правопорядке, как он себя ведет по
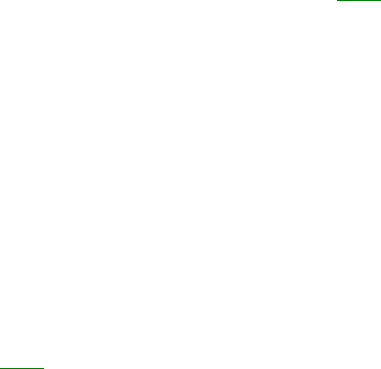
отношению к правоотношению?
Определимся с той позицией, с которой мы станем готовить ответ.
Мы предпочитаем подход функциональный подходу философскому. Почему? По той самой
причине, по которой последовательное проведение философского подхода Ю.К. Толстым не получило
не только распространения и признания, но и даже сколько-нибудь серьезного научного обсуждения. То
есть последовательное применение философского подхода засвидетельствовало неточность
использованного юриспруденцией термина "объект правоотношения", продемонстрировало, что
юридическая наука хотела сконструировать совсем иное понятие, для обозначения которого больше
подошел бы термин "объект воздействия участников (субъектов) правоотношения", в свое время,
видимо, сокращенный до символического обозначения "объект прав"*(35). Продолжим эту мысль. Какое
воздействие на объект могли бы оказать лица - субъекты правоотношения? Подчеркиваем: не люди
(биологические субстанции, организмы) и их коллективы (социальные организмы), т.е. не участники
фактических (реальных, материальных, жизненных) отношений, а именно участники отношений
правовых (юридических) - идеальных, надстроечных, идеологических (лица или субъекты права)?
Разумеется, только идеальное - юридическое воздействие. Но что способно к претерпеванию подобного
воздействия? Нечто, само имеющее идеальную природу. В сфере юриспруденции это субъективные
права и юридические обязанности, т.е. правоотношения. Выходит, объектами правоотношений являются
сами правоотношения!
Как же так? - воскликнет потрясенный читатель. Ведь было же доказано ранее, что права и
обязанности - не объекты?! Никакого противоречия, однако, здесь нет: во-первых, вспомним, что мы
только что скорректировали понятие об объекте правоотношения до понятия объекта воздействия
субъектов правоотношения, объекта правового (юридического) воздействия, а во-вторых, выше мы
доказали лишь то, что права и обязанности не могут быть объектами самих себя; объектами же иных
юридических возможностей (возможностей оказать правовое воздействие) - вполне. Объектами такого
воздействия, которое в гражданском праве обыкновенно называется распоряжением или
распорядительными действиями*(36), действительно могут быть только субъективные права и
юридические обязанности, а если принять во внимание наличие также и иных видов юридических
возможностей и актов долженствования, то следует сказать и более широко - любые юридически
защищаемые возможности управомоченного, обеспеченные актами юридически должного поведения
иного лица или лиц.
Много ли ценности в такой концепции? Очевидно ее нет, ибо от нас вновь ускользнул
предустановленный нам самою жизнью ответ: мы не смогли получить решения, которое позволяло бы
признать объектами правоотношений вещи. Почему? Потому что снова стали рассуждать не о том:
вопрос о функции объекта в правоотношении мы заменили (в соответствии с указаниями традиционных
учений) вопросом об объектах юридических действий субъектов права. В каком случае мы могли бы
получить интересующий нас ответ? Только при рассуждении об объектах фактического воздействия
людей и их коллективов на предметы окружающей действительности; воздействия фактического, но
освященного ореолом права и защищенного его силой. Сильно ли это рассуждение уходит за рамки
нашей концепции правоотношения? С общефилософской точки зрения - да, несомненно (оно с нею
попросту несовместимо); с точки зрения функциональной - непонятно, ибо мы так и не уловили той
функции, которую объект должен выполнить в правопорядке. Попробуем.
Прежде всего зададимся вопросом: а кто доказал, что объект правоотношения выполняет в
правопорядке ту же самую функцию, какую выполняет объект фактического отношения в реальной
действительности? Насколько нам известно, никто не только этого не доказал, но и самого вопроса не
обсуждал. Если в сфере материальной объект становится или той причиной, которая толкает людей к
установлению отношения, или тем "яблоком", за которым люди тянутся и в итоге втягиваются в
межчеловеческие отношения, то это совсем не означает, что точно такую же роль должен выполнять и
объект в правопорядке. Совсем не обязательно. И внимательно присмотревшись к таким традиционным
объектам прав, как вещи, мы заметим, что именно такой функции (по большому счету - функции
юридических фактов) они в правопорядке как раз таки и не выполняют! Никаких конкретных единичных
правоотношений от одного только наличия у вещей тех или других свойств еще не складывается,
подобно тому, как не представляет собой особого правоотношения гражданская правосубъектность. То и
другое - необходимые предпосылки к возникновению правоотношений определенного рода и вида,
которые, однако, так и останутся предпосылками и никогда не превратятся в правоотношение (не "родят"
правоотношения) без юридического факта. Выходит так: юридический факт предопределяет динамику
правоотношений во времени; свойства субъекта - саму принципиальную возможность их возникновения
и существования (пространственно-правовую статику); что же привносит в правоотношение объект? Мы,
наконец, встали на ту точку зрения, с которой ответ на вопрос о функции объекта в правопорядке в
целом и во всяком конкретном правоотношении становится самоочевидным: объект (точнее - свойства
объекта) предопределяет содержательные границы гражданских правоотношений.

Во всех ли гражданских правоотношениях есть объект? Разумеется нет: объект не нужен там,
где содержание правоотношения в достаточной (с точки зрения практических потребностей) мере
предопределено свойствами его субъектов или вызвавших его динамику юридических фактов*(37). С
учетом всего сказанного объект гражданских правоотношений может быть определен как всякая
субстанция (предмет, явление) реальной действительности, являющаяся объектом отношений
фактических (кроме тех, что являются носителями качеств субъектов права, а также кроме фактических
обстоятельств, имеющих значение юридических фактов), свойства которой предопределяют содержание
гражданских правоотношений. Разумеется, речь идет о тех гражданских правоотношениях, которые
являются юридической формой соответствующих материальных (жизненных, фактических) отношений.
Только что проделанные, на первый взгляд - громоздкие и многотрудные, а в действительности -
ужатые до своего логического минимума рассуждения свидетельствуют об одном: правоотношения и их
составляющие (субъективные права и юридические обязанности) ни при каких обстоятельствах не могут
быть объектами правоотношений, хотя бы и иных. Прежде всего, они не принадлежат к субстанциям
(предметам и явлениям) реальной действительности. Их юридически значимые свойства (содержание)
всецело определяются правом, которое основывается, в свою очередь, на свойствах объектов этих
прав. Устанавливать правоотношение ради другого правоотношения (между прочим, неизбежно
придавая тем самым первому правоотношению значение юридического факта*(38)) было бы логически
бессмысленной и непозволительной роскошью для права. Зачем выдумывать "цепочку"
правоотношений, уходить в их "дурную бесконечность", составлять этакие "правоотношения-матрешки"
(от права собственности на вещь переходим к праву собственности на право собственности, от него -
один шаг до права собственности на такое право собственности, которое само имеет своим объектом
другое право собственности и т.д.), если в конечном итоге свойства всех составляющих цепь элементов
предопределяются свойствами объекта первоначального правоотношения (в нашем примере - вещи-
объекта первого права собственности)? если потребности и интересы субъекта-обладателя права на
право удовлетворяются свойствами отнюдь не самого этого права, а свойствами объекта
первоначального субъективного права? Допускаем, конечно, что жизнь могла бы явить нам пример
ситуации, в которой правоотношения ради именно самих правоотношений были бы оптимальным
вариантом ее решения*(39). Но даже если бы так произошло, такая конструкция все равно носила бы
характер нормативного исключения и никак не могла бы рассматриваться в качестве общего правила.
Это последнее замечание тем более актуально, что ни одна запутанная конструкция не является
преимуществом науки, во всяком случае тогда, когда последняя способна обойтись конструкциями
ясными*(40).
Проблема "права на право" проявляет себя с одной довольно любопытной стороны в том случае,
когда заходит речь о правах на относительные права, в частности - на обязательственные права
(требования). Это проявление заключается в содержательной неопределенности подобного права.
Ученые, допускающие возможность существования такого права, вынуждены ограничиваться лишь
самыми общими его характеристиками, причем не содержательными, а чисто внешними. Причина этого
явления - юридическая сущность относительных прав как прав, обеспеченных поведением строго
определенных обязанных лиц (в т.ч. - должников). Если перед нами - права относительные, то как они
могут быть нарушены лицами иными, кроме обязанного субъекта (должника)? Точнее: зачем признавать
право на обязательственное право (требование), если относительная природа этого права лишает
возможности всех посторонних его субъектам лиц как-либо на это требование посягнуть? В.В. Байбак -
единственный современный ученый, поднимающий этот вопрос - не приводя конкретных примеров
подобных нарушений, ограничивается тремя ссылками "к авторитетам" (К.П. Победоносцеву, В.К.
Райхеру и М.М. Агаркову) якобы также допускавшим возможность подобных нарушений. Ясно, что эти
факты сами по себе еще ничего не доказывают; обратившись же к содержательным аспектам взглядов
каждого из трех уважаемых ученых, мы сразу увидим, что ссылки на них сделаны и не совсем к месту. В
особенности это замечание относится к работе М.М. Агаркова, который вовсе не констатировал
существование "особого абсолютного права" на обязательственное право, как может показаться из той
цитаты, что приведена В.В. Байбаком, а лишь рассматривал логически возможные варианты объяснения
давно подмеченного (в т.ч. К.П. Победоносцевым и В.К. Райхером) абсолютного эффекта относительных
прав, констатируя при этом, что "...советское гражданское право такого абсолютного права не
знает"*(41).
Взгляды самого В.К. Райхера содержательно чрезвычайно неопределенны и никак не могут быть
использованы для выявления того содержания, которое могло бы быть вложено в абсолютное право на
требование: по сути ничего, кроме простой констатации того, что относительное правоотношение
"действует в той или иной мере и по адресу всех "третьих", "прочих" лиц"*(42) благодаря тому, что и
существует-то оно лишь постольку, поскольку признается государством (обществом)*(43), в его
знаменитой статье 1925 г. мы и не обнаруживаем. Что означает выражение "в той или иной мере"? в
какой мере? Какое же именно "действие" имеет относительное правоотношение "по адресу прочих лиц"?
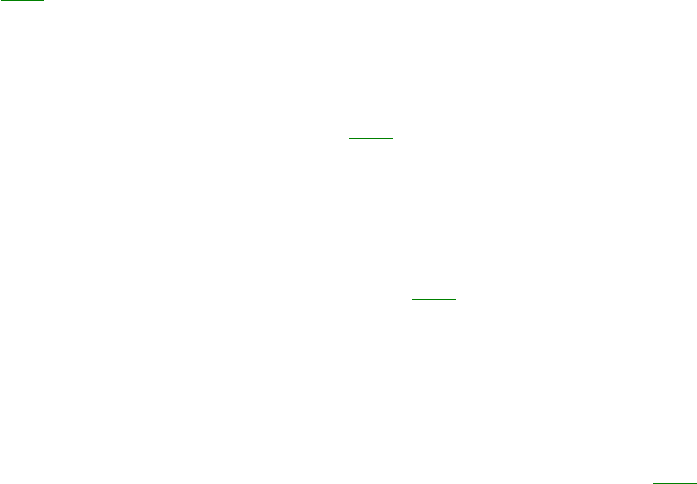
Самый важный вопрос оставлен цивилистом без ответа.
Кстати, содержательную недостаточность подобных воззрений признает и опирающийся на них
В.В. Байбак, с сожалением отмечающий, что "...В.К. Райхер останавливается после этих правильных
рассуждений"*(44), не признавая за управомоченным - обладателем относительного права - никакого
"права абсолютного типа", имеющего своим объектом это относительное. Под стать, между прочим, и
итоговые выводы самого В.В. Байбака, отказавшегося давать содержательное определение права на
право. "...Мы не ставим цель, - пишет он, - сконструировать субъективное новое право, обслуживающего
интересы обладателей обязательственных требований. Такое право уже существует, если угодно, de
facto. В позитивном праве оно специально не выделяется, однако целый ряд действующих норм
фактически направлен на защиту такого права"*(45). Автору, видимо, неизвестно, что пресловутое
научное "конструирование" выполняется наукой не на пустом месте, а именно на основе изучения
фактов реальной действительности, заниматься которым автору совершенно не улыбается. Как за
спасательный круг хватается он за нынешнее состояние учения о праве собственности и вообще за
современную тенденцию к размыванию четких граней категорий пандектистики: "Любое перечисление
отдельных правомочий, входящих в состав субъективного гражданского права всегда может оказаться
неполным..." - предупреждает он; "...а это дает основание утверждать, что действия управомоченного,
которые не вошли в такой перечень, неправомерны"*(46). Неужели же в этом случае лучше не
перечислять вовсе никаких действий? неужели же предпочтительнее, чтобы субъективное право
оказалось ...совсем без правомочий?! Ну а когда взгляд ученого объявляется критерием правомерности
конкретных действий ...ну о чем тут говорить?!
Чуть более определенной, но оттого, увы, не более ясной является позиция К.П. Победоносцева.
Назвав их состояние по отношению к обладателю обязательственного права "подобным состоянию
владения", он указал, что нарушение подобного состояния "...и соединенного с ним интереса по
имуществу" находит выражение в "...непризнании прав по обязательству со стороны третьих лиц",
которых он называет "...почему-либо прикосновенными к этому состоянию"*(47). Очевидно, что
"непризнание" здесь сконструировано по образу и подобию понятия о воздержании от действий как
корреляте правомочий собственника, которое составляет, вообще говоря, правомерное поведение, в то
время как непризнание прав по обязательству, очевидно, по мысли ученого, образует, наоборот,
правонарушение, но дело даже не в этом. Непонятно другое: как непризнание прав по обязательству со
стороны постороннего лица могло бы нарушить кредиторский имущественный интерес? Представим
себе подобную ситуацию: некто А имеет право требования к Б; некое постороннее лицо (В) наличие
такого требования не признает (например, отрицает). И что? Неужели от одного подобного отрицания
(непризнания) это требование вдруг прекратит свое существование? Да ни в коем случае! Или
требование принадлежит А, но В, заявляет что это не так, и оно на самом деле принадлежит ему, - что
же из того? Неужели же от одного простого заявления подобного рода с требованием действительно
что-то произойдет? Никоим образом! Ну и, конечно, нельзя оставить без внимания тот знаменательный
факт, что подобное "непризнание" К.П. Победоносцев признает значимым отнюдь не всегда, а лишь со
стороны тех лиц, которые "...почему-либо прикосновенны к этому состоянию". Каким бы ни был этот
критерий "прикосновенности", очевидно, что речь ведется уже о противопоставлении
обязательственного права определенному кругу лиц. Ну а коли так, то при чем здесь абсолютное право
на право?
Наконец, как уже отмечалось выше, при всем обилии авторов, причисляющих
обязательственные права к объектам гражданских правоотношений, совершенно не обсуждается вопрос
об оборотной стороне обязательства - долгах. Обязательство как и всякое правоотношение - двуединая
субстанция, способ диалектического разрешения антагонистического противоречия между возможным и
необходимым (должным). С этой точки зрения сама по себе постановка вопроса о праве-объекте других
субъективных прав довольно необычна, ибо по сути сводится к вопросу об объектоспособности не всего
явления в целом (правоотношения), а части единого явления (одной из его сторон). Ну, допустим. Но
тогда вот какой возникает вопрос. Если требование - это объект "права на право", то каков, в таком
случае, статус долга - субъективной юридической обязанности, обеспечивающей это требование и
неразрывно за ним следующей? Неужели же при переводе долга происходит передача "права на долг"
(права быть должным)?! Если это и объект, то настолько специфический, что прямо-таки выпадающий из
общего ряда объектов. Долг - единственная субстанция, приобретение которого является не благом, а
бременем; субстанция, отчуждение которой вряд ли может сопровождаться получением хотя бы какого-
нибудь положительного вознаграждения - напротив, оно станет возможным не раньше, чем отчуждатель
подобного "объекта" сам что-нибудь приплатит или обязуется приплатить его приобретателю. А если
долг - не объект, то как может быть объектом обеспечиваемое им право - лицевая сторона единого
явления, известного под названием обязательства или обязательственного правоотношения?
§ 2. "Перемена лиц", "передача прав" и "правопреемство"
