Журавский А., Костюк К. (ред.) Глобализация и столкновение идентичностей
Подождите немного. Документ загружается.


выводиться все: этика («корни зсех этических отношений, а главное, решение этических
проблем, следует искать в дискурсе и коммуникации субъектов»), искусство (актуальное
искусство как интеракция) и т.д. Это не значит, что человек в его составе без остатка
исчерпывается социальным, но это значит, что наличие трансцендентного в человеческом
составе — это допуск, который не является обязательным. Для социологии, как универсаль-
ного нарратива, — «трансцендентное» всего лишь один из смыслов, которым обмениваются
(или не обмениваются) участники коммуникации.
Растекаясь по горизонтали, т.е. пребывая одновременно во многих ячейках социальных сетей,
идентичность личности, тем не менее, сохраняется, но мы являемся свидетелями выработки
нового каркаса идентичности. Сетевая структура социального опрокидывается в структуру
личности, в ее идентичность. Религиозность становится лишь одной из ячеек в сети личной
идентичнос-
39
ти. Она — не в центре личности. Между тем, в древности (и до эпохи романтизма) личность
трактовалась в контексте теологической вертикали: Бог создал человека по образу и подобию.
Само ядро человеческого трансцендентно, а остальное — погруженное в коммуникацию.
Социальное — вторично и понимается как проекция трансцендентного.
По мнению автора, мы находимся на пике эпохи «нового хаоса». В современном гуманизме
нет атеистического пафоса позитивизма, он благожелатен к религии. Его основой являются
пафос самореализации индивида и социальная этика, которые уже не нуждаются в глубоком
религиозном обосновании. Религиозное становится «удобным языком» (Фукуяма), на котором
выражаются некоторые аспекты «поведенческих стандартов». Четвертая секуляризация
становится временем высвобождения религиозного от трансцендентного. Это происходит в
направлении утверждения религиозного — как «образа жизни», как культурного стандарта
локального комьюнити. Глубочайшее заблуждение многих критиков глобализации, заключено
в утверждении будто бы глобализация разрушает основы культурных стандартов
национальных сообществ. В действительности, глобализация работает как раз в обратном
направлении — она укрепляет эти «культурные», «поведенческие» стандарты локальных
обществ, она приветствует ри-туализацию религиозной жизни. Но она готова принимать рели-
гиозное не как источник высших истин, а только как стиль, как «образ жизни».
Постсовременность — как этап секуляризации — направлена на окончательное упразднение
иерархизированной вертикали личности.
Доклад научного сотрудника Института религии и общественной политики (США,
Вашингтон) Николаса Гвоздева «Мир versus Ойкумена: взгляд православия на
глобализацию» отмечает, что глобализация строится на идеях «открытости» (уничтожение ба-
рьеров для движения товаров, капитала, людей, идей). Глобализация стремится создать
объединенный рынок и единый мир с едиными стандартами и языком. Теоретически это
могло бы быть близко православной концепции Ойкумены (Экумены), поскольку экуменизм
— это видение целостного мира, объединенного общим моральным порядком,
поддерживающим гражданский мир вместо общественного хаоса. Автор отмечает, что
современная глобализация имеет даже некоторые заслуги перед православием (например,
помогла православным миссионерам создать в Индонезии или Мадагаскаре, которые не
относятся к «традиционному» пра-
40
вославному миру, новые церкви; позволила использовать Православной церкви новые
информационные технологии, в частности интернета, для проповеди христианства и
образования; новые православные неправительственные организации — Международное
Православное Христианское Милосердие (США) или Благотворительный Институт Единства
Православных Народов (Россия) могут участвовать в транснациональной деятельности,
которая скрепляет единство православного мира и т.д.).
Вместе с тем, в православной среде существует обеспокоенность размахом и темпами
глобализации, неравномерным распределение благ среди участников процесса.
Экономическая эффективность от обеспечения товарами и услугами, не есть высшее благо,
согласно православному социальному учению. Глобализация обозначает гомогенизацию, в то
время как православие рассматривает объединение и разъединение как равновесие; сама
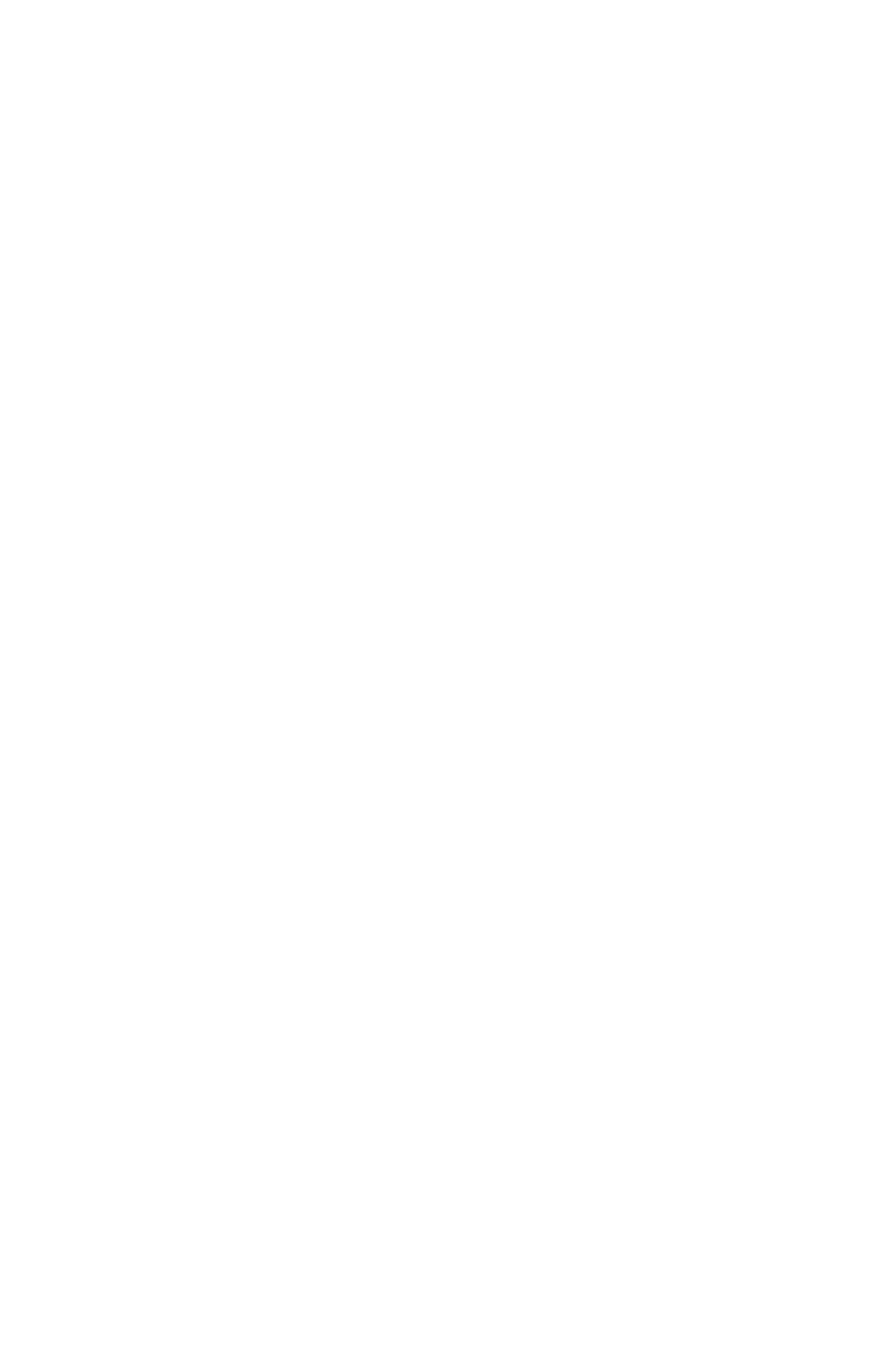
экклезиоло-гическая структура православия представляет собой объединение местных
церквей, исповедующих общую веру, но имеющих децентрализованную систему. По мнению
Н.Гвоздева, говорить, что православие против глобализации, было бы упрощением. Вместе с
тем, православная модель могла бы стать наилучшим выходом, поскольку позволяет
обнаружить золотую середину между глобализацией и регионализмом, использовать
преимущества объединённого мира, не принося в жертву многообразие местного опыта, В
целом, следует признать, что Н.Гвоздеву не удалось раскрыть специфики православного
антиглобализма, православного универсализма и экуменизма, который американский
исследователь трактует как явление ценностно близкое глобализации.
Поскольку глобализация проходит в форме активной экспансии постиндустриального мира,
она неизменно бросает вызов обществам мировой периферии. В этих условиях
актуализируются проблемы социальной идентичности, вырастающие из необходимости
ответа, подразумевающего способность периферийных культур сохранить свою «самость» и
их готовность к сосуществованию (сотрудничеству) различных культурно-цивилизационных
ареалов. Именно этот аспект столкновения идентичности и глобализации становится
предметом исследования Э.Е. Лебедевой в докладе «Проблемы социальной идентичности в
условиях глобализации (на примере Тропической Африки)». Автор на примере Тропической
Африки исследует трансформацию этнической идентичности, попытки лидеров африканских
государств встроить идеологию госстроительства в парадигму модерн-проекта, мучитель-
41
ные поиски государственности, приведшие — через дефектные демократии, трибализм,
этнические конфликты, малоэффективные попытки неопатримониализма, мечты о
мультикультурной и по-лиэтничной модели Черной Африки — к процессам деволюции
государственности в некоторых африканских странах, к т.н. «государственному коллапсу» и
кризису социальности. Однако, такая особенность глобализации, как регионализация, дает
шанс странам Тропической Африки осуществить политэкономическую интеграцию в
глобализирующееся мировое хозяйство. По мнению Э.Е. Лебедевой, структура социальной
идентичности не является чем-то неизменным и застывшим, а формируется в диалектической
взаимосвязи с обществом. Глобализация оказывает неоднозначное влияние на социальную
идентичность африканцев. Успех или провал их попыток дать адекватный ответ на вызовы
глобализации непосредственным образом скажется на динамике и иерархии компонентов
социальной идентичности населения субсахарс-кой Африки. Впрочем, выдвижение
концепции Африканского ренессанса, создание Африканского союза и принятие программы
«Новое партнерство для развития Африки» (НЕПАД) свидетельствует о серьезной
озабоченности лидеров континента судьбой Африки и их стремлении дать адекватный ответ
на вызовы глобализации.
Глобализация — вещь настоящая и жестокая, — утверждаем политолог и сотрудник Фонда
им. К.Аденауэра К.Н.Костюк. В течение всего нескольких лет она смела часть мира,
называвшегося «вторым», сегодня мы наблюдаем, как глобализация перемалывает через свои
жернова мир, называвшийся раньше «третьим». Россия, как и весь «социалистический
лагерь», стала жертвой глобализации, но это не означает, что у России нет шансов использо-
вать глобализационные процессы. Рассмотрению этих шансов и посвящен доклад
К.Н.Костюка «Страны второго мира в глоба-лизационных процессах».
По мнению автора, искусственно созданные границы социалистических стран не смогли
выдержать давления глобализации, которое происходило по всем направлениям: по
идеологическому — коррозия ценностей и идеалов, по политическому — разрядка, по
военному — разоружение, по финансовому — столкновение с твердыми валютами, по
торгово-экономическому — встреча технологически отсталой экономики с рынком
конкурирующих высококачественных продукций. Взломав границы, внешняя сила смела
барьеры: искусственно установленные цены, произвольный
42
валютный курс, надутые объемы производства. Крушение экономик социализма
ознаменовало возникновение нового характера мировой конкуренции, каждая страна
вынуждена конкурировать не с соседями, а с мировыми стандартами.
Страны постсоциалистического пространства, называемые ныне « трансформацион ными »,

слабо встроены в процессы глобализации, но, при этом, получили новую выгодную
конкурентную позицию в ряду бедных стран. Положение России и других государств бывшего
«второго мира», необычно. С одной стороны, участие стран второго мира (и, прежде всего,
СНГ) в процессах глобализации незначительно: на этом пространстве не выросло ни одной
ТНК; инвестиционные потоки игнорируют рынок, покупательная способность которого
невелика; ежегодный рост ВВП чуть выше среднемирового прироста, что обеспечит странам
СНГ компенсацию спада 90-х и выход на количественные показатели конца 80-х гг. XX в. лет
через десять. С другой стороны, в ряде структурных показателей страны СНГ демонстрируют
уровень, приближающийся к развитым государствам или даже обгоняющий их (количество
работающих и образованных женщин, ученых и инженеров, врачей и больничных коек на
душу населения, студентов, вузов и пр.). К.Н.Костюк определяет факторы, позволяющие с
оптимизмом или пессимизмом оценивать перспективы России (и других стран
«трансформационных» экономик) в глобальном мире. Негативные факторы: (1) Россия с ее
огромными континентальными владениями, представляет собой в коммуникационном
отношении мертвое пространство, в то время как глобализация требует наличия густой сети
хороших автомобильных и железных дорог, современных телефонных сетей с оптоволокон-
ными линиями, плотное авиасообщение; (2) сектор информационных технологий в ВВП
России составляет 0,6%, в то время как в развитых странах — около 6-10%; капиталоемкая
экономика постсоциалистических стран, в которой часть добывающей промышленности
чрезмерно высока, является препятствием для глобальной конкурентноспособности,
требующей от государств и корпораций наличие развитых информационных технологий; (3)
российская ментальность противится глобализации, а значит, не в состоянии ее освоить,
граждане социалистических государств воспитывались в сознании изоляционизма, идея
глобализации не органична национальной идентичности.
Но российский политолог видит и основания для оптимистического прогноза: (1)
глобализация, предъявляющая высокие тре-
43
бования к темпам перестройки сознания, воспитанного в условиях искусственного
изоляционизма, становится мобилизирующим фактором для колоссальных культурных
взрывов; только в постсоциалистических странах из вчерашних студентов и нищих инженеров
появляются крупные бизнесмены; в развивающихся странах путь в элиту молодежи из бедных
кварталов закрыт; (2) если в развивающихся странах понятие «средний класс* обозначает по-
чти непреодолимую классовую границу, то в постсоциалистических странах
«потенциальный» средний к ласе «тащит» за собой все население страны; отсутствие
пропасти между «средними» и бедными (в отличие от пропасти между богатыми и бедными)
— важнейшая предпосылка возможности создания «государства благосостояния», вовлечения
всего населения, а не его горстки в будущий «средний класс»; (3) страны отсталой
индустриализации имеют на мировом рынке шансы в двух случаях: в производстве
простейшей продукции малой обработки эпохи первой индустриальной волны и в овладении
самыми последними технологичными производствами, рынки которых только возникают,
поэтому на следующих витках технологического развития страны второго мира (как в 90-х гг.
XX в. страны Юго-Восточной Азии, Северной Европы (Финляндия, Швеция), Индии) могли
бы иметь для этого больше возможностей, чем страны, укрепляющиеся на завоеванных
позициях; (4) политическая подготовленность России к глобализации следует из ее бывшей
роли сверхдержавы, именно в политическом, а не экономическом пространстве Россия была и
остается крупным международным актором (является коспонсо-ром многих переговоров по
преодолению международных конфликтов; состоит в Парижском и Лондонском клубах стран-
кредиторов; является наблюдателем в ОПЕК); вопреки прогнозам России нет оснований
превращаться лишь в региональную державу, отказываясь от возможности быть big global
player, поскольку она уже обладает инфраструктурой мировой державы, и может использовать
свой политический ресурс для выражения голоса развивающихся стран и стран евразийского
региона, чья роль возрастает благодаря глобализации. Россия может стать спикером этих
стран, быть посредником и представителем стран третьего и второго мира в клубе развитых
государств.
Профессор Рихард Мюнх в концептуальном докладе «Труд и общественная солидарность в

условиях глобальной экономики» пытается исследовать возможности формирования
социальной структуры в условиях глобального мира при помощи анализа слож-
44
ной динамики его развития на примере формирования глобального разделения труда и
глобального рынка труда. Для автора очевидно, что основной задачей современного развития
является реализация модели государства всеобщего благосостояния на общеевропейском, а в
последствии — на мировом уровне. Одновременно профессор Мюнх считает необходимым и
неизбежным внесение социального измерения в экономику, трудовые отношения, условия
свободной мировой торговли, хотя зарождающийся глобальный рынок труда имеет
неолиберальную тенденцию сводить работу к простой экономической функции. Между тем,
развитие образования и профессионального обучения сделало возможным превратить труд в
квалифицированный и, с точки зрения культуры, ответственный вид деятельности, что, в свою
очередь, определило культуру общественных отношений. Свободный выбор профессии и
гарантия её получения через широкий доступ к образованию, более высокие шансы на
продолжение образования, получение второго образования и переобучение расширили воз-
можности людей по формированию их личностей посредством работы и самореализации.
Европеизация и неолиберальная глобализация разрушают национальную общественную
солидарность (т.е. солидарность внутри класса, слоя, группы), заменяя её более сложной
системой отношений локальной, региональной, национальной, европейской и глобальной
солидарности. Разделение труда в Европе и мире ломает национальные производственные
цепочки, разрушает национальные системы социального обеспечения; коллективная соли-
дарность национального государства теряет свой экономический фундамент. Поэтому в то
время как элита реформаторов стимулирует европейское и глобальное взаимодействие,
низшие классы представляют собой основной источник противодействия в форме
националистических движений.
Постоянная инновация посредством созидательного разрушения наводняет мир продуктами,
организационными концепциями и стилями жизни, срок пользования которыми становится
все короче. Продолжение и возрождение культурных традиций посредством общения
вытесняется «одноразовой культурой». Всё превращается в объект личного потребления,
ничего не решается совместно, не говоря уже о внешней структуре мировой конкуренции.
Рассматривая возможности стратегии реинтеграции, воссоединения экономики и жизни, автор
задается вопросом: есть ли вооб-
45
те возможность совместить экономическую функцию труда с социальной, культурной, а также
функцией формирования личности? «Реалистическая» стратегия усиливает преобладание
экономики, стратегия, направленная на новую интеграцию различных функций, — почти что
утопия. «Реалистическая» стратегия направлена на оживление рынка труда и увеличение
числа рабочих мест, прежде всего, путем прекращения регулирования рынка труда.
«Утопическая» стратегия подразумевает уменьшение спроса на рабочие места путем
сокращения рабочих часов, использования неполного рабочего дня и годичных отпусков для
достижения оптимального соотношения работы и жизни, интеграции различных функций
труда.
В поисках эффективного способа интеграции между экономическим либерализмом и
«благополучным государством», автор приходит к парадоксальному выводу: «в современных
условиях при поиске новых решений необходимо по-новому преодолеть старую
конфронтацию между капитализмом и социализмом». Преодоление конфликта возможно, по
мнению профессора Мюнха, через развитие институтов активного гражданского общества:
«Активное общество граждан могло бы содействовать «Третьей Современности» глобального
века и занять место благополучных государств «Второй Современности», которая в свою
очередь, вытеснила либеральное государство, жившее по законам «Мерной Современности»».
В этой перспективе должны измениться сами понятия «солидарности» и «справедливости». И
здесь автор подходит к важным выводам, которые важны в свете идей, высказанных в докладе
А.В. Фетисова, О.В. Садова и А.В. Журавского «Субъекты миропорядка XXI века».
«Коллективная солидарность государства-нации, — по мнению Рихарда Мюнха, — распадает-
ся, уступая место более сложной системе видов солидарности и переходя с уровня местного

значения на глобальный уровень. Неокорпоративное взаимодействие государства и крупных
объединений ограничено рамками государства-нации, тогда как новая сеть свободно
связанных гражданско-общественных объединений более плюралистична и влияет больше на
региональном и местном уровне в направлении сверху вниз и на уровни европейского и ми-
рового уровня в направлении снизу вверх. Открытость и плюрали-стичность отношений
солидарности будут иметь место наряду с изменением в ценностях в сторону формализации.
Это относится, прежде всего, к новым представлениям о законности». В «государствах
всеобщего благосостояния» право направлено на обес-
46
печение равных для всех условий жизни под контролем государства, и, прежде всего, для
граждан страны. Равенство внутри нации всегда зависело от неравенства наций во вне. Мюнх
отмечает, что в работах Макса Вебера термины «внутригрупповая мораль» и «внегрупповая
мораль» находятся в полном противоречии. Однако «в глобальной современности, идея
правосудия должна объединить всех людей мира, что возможно только при обобщении и
формализации понятия правосудия».
Доцент Брестского государственного университета О.В. Бреский представил своеобразное
эссе, посвященное проблемам белорусской национальной (этнополитической) идентичности
— «Белорусский национальный миф и процессы глобализации». Критический пафос автора
— в констатации дефектности национальности сознания белорусов, оказавшихся не
способными адаптироваться к условиях глобализации.
Несмотря на долю неоправданного детерминизма и почти чаа-даевской скорби, в начале
своего доклада автор демонстрирует этнопсихологический анализ комплексов национальной
несостоятельности, политического самоизоляционизма, детской болезни роста национального
самосознания. В контексте такого представления, «белорусские национальные деятели — это
поэты, чудаки, мечтатели, странные люди, претендующие на странные вещи. Их
национальная идентичность выглядит как хобби... Белорусам не достает харизмы,
органичности, практичности, горения и религиозного миссионерского рвения для
утверждения своих идей... Белорусская идентичность всегда утверждается только в
противовес «российской», «советской» — она лишена необходимой для органичного явления
самостоятельности».
Белорусы, как нация, не входили в модерн, а потому не выдержали испытание глобализацией.
Отсюда происходит «раскол белорусского национального сознания», склоняющегося одновре-
менно и к самоизоляции в границах национального мифа, и к легитимации реальной
политической идеократии, возникшей как правопреемница Советского Союза, но
воспринявшей риторику белорусского национального суверенитета. Такое общество и го-
сударство оказываются не готовыми к продуманному и целенаправленному взаимодействию с
глобальными процессами, происходит кризис идентичности.
Вместе с тем, с некоторыми утверждениями автора едва ли можно согласиться. Так, О.В.
Бреский не только неоправданно отождествляет денациализацию и десоциализацию, но и
утверждает,
47
что национальный миф может соответствовать «мифу о глобальном человечестве,
объединенном не посредством взаимоотношений между национальными суверенами, а между
нациями, обладающими идентичностью в рамках системы множественности юрисдикции , где
национальная юрисдикция — одна из многих ».
Сомнительным представляется и авторское утверждение, что « если государственная
идеократия пытается использовать белорусский национальный миф как инструмент
антиглобалистской изоляции Беларуси,.. то в отношении белорусского социума белорусский
национальный миф становится агентом глобализации, соподчиняя его логике глобальных
проектов, предъявляя ему один вызов — сохранения идентичности в глобальных процессах».
Автор маркирует социум, как агента глобализации, находящегося в оппозиции к идеократии.
Т.о. белорусский национальный миф, в реальности оказавшийся несостоятельным в условиях
белорусской идеократии, представляется автору — в идеале — возможной панацеей от
идеократии и, одновременно, фактором адоптации к глобализации. Отсюда не менее
сомнительный тезис: «только нация может быть гарантом правовых отношений на глобальном

уровне». В то же время можно согласиться с утверждением автора, что «вызов глобализации
для Беларуси — это вызов ее идентичности: с кем ты, где твои интересы, границы, где
границы твоего суверенитета и кто ты. Вызов глобализации — это вызов для нахождения
решения внутренних проблем для определенной нации», которые нельзя снять формальным
объединением с Россией или Евросоюзом.
Концептуальный взгляд на тенденции мирового развития и возможное место России в
глобальном мире, представлен в прогностическом докладе известного экономиста и
политолога М.Г. Делягина «Мир 2010-2020 годов: некоторые базовые тенденции и
требования к России». Уже в начале доклада Делягин излагает новые требования к
прогнозированию развития государства. В условиях глобальных трансформаций
исключительное значение приобретает «внешняя, мировая среда существования», которая ус-
танавливает внутреннему развитию общества (государства) внешние, не зависящие от него
требования и ограничения, создает «коридор возможностей». Отсюда кардинально меняется
модальность прогноза. Необязательные к исполнению пожелания, связанные с реализацией
внутренних возможностей, будут заменены на категорические императивы национального
развития: внешние, объективные и не зависящие от состояния общества, без реализа-
48
ции которых оно не обеспечит себе приемлемого места в мировой конкуренции.
На рубеже XIX — XX вв. человечество достигло исключительно высокой для тогдашнего
уровня развития интеграции, которая, устранив внутренние барьеры на рынках, предельно
(вплоть до развязывания мировой войны) обострила конкуренцию между наиболее развитыми
странами и привела к глубокой сегментации человечества. Сегментация, развивающаяся в
нескольких направлениях, усилилась после победы Запада в «холодной войне».
Разделение между успешно развивающимися и неразвитыми странами («между богатыми и
бедными»), приняло в начале 90-х годов технологический характер. Хотя развитые страны
осознают эту проблему преимущественно через призму «цифрового неравенства», которое
ограничивает рынки сбыта производимой ими сложной и дорогой высокотехнологичной
продукции, на деле проблема глубже: рост эффективности информационных технологий
привел к классическому «кризису перепроизводства» информационных (в широком смысле
слова) услуг. Их объем слишком велик даже для глобальных рынков. Расширение глобальных
рынков сдерживается не только бедностью большинства населения развивающихся стран, но
и культурным барьером: технологии пропаганды и даже обработки информации, разработан-
ные для одной цивилизационной парадигмы, не воспринимаются в рамках другой.
Таким образом, разделение человечества идет не только по используемым технологиям или
уровню благосостояния, но и по ци-вилизационному признаку. Исчезновение биполярной
системы («социализм-капитализм») уничтожило силовое поле биполярного противостояния,
высвободив сразу две цивилизационно-куль-турных инициативы: исламскую, несущую
мощный социальный заряд, и китайскую.
Делягин вновь, как и многие участники конференции, обращается к проблеме
аксиологического конфликта, столкновения иден-тичностей. По мнению автора, «участники
конкуренции между цивилизациями разделены глубже, чем стороны межнационального
конфликта. Они не только преследуют разные цели разными методами, но и не могут понять
ценности, цели и методы друг друга». Финансовая экспансия Запада, этническая — Китая и
религиозная — ислама осуществляются в разных системах координат; воспринимая друг
друга как глубоко чуждое явление, враждебное не в силу различного отношения к ключевому
вопросу всякого об-
49
щественного развития — вопросу о власти, но в силу собственного образа жизни.
Компромисс возможен только в случае изменения (=уничтожения) альтернативного образа
жизни, конкуренция носит бескомпромиссный характер. Каждая из трех великих циви-
лизаций, проникая в другую, не обогащает, но разъедает и подрывает ее (классические
примеры — этнический раскол американского общества и имманентная шаткость
прозападных режимов в исламских странах).
Ухудшение конъюнктуры ужесточает конкуренцию: в эпоху процветания она ведется за
лишний кусок, в эпоху кризисов — за выживание. Глобальная экономика 90-х годов — эпохи

бурного процветания развитых стран за счет переваривания ресурсов социалистической
системы — была и эпохой глобальной конкуренции. Процессы возникновения глобальных
монополий и глобального капитала, а также «экономические успехи» 90-х годов XX века
сопровождались обострением основных проблем человечества (бедности, неграмотности,
болезней, дискриминации, загрязнения окружающей среды). Стала очевидна объективная
необходимость смены парадигмы развития человечества.
Тревожные симптомы появились на подъеме мировой экономики. В ближайшие годы
ухудшения мировой конъюнктуры следует ожидать ужесточения глобальной конкуренции и
приобретения ей более разрушительного (для слабых) характера. Любое менее эффективное
производство будет уничтожаться; соответственно, в конкуренции смогут участвовать
обладатели либо наивысшей эффективности производства, либо уникальных преимуществ (в
первую очередь ресурсов). Выход из кризиса видится М.Делягину в переходе от глобализации
к регионализации, то есть от формирования единого общемирового рынка к созданию системы
региональных рынков. В этих условиях, в силу снижения остроты конкуренции, смогут
существовать и развиваться относительно менее эффективные общества. Другое направление
ужесточения глобальной конкуренции — жесткая конкуренция на рынках ресурсов. Автор
убежден, что Россия все еще располагает «двумя уникальными преимуществами:
пространством, позволяющим обеспечить необходимую мировой торговле
трансъевразийскую магистраль, и минеральными ресурсами, являющимися последней на
нашей планете нетронутой природной кладовой». Общее ужесточение конкуренции за
ресурсы развития означает, что российскому обществу уже в ближайшее время предстоит
доказывать основным участникам глобальной конкуренции свою способность использо-
50
вать эти ресурсы и возможность ими владеть. Так, право на уникальную возможность
создания трансъевразийской железнодорожной магистрали поставлено под сомнение ростом
американского влияния в Средней Азии. Освоение же природных ресурсов Сибири и
Дальнего Востока под международным, а не российским контролем и вовсе является
открытой темой дискуссий американских специалистов, по меньшей мере, с 1996 года.
Отсюда вывод М.Делягина: «предстоящее столкновение интересов Запада (США и ЕС,
вероятно, будут действовать порознь), Китая и исламской цивилизации на территории России
должно регулироваться, направляться и балансироваться российским государством, которое
одно из участников конкуренции способно осознавать специфику осваиваемой территории».
Делягин отмечает появление новых субъектов глобальной конкуренции. Например,
транснациональные корпорации. Отмечается, что США создали наиболее совершенный
механизм симбиоза крупных корпораций с государством, в силу чего их политика и интересы
если не совпадают, то гармонично дополняют друг друга. Значительную, хотя и скрытую роль
в современной конкуренции играют структуры, действующие внеэкономическими методами.
Это религиозные и преступные организации, а также структуры, ориентированные на решение
отдельных проблем (например, антиглобалистское, экологические движения). В эту же
типологическую группу входят спецслужбы ряда стран, обладающие значительной степенью
самостоятельности. Упрощение процесса коммуникаций, позволившее создавать весьма
эффективные сетевые структуры, распределенные не только в географическом, но и в
правовом отношении, резко повысило влиятельность всех негосударственных участников
мировой конкуренции.
Автор приходит к тому же выводу, что и авторы доклада «Субъекты мирового развития»:
«глобальная конкуренция носит надэкономический характер и ведется за навязывание миру
своей модели развития». В этих условиях, важнейшим условием эффективного развития и
конкурентноспособности является сохранение общественной идентичности,
совершенствование и поддержание устойчивой системы общественных ценностей, действенно
мотивирующих общество к достижению успеха в глобальной конкуренции.
Самоидентификация советского народа была разрушена в период горбачевской
«катастройки». Сегодня российское общество стоит перед необходимостью обретения новой
самоидентификации. «Обретение субъектности» может идти только на базе идеи
51
«конструктивного реванша» в глобальной конкуренции и путем глубокой реидеологизации
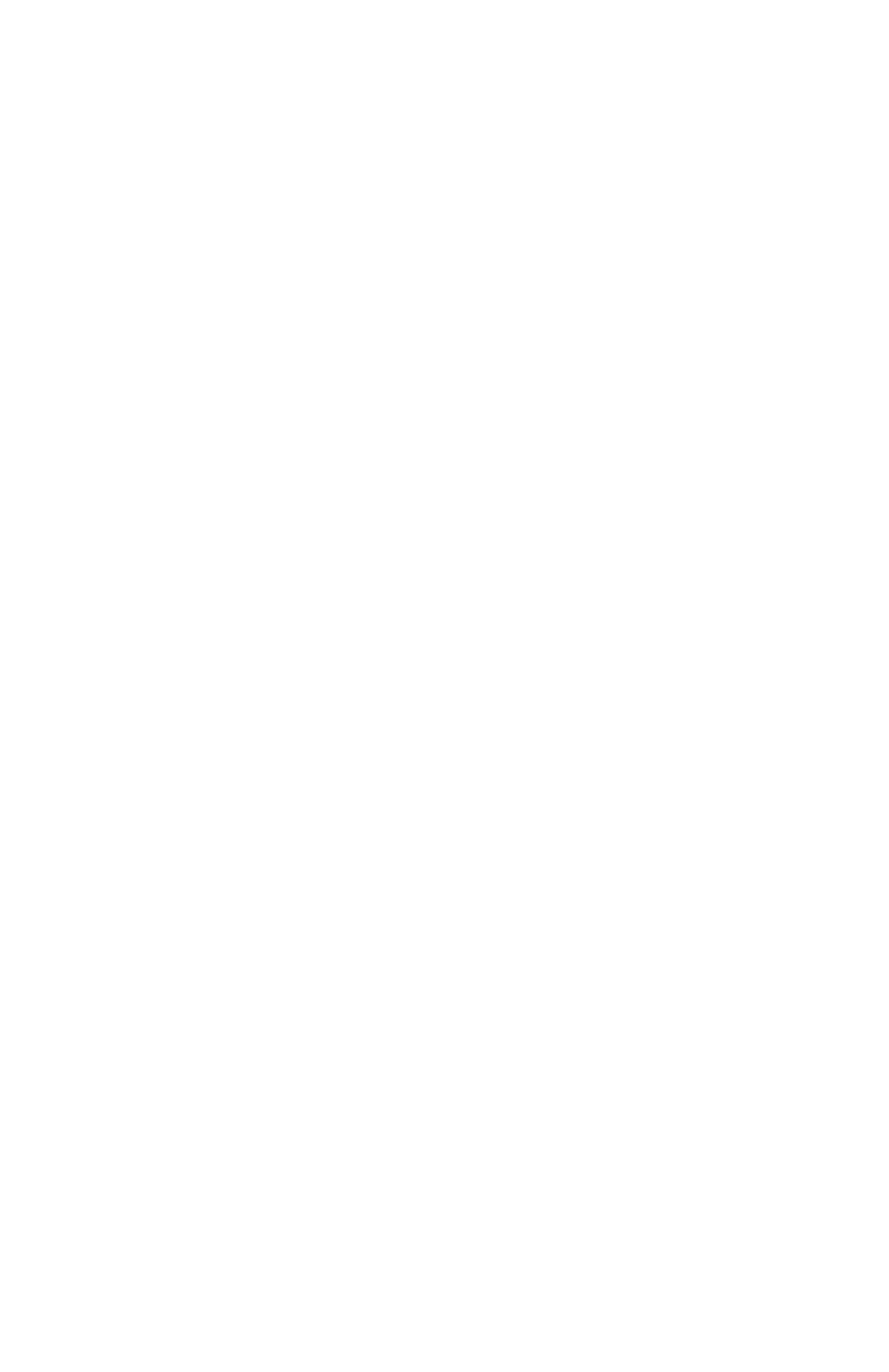
общества.
Между тем, идеология — консолидирующий фактор для социальных и национальных групп в
мировой битве за рынки и ресурсы, это — единственный генератор энтузиазма, усиливающий фи-
зические, административные и интеллектуальные силы общества. Одна из фундаментальных
причин успеха США — исключительная идеологизированность американского общества. Еще в
1837 году Авраам Линкольн выдвинул тезис о необходимости « политической религии»,
почитающей Конституцию и законы США как религиозную догму. Впоследствии, американское
общество выработало такую «гражданскую религию», вводящую религиозную жесткость и
нормативность в сферу принципиально важных вопросов внутренней жизни общества.
Суть идеологии, способной объединить Россию, это — гармоничное соединение неотъемлемых
прав личности и необходимости патриотизма, как единственно возможного инструмента
обеспечения этих прав в условиях внешней конкуренции. Задача формирования новой
созидательной идеологии ставит на повестку дня и вопрос об обновлении российских элит,
которые сегодня не только развращены длительным грабежом и разрушением собственной
страны, но и обессилены цинизмом, отсутствием идеалов и энтузиазма.
Проблема самоидентификации нации в условиях глобальных, в т.ч. миграционных вызовов,
продолжает профессор Ярославского государственного университета Л.Б. Парфенова в своем
докладе «Миграция и этническое самоопределение в контексте много-культурности».
Автор отмечает, что очевидными общественными последствиями глобализации является
этническое оживление (ethnic revival) и международная миграция, причем последняя имеет
динамичный и сложный характер, способствующий, подчас, возникновению международной
напряженности и конфликтов. Одновременно наблюдается феномен ренессанса национальных
культур, этнической самоопределенности (как ответа на вызов глобальной «всеэтничности») и
снятие проблемы пространства, что делает миграцию способом жизни. Автор, вслед за
польским исследователем Д.Кларком (J.Klark), отмечает, что расширяющаяся интеграция в
рамках Европейского Союза привела к тому, что «новое, наднациональное пространство
становится эксклюзивным клубом, все более закрытым для бедных государств». В историчес-
кой ретроспективе европейская миграция оформилась как поток
52
мигрантов из колоний, в результате открытости границ, и в интересах получения Европой
дешевой рабочей силы. Но в конце 80-х годов Европой был осознан новый миграционный вызов.
Сообщества иммигрантов из неевропейских стран культурно отличались от национальной
природы принявших их государств, хотя и стали прочным элементом их экономики и общества.
Растущая безработица среди иммигрантов, концентрация мигрантов в определенных регионах
стран, трудности с культурной адаптацией привели к тому, что миграция стала глобальной
проблемой.
Выходом по мнению автора является осуществление политики многокультурности, что должно
привести к интеграции иммигрантского сообщества в европейское общество. При этом,
интеграция понимается не как процесс ассимиляции или разрушения иммигрантами собственных
ценностей и уподобления доминирующему большинству. Интеграция, по убеждению
Л.Б.Парфеновой, является двусторонним процессом, охватывающим и принимающее сообщество,
которое может создать механизмы согласованного сосуществования мигрантов с культурой
принимающей стороны. Таким образом, понятая многокультурная политика может быть
рассмотрена как «обратная сторона гражданства», предусматривающая облегчение и более
справедливое отношение с точки зрения культурного процесса приспособления иммигрантов к
принимающему сообществу, делающему из них граждан этих стран. По мнению автора, в
условиях глобализации многокультурное государство может быть более эффективным гарантом
свобод и прав человека, чем государство мононациональное.
Миграционная тема нашла развитие в докладе А.В. Докучаевой «Проблемы и ожидания
российских соотечественников за рубежом». Российские соотечественники, оказавшиеся в
результате распада СССР иностранцами, испытали сильнейший стресс, связанный с резким
изменением собственного статуса в государ-ствецной, общественной, экономической жизни.
Обнаружились три процесса, в которые были вовлечены наши соотечественники, оказавшиеся за
рубежом: исход, приспособление (социальная адоптация) и социальная депрессии. С 1991 года
годы численность российских соотечественников в ближнем зарубежье уменьшилась на 5
миллионов, с 30 до 25 млн. человек. Большинство — переехало в Россию. В постсоветских
государствах русские составляют более 80% от общей массы российских зарубежных

соотечественников. Русские же преобладают в миграционных потоках (около 80% переселенцев в
России из стран СНГ и Прибалтики).
53
При этом очевидны наиболее острые проблемы: сужение русскоязычного пространства и
возможности полноценной жизни в родной языковой сфере; не снижающаяся русофобия и
даже рост бытового национализма; постепенное и неуклонное вытеснение русских из сфер
управления, общественно значимых профессий; сокращаются возможности обучения на
русском языке, а, кроме того, все труднее получить качественное профессиональное обра-
зование, уровень которого в странах СНГ значительно упал по сравнению с российским.
Многочисленные житейские проблемы вплоть до последнего времени, когда стала
проводиться политика по защите интересов зарубежных соотечественников, усугублялись
разочарованием в позиции России. При этом, после социального стресса и депрессии, русские
за рубежом стали консолидироваться. Так, права и интересы соотечественников в странах
проживания обеспечивают около 300 общественных, политических, культурных, благотво-
рительных, ветеранских, правозащитных организаций. Объединительные конференции и
съезды прошли в 1999 году в Казахстане и на Украине. Координация русских организаций в
Прибалтике позволила избрать в парламент их представителей практически везде: и в Литве, и
в Эстонии, и в Латвии. Выборы в Рижскую думу, которые прошли в феврале 2001 года,
привели русских к власти в столице Латвии.
Автор убежден, что зарубежные соотечественники — это не востребованный ресурс России,
который при правильной российской политике может стать реальным фактором влияния и
представления интересов России в постсоветских странах.
Комментируя авторский взгляд А.В. Докучаевой на сложную ситуацию с российскими
соотечественниками за рубежом, и последние парламентские успехи « русскоязычного
населения » в Прибалтике, хочется, в то же время, отметить, что проблема быстрой
ассимиляции русских в условиях инокультурной среды — общеизвестна. Потомки эмигрантов
первой волны русской эмиграции уже давно — натурализовавшиеся французы, американцы,
австралийцы русского происхождения, утратившие, в большинстве своем, и язык, и
этнокультурную самоидентификацию. Несколько лучше обстоит дело с ассимиляцией
эмигрантов второй и третей волны (из СССР), но ведь и времени прошло меньше, чтобы
судить о результате их социокультурной адаптации и степени ас-симилированности.
Объясняется упомянутая легкость, с какой русский человек ассимилируется (вплоть до утраты
собственной
54
этнической памяти), отсутствием опыта диаспоральной жизни. Армяне, евреи, греки и другие
народы, пережившие этапы «рассеяния* и приобретшие опыт диаспорального выживания,
выработали в большей или меньшей степени иммунитет к инокуль турному влиянию и
ассимиляции. У русских такой опыт впервые возникает в XX веке, а иммунитет
вырабатываться у некоторых групп на рубеже XX-XIX вв. — в русских анклавах (например,
Приднестровье) и диаспорах (Прибалтика, Украина, Казахстан). Причем, опыт приобретается
не в условиях европейского демократизма, а на фоне легитимации русофобии и ксенофобии,
являвшихся на определенном историческом этапе формами национального самоопределения
титульных народов стран постсоветского пространства.
В докладе К.Фролова и И,Агафонова ««Русская идея»: от самоощущения к самосознанию»
предлагается собственное религиозно-политическое осмысление проекта под названием
«Россия». Авторы убеждены, что объединяющая, надэтническая, в конечном счете,
«имперская» идея, призванная обеспечить переход с частного, этнического на общий,
национальный уровень, может и должна быть применена к современным условиям. Маркируя
западную идеологию как аксиологически несостоятельную, авторы доклада предлагают
гармоническому, эгалитаристскому, безценностному (=плюралистическому),
децентрализованному западному мировосприятию противопоставить российский идеал
иерархии, иерархического мироустройства, предполагающего наличие безусловных ценностей
и их проекцию во все сферы деятельности человека. Одновременно авторы отмечают, что в
настоящий момент основным недостатком «русской идеи» является ее телеологическая,
тактическая несостоятельность. Попытки же осмысления, лишенные целостного,

конструктивного подхода, дают печальные плоды: маргинальные построения, базирующиеся
лишь на отрицании западного и коммунистического опыта. Как следствие, возникает апология
изоляционизма, национальной обособленности , в то время как необходима работа по
приведению традиционных для нашей страны ценностей в единую, целостную систему,
позволяющую применять их к практическим условиям современности.
Авторы явно демонстрируют достаточно утилитаристский подход к системе ценностей,
особенно комментируя возможности православия в политическом и русскокультурном
освоении мира. Например, не убеждает авторский тезис, что «трагедия России зак-
55
лючается в неполном принятии Византийской традиции»: «мы заявили о себе как о «Третьем
Риме»», но «поленились выполнить эту миссию в полном объеме». Авторы убеждены, что
отсутствие интеллектуального преемства и научного богословствования привело к *
телеологической неопределенности »; произошел разрыв в традиции, обусловивший
цивилизационно-культурную и технологическую зависимость от Запада; в итоге,
восточнохристианская цивилизация не состоялась в России как целостный цивилизаци-онно-
культурный и политический проект. Однако, возникает закономерный вопрос: почему тогда,
едва преодолев 11-й век своего бытия, погибла Византии, в которой существовала и
телеологическая определенность, и интеллектуальная среда, и состоявшийся имперский
проект. Если даже в России «целостный цивилиза-ционно-культурный и политический
проект» не состоялся, то все равно летопись российской истории ныне открывает также один-
надцатую столетнюю главу. Что в свою очередь, именно в силу мистической зависимости и
византийской преемственности, не может не вызывать беспокойства. Несмотря на очевидную
справедливость авторского мнения, что «исламская Россия» — даже в оптимистической
перспективе не будет первым государством исламского мира, центр которого — в Мекке и в
Медине, а не в Москве, отметим, что отсутствие Мекки и Медины в границах Византийской
империи, не помешало исламизации православной империи.
Авторы доклада отмечают, что любое государство, руководствуясь привнесенными
ценностями, перестает быть их производителем, теряет способности к идейной, культурной
редукции, утрачивает мировоззренческую самостоятельность. Отсюда возникает пафос
мессианства — «экспортом культуры и идеологии должны заниматься мы сами, вовлекая
другие страны в орбиту нашей мировоззренческой — культурной — социальной —
политической парадигмы». Авторы пытаются обосновать закономерность (и необходимость)
зависимости политического будущего России от ее религиозного и национального пути.
Ссылаясь на авторитет Георгия Флоровского, авторы утверждают, что имеющиеся достиже-
ния российской богословско-философской мысли служат основой для того
«неокаппадокийского синтеза» и интеллектуальной работы, результатом которой должно
стать воцерковление, возвращение культуры, философии, мировосприятия в русло православ-
ной традиции. Именно так должна решатся проблема телеологической несостоятельности,
существующая сегодня в России,
56
именно такой подход позволит консолидировать национальную элиту общества,
трансформирует самоощущение в самоосознание. Подобного рода религиозно обоснованный
«солидарном» и есть та цель, к которой на протяжении веков стремилась русская религиозно-
философская мысль.
Но православие, по мнению авторов, может стать не только идеологией России, поскольку
последняя способная осуществлять и интеллектуальную экспансию. Разработанная и
целостная философия позволит «русской идее» быть конкурентоспособной и востребованной
не только в России, но и на мировом «рынке идей». И тогда уже Россия станет «русской
Меккой» для Запада. Отстаивая право на своеобразный синтез религиозного мессианства и
политико-культурной экспансии, и оставляя православным грекам, болгарам, румынам,
сербам — роль периферийных культур, авторы настаивают на том, что православная культура
в глобальном смысле слова — это культура именно русская. Вывод доклада звучит почти как
приговор «Третьему Риму» и его неизбежной в таком контексте византийской судьбе.
«Лидером православного мира, — резюмируют авторы, — может и должна быть только Рос-
сия, это и будет оправданием ее существования, ее историческим предназначением и
