Захарова Е.И. (ред.) Психологические проблемы современной семьи
Подождите немного. Документ загружается.

7. Молчанов С.В. Развитие морально-ценностной ориентации личности как функция
социальной ситуации развития в подростковом и юношеском возрасте // Автореферат
дисс. канд. психол. н., М., 2005. – 31 с.
8. Моргун, Ткачева 1981
9. Мохов В.А., Орестова В.Р. Методика определения статусов психологической интимности
// Психологическая диагностика. 2005, №4, с. 115 – 132.
10. сайт www.childfree.ru
11. Обухова Л.Ф. Лекции по возрастной психологии (рукопись). – М., МГУ
им.М.В.Ломоносова, 2001-2002 гг.
12. Орестова В.Р. Формирование личностной идентичности в старшем подростковом и
юношеском возрасте // Автореферат дисс. канд. психол. н., М., 2001. – 29 с.
13. Попова М.В. Становление персональной идентичности в юношеском
возрасте // Автореферат дисс. канд. психол. н., Нижний Новгород, 2005 – 26 с.
14. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. М., 2005
15. Ярыгина Н.Ю. Мотивационно-смысловая готовность к семейной жизни // Автореферат
дисс. канд. психол. н., М., 2007. – 20 с.
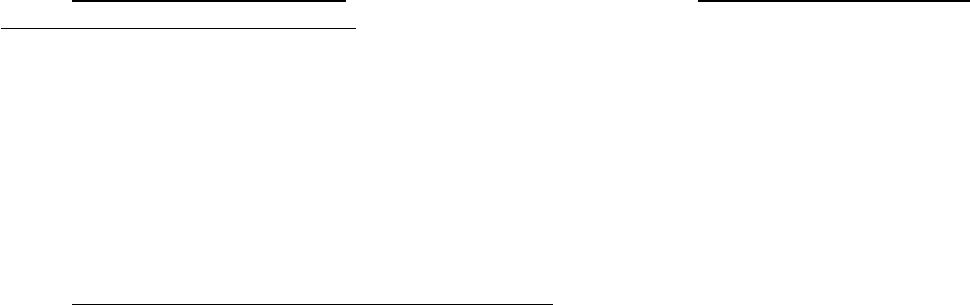
Стратегии социализации матери в первые годы жизни ребенка
Самошкина И.С., г. Москва,
ГУП «Управление перспективных застроек»
Проблема социализации взрослых в социальной психологии традиционно
рассматривается как трудовая социализация, а в зарубежных исследованиях – как освоение
роли в социальной группе (Moreland, Levine, 2001). Во взрослом возрасте значимое место
занимают семейные роли, особенно роль матери, которая связана с противоречивыми
общественными ожиданиями. Исследования стратегий становления материнской роли
интересны и профессионалам – исследователям, и практикующим семейным психологам, и
самим мамам, столкнувшимся со сложностями освоения этой роли. Для социализации
матери наиболее значимым, по нашему мнению, является период от рождения ребенка до
достижения им возраста 2-3 лет (ориентировочно – до выхода матери из отпуска по уходу за
ребенком на работу). Существует много исследований, посвященных становлению
материнства у беременных женщин, которое может быть рассмотрено как подготовительный
этап к материнской социализации. Становясь матерью, женщина попадает в ситуацию, когда
все сложившиеся статусы, роли и отношения изменяются: она перестает на какое-то время
работать или учиться, строить карьеру, меняются отношения в семье, с друзьями, изменения
затрагивают и эмоциональную, и телесную сферы. Уход за ребенком требует много времени,
возникает дефицит общения с другими взрослыми. Социализация как освоение роли матери
может быть рассмотрена в различных аспектах, но мы подробнее остановимся на
социализации как вхождении в группу матерей.
Процесс социализации распределяется в трех сферах: деятельность, общение,
самосознание (Андреева, 2004). Определяя понятие социализации матери, отметим, что она
включает три аспекта:
освоение деятельности, связанной с уходом за ребенком и его воспитанием;
выстраивание в ходе общения отношений с ребенком, другими членами семьи, с
другими членами общества (в первую очередь другими матерями) в своем новом статусе;
формирование идентичности матери, той части «Я-концепции», которая связана с
материнской ролью и статусом и своим соответствием этой роли и этому статусу.
Общественные ожидания создают образ «хорошей матери», который может оказаться
противоречивым, а у матери существует сильная мотивация быть «хорошей матерью».
Д.Винникот вводит термин «достаточно хорошая мать», подразумевая, что «идеальной
матерью» быть невозможно, а то и вредно для ребенка (Винникот, 1997). Рассматриваемые
нами стратегии не исключают друг друга, а чаще всего используются комплексно.
Традиционной стратегией социализации матери является усвоение норм и правил
поведения у старшего поколения (собственной матери, бабушки, теть и т.д.) и у других
старших членов семейной системы, друзей, соседей и прочих «опытных мам». Эта стратегия
охватывает все три сферы социализации: примеры и советы помогают освоить деятельность,
происходит обмен опытом, старшее поколение охотно оценивает женщину в роли матери,
формирует образы «хорошая мать» и «плохая мать». Однако в информационном поле,
доступном будущей матери, многое противоречит тем советам и рекомендуемым сценариям
поведения, которые транслируют бабушки, мамы и старшие подруги. Пересматривается
деятельность по уходу за ребенком: одевание в одежду или пеленание, совместный сон или
укладывание в кроватку, использование подгузников или высаживание... Традиционная
стратегия нивелируется, но продолжает использоваться, и конструируются другие стратегии.
Изучение литературы, воспитание «по книге» становится прекрасной заменой опыта
предшествующих поколений. Авторы и издатели выпускают тома советов, как вести себя с
ребенком с рождения. Характерна категоричность советов, алгоритмизация деятельности,
связанной с уходом за ребенком. Поколение назад наиболее популярна была книга
Бенджамина Спока «Ребенок и уход за ним» (Спок, 2008), затем ей на смену пришла книга
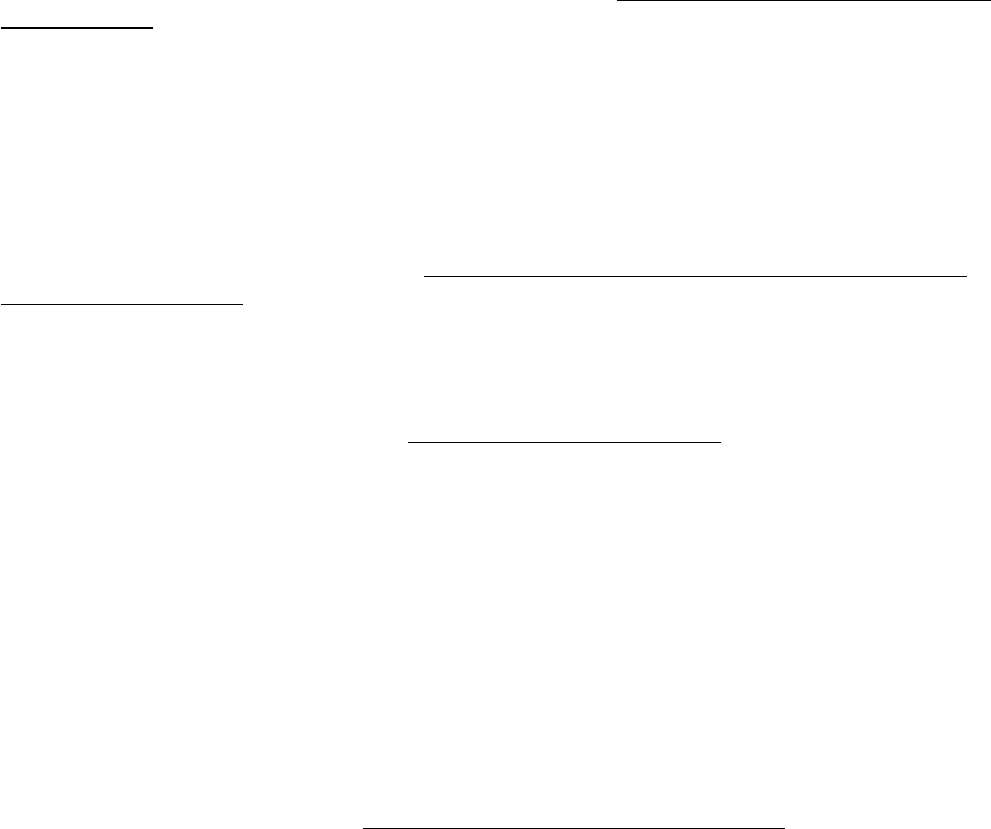
О.С. Жуковой «Уникальная методика развития ребенка. От рождения до трех лет» (Жукова,
2004), в последние годы ее сменила книга Уильяма и Марты Сирз «Ваш малыш от рождения
до двух лет» (Сирз, 2009). Эти книги предлагают два противоположных подхода к малышу.
Один основан на правилах и режиме, второй на естественности и биологических ритмах.
Выбирая воспитание «по книге» мама противопоставляет советчикам (бабушкам, подругам)
рекомендации экспертов-авторов, более аргументировано отстаивает свое мнение. В сфере
самосознания эта стратегия создает систему координат материнской роли. Недостатком
такой стратегии, кроме отсутствия гибкости, является перенос фокуса общения на ребенка,
что не позволяет раскрыть в полной мере все аспекты материнства.
Также популярна стратегия социализации с использованием Интернет-
коммуникации. Согласно Е.П. Белинской (2005), интернет-коммуникация выступает
модельной ситуацией конструирования идентичности. Эта коммуникация осуществляется в
виде участия в обсуждениях на форумах и профильных сообществах (к примеру, форумы
«Акушерство», «7я», сообщества в Живом Журнале «Малыши», «Дети в семье» и другие).
Форумы и сообщества позволяют активнее развивать сферу общения, чем традиционная
стратегия и чтение книг. Происходит общение с другими мамами, разброс мнений шире и
менее категоричен. Стратегия использования Интернет развивает и сферу деятельности,
поскольку мамы охотно делятся знаниями, в том числе в виде мастер-классов, видеофильмов
или слайдшоу.
Особое место занимает стратегия приобщения к движениям или сообществам более
узкой направленности. Среди таких движений - сторонники раннего высаживания,
приверженцы ношения в слингах, противники прививок. Среди более ранних движений, 70-
80-гг XX века, отметим обучение плаванию младенцев по методу Чарковского, методики
раннего развития Домана, Никитиных, Зайцева и многие другие. Есть движение,
объединяющее многое из вышеназванного, которое носит название «естественное
родительство» (attachment parenting). «Естественное родительство» предлагает домашние
роды, отказ от прививок, лечение гомеопатией (а не традиционной медициной), длительное
(до трех лет и позже) грудное вскармливание, совместный сон, слингоношение, высаживание
и отказ от подгузников, педагогический прикорм (вместо педиатрического прикорма, то есть
введения взрослой пищи по строгим правилам). По мнению участников движения, это
позволяет вырастить здорового ребенка, уверенную в себе личность. Среди членов узких
сообществ встречаются и менее категоричные, которые выбирают не идеологию, а действия,
как полезные для себя и для ребенка. Узкие сообщества бросают вызов в первую очередь
традиционной стратегии социализации и этим подобны молодежным движениям, также
имеющим в основе протест, противопоставление традиционному обществу и его нормам и
правилам (о молодежных сообществах подробнее см., например, Щепанская, 2004). Членство
в узких сообществах лучше развивает сферу общения и сферу самосознания, поскольку
участники сообществ часто встречаются, чтобы поддержать друг друга, а образ члена группы
формируется быстрее и менее противоречив, чем образ матери в целом.
Остановимся подробнее на движении слингомам (слиногоношении). Оно исходит из
того, что ребенку важен тесный контакт с матерью, и практикует ношение ребенка в
специальной перевязи – слинге. В качестве литературного источника движения выступает
книга Ж. Ледлофф «Как вырастить ребенка счастливым» (Ледлофф, 2008). Члены движения
противопоставляют себя мамам, гуляющим с ребенком в коляске, и мамам, использующим
переноски-кенгуру. Перевязи-слинги, согласно истории движения – это средство ношения
ребенка в традиционных культурах. Проводят этнографические корни в Африке, Китае,
Перу, в славянских культурах. Интернет-форумы дают возможность обмениваться опытом
для слингомам во всем мире и искать соседей-слингомам в своем городе и районе.
Слингомамы задействуют для популяризации движения СМИ – радиопередачи,
телепрограммы, брошюры; существует ассоциация слингоконсультантов (тех, кто помогает в
освоении слингов). Движению слингомам присущи признаки групповой культуры:
слингомамы рассказывают друг другу анекдоты, связанные с использованием слингов,
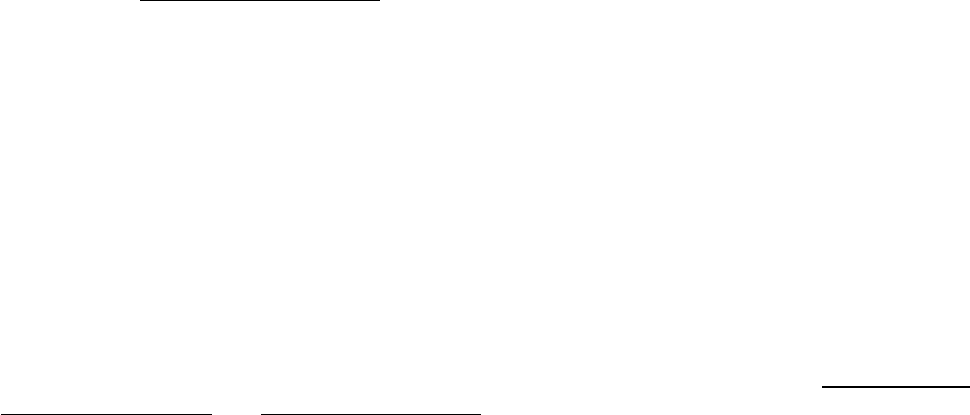
сочиняют стихи и песни о слингоношении, создают кукол-слингомам, рисуют аватары
(значки, обозначающие в Интернете члена форума или сообщества) с изображением
слингомам. Создаются украшения, подходящие маме с ребенком в слинге (слингобусы,
которые можно грызть), украшаются сами слинги. Среди участников движения отметим
несколько прототипов. Слингоколлекционеры коллекционируют слинги, чаще всего шарфы,
имеют их больше, чем необходимо для ношения ребенка, участвуют в аукционах для
покупки редких слингов. Слинго-фотомодели (слингознаменитости) создают «слингостиль»,
подбирая одежду и аксессуары для мамы и ребенка, которые лучше сочетаются со слингом.
Существует индустрия слингоаксессуаров для мамы и ребенка: зеркальце, чтобы
присматривать за ребенком в слинге за спиной, слингобусы, слингоигрушки (чаще
деревянные), рюкзаки и сумки, для ношения со слингом, детские комбинезоны с
удлиненными штанинами, слингокуртки (которые мама с ребенком в слинге надевает на себя
в холодную погоду). Однако наиболее значимым для социализации матери в движении
слингоношения является то, что слингомамы ведут активный образ жизни, много
путешествуют с ребенком, посещают кафе, театры, парки, удаленные от дома. Участники
движения устраивают регулярные встречи, на которых встречаются единомышленники,
можно получить консультацию, подружиться с другими мамами. Движение слингоношения
не только конструирует материнскую роль по линии мать-ребенок, но расширяет круг
потенциального общения матери, позволяет ей восстановить утерянный статус полноценного
члена общества без ущерба для отношений с ребенком. Какими бы разнообразными ни были
бы интернет-коммуникации, живое общение для матери является более востребованным.
Слингоношение позволяет избежать дефицита общения и обеспечивает выбор партнеров по
общению.
По степени свободы и успешной самореализации в сфере общения со слингомамой
сопоставима мама-путешественница, которая много путешествует с ребенком. В пределах
города такая мама передвигается за рулем, для прогулок в парках, торговых центрах
использует слинг, коляску или автокресло на шасси. Она также путешествовует поездом или
самолетом, и малый возраст ребенка рассматривает как преимущество, а не как недостаток.
К примеру, грудной ребенок на взлете и посадке меньше испытывает неудобств, если его
кормить; младенцу не нужна специальная еда; он много спит, что позволяет бывать с
экскурсиями в туристических местах и т.д. В традиционной стратегии постулируется,
напротив, нежелательность дальних поездок для ребенка до 4-5 лет. Степеней свободы, в том
числе передвижения, становится меньше к полутора-двум годам ребенка, когда он уже ест с
общего стола и активно передвигается сам, что для мамы-путешественницы означает
снижение эффективности выбранной стратегии социализации и необходимость более
активного использования других стратегий.
Существуют и другие стратегии социализации матери, менее распространенные,
например, посещение групп встреч для родителей.
Рассмотрим также менее успешные стратегии социализации матери: приобретение
опыта количеством и стратегии избегания. Приобретение опыта количеством может
осуществляться путем работы в системе образования (например, воспитателем в яслях) или
няней (в том числе неоплачиваемой, например для родственников или младших сиблингов),
рождения нескольких детей с маленькой разницей в возрасте. В этом случае деятельность по
уходу за ребенком автоматизируется и деиндивидуализируется; общение ограничивается
детьми, возникает дефицит полноценного общения со взрослыми, утрачиваются
коммуникативные навыки; возможно формирование негативной идентичности матери.
Стратегии избегания предполагают минимизацию роли матери, передачу материнских
функций другому взрослому, погружение в работу. В данном случае материнская
социализация протекает дольше и с большими сложностями, мать может испытывать
чувства вины и стыда. Одновременно как приобретение опыта количеством, так и стратегии
избегания позволяют матери сохранять статус и роли, которые у нее были до беременности,
то есть разрушение привычных форм общения, связей и отношений не происходит или менее
заметно.
Итак, рассмотрены такие стратегии материнской социализации, как традиционная (от
матери, бабушки, других родственников и знакомых), чтение книг, использование Интернет-
ресурсов, членство в узкоспециализированных сообществах и движениях. Анализируя
последнюю стратегию, мы подробнее остановились на движении слингоношения и на образе
мамы-путешественницы. Также обозначены стратегии, которые могут усложнить или
препятствовать материнской социализации – приобретение опыта количеством и избегание.
В заключение отметим, что любая из стратегий социализации матери имеет и
положительные, и отрицательные стороны. В ходе социализации используется несколько
стратегий, а то, какая из них становится основной, определяет сама женщина в ходе освоения
роли матери.
Литература:
1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2004.
2. Белинская Е.П. Человек в изменяющемся мире – социально-психологическая
перспектива. – М., 2005.
3. Винникот Д. Маленькие дети и их матери. – М., 1997.
4. Жукова О.С. Уникальная методика развития ребенка. От рождения до трех лет. – СПб.,
2004.
5. Ледлофф Ж. Как вырастить ребенка счастливым. Принцип преемственности. – М.: 2008.
6. Сирз У., Сирз М. Ваш малыш от рождения до двух лет. – М., 2009.
7. Спок Б. Ребенок и уход за ним. – М., 2008.
8. Щепанская Т. Б. Система: Тексты и традиции субкультуры. М., 2004.
9. Moreland, R. L., Levine, J. M., McMinn, J. G. Self-categorization and workgroup
socialization // M. A. Hogg & D. Terry (Eds.) Social identity processes in organizational
contexts. Philadelphia, PA: Psychology Press, 2001. - pp. 87-100.
Прецедент в первичной семейной социализации
Сапогова Е. Е., г. Тула
Тульский государственный университет
Процессы и механизмы семейной социализации являются одним из традиционных
объектов психологических исследований, но в последние годы, покидая привычные границы
детской психологии, они рассматриваются в более широких контекстах семейной,
социальной, этнической, экзистенциальной психологии, психосемантики и т.д. - поиск
механизмов социокультурной трансмиссии ведётся в точках пересечения, смыкания смыслов
и ценностей индивидуального бытия с жизнью семьи, возрастной когорты, поколения,
социальной и этнической групп и т.д. Накапливающийся, осознаваемый, трансформируемый
и упорядочиваемый для последующей трансляции жизненный опыт становится той
категорией, которая может быть продуктивно использована в объяснении индивидуальных
поступков, стратегий, сценариев, картины мира.
Одним из значимых механизмов семейной социализации, на наш взгляд, может
выступать прецедентность, апеллирующая к важнейшему для сознания и мышления
принципу аналогии. В современном понимании жизнь рассматривается как вероятностно-
возможностный феномен, в котором важная роль отводится активности, осознанности, воле
субъекта, которые, собственно, и делают его «живым». Рождающийся человек вступает в
пространство жизни, которое никакое социальное окружение не может до конца ни
предсказать, ни предусмотреть – это своеобразное «экзистенциальное приключение». Но,
опираясь на социокультурный опыт поколений, окружение, особенно ближайшее, может так
«разметить» обозримое пространство жизни человека, что оно будет казаться знакомым и
понятным ещё до получения опыта реального взаимодействия с конкретными ситуациями,
обстоятельствами, людьми, переживаниями и т.д. В этом состоит одна из важных задач
любой социализации – из поколения в поколение передать информацию, как вести себя, как
понимать, что чувствовать, что делать и т.д. в типичных социальных ситуациях. Поколения,
преследуя цель сохранения и адаптации человечества и накопленного им опыта, работают
друг для друга на «смысловое опережение», конденсируя, обобщая и упорядочивая
значимый в бытийном смысле опыт.
По своей сути феномен прецедентности предполагает использование субъектом единиц
опыта, которые «предшествовали опыту», были усвоены ещё «до опыта» вхождения в
конкретные ситуации, обстоятельства, взаимодействия. Тем самым прецеденты в
социализации образуют своеобразную область предзнания для взрослеющего субъекта,
поскольку содержат комплекс традиций и образцов (концептов, установок, ценностей и пр.)
реагирования и поступания для ситуаций, которые социальное окружение считает
стандартными – то есть обязательно встречающимися на жизненном пути каждого человека,
но одновременно и такими, где его поведение может быть вариативным, отклоняющимся от
правильного, надёжного, с точки зрения социума. Благодаря такому опережающему знанию,
ещё даже и не встречаясь в индивидуальном опыте с конкретными событиями, на которые
указывает прецедент, человек уже «готов» к тому, как действовать, как думать, как
чувствовать.
Прецедентность – достаточно универсальное явление, как в регуляции поведения
ребёнка, так и в становлении индивидуального сознания, в последующем самоосозании,
отыскании смыслов, планировании жизни и т.д. Нас прецеденты интересует именно в
экзистенциальном плане как совокупность имплицитных жизненных ориентиров, используя
которые человек выстроит свой индивидуальный «способ жить», жизненный стиль,
экзистенциальную манеру, бытийную стратегию.
Для того, чтобы обрести статус прецедентного, определённый опыт должен
удовлетворять многим условиям. В частности, он должен быть: 1) значимым для личности
и/или группы в познавательном и эмоциональном отношениях, 2) касаться существенных,
«горячих», неминуемых точек человеческого бытия и коммуникации, 3) быть «проверенным
временем», то есть подтверждённым в своей адекватности и целесообразности опытом
предшествующих жизней представителей ряда поколений, 4) быть амплифицированным и
универсализированным в смысловом отношении. В такой форме опыт попадает в тексты, в
повседневные дискурсивные практики, в массовую литературу, а уже из этих источников
после специального отбора единиц для обязательной передачи молодым поколениям он
транслируется в сознание. Фиксация в тексте и сознании способствует превращению опыта
в прецедент, закреплению его в качестве культурного знака, выполняющего
специализированную прагматическую функцию регуляции отношений конкретного субъекта
с социумом, с неявно существующей социальной нормой, желательной ценностью,
отсутствующим здесь-и-теперь контролем (скрытыми феноменами этнокультуры).
Совокупность прецедентов строит основу социокультурного кодирования поведения, а
овладение смыслами, стоящими за прецедентными феноменами, имеет отношение к
будущему пониманию реальности и своего места в ней, к построению взаимодействий в
системе «Я и Мир».
Обходя в настоящей работе сложное и дискуссионное проблемное поле – в какой мере
социализация является благом или ограничителем для свободы, для самостоятельного
выбора форм проживания своей жизни субъекта; какие прецеденты должны быть отобраны и
транслированы; с какой степенью жёсткости это необходимо делать; с какой регулярностью
прецеденты должны обновляться и т.п. – отметим, что выбор прецедентов во многом связан
со смысловой сферой и ответственностью тех, кто стоит у колыбели становящегося
сознания. Вполне очевидно, что семья, являясь ближайшим и ранним социальным
окружением ребёнка, имеет здесь значительное преимущество перед другими социальными
институтами. Имея «доступ» к ребёнку уже с начальных периодов жизни, родители и
прародители привносят в становящееся сознание многочисленные прецеденты ещё до того,
как они могут быть критически осознаны, одобрены или отвергнуты им. Момент осознания
наступает тогда, когда некоторые традиции, стереотипы, установки и пр. уже наличествуют в
сознании – субъект их обнаруживает как некую априорную данность в себе и часто застаёт
себя уже руководствующимся ими, действующим по ним.
Семья для любого ребенка выступает коллективным носителем макро- и
микросоциокультурных традиций, создающим собственное микросоциальное пространство,
своеобразный социальный микрокосм. Результатом его функционирования становится
феномен семейного (микрогруппового) самосознания, фиксированного в семейной
«культурной концепции». Являясь коллективным носителем внутрисемейной «версии
бытия», взрослые члены семьи выполняют для ребёнка, среди прочих, семиотическую
функцию, ориентируя его на усвоение прецедентных концептов, проверенных и/или по
разным причинам удержанных в опыте конкретной семьи.
Суть прецедентности в первичной социализации можно очертить, как минимум,
следующими характеристиками.
1. Прецеденты первичны по отношению к обретаемому ребёнком новому опыту,
образуя своеобразный пласт предзнания; они появляются в его опыте как предшественники,
спутники и «ключи» для понимания последующих текстов, событий, ситуаций. Ребёнок
часто относится к усвоенным прецедентным концептам без особого обдумывания и критики
и, как любую символику, «впитывает» их на бессознательном уровне, поскольку они
поступили от тех, к кому он питает безусловное доверие, и не затрудняет себя (да ещё и не
может этого сделать) анализом их достоверности или целесообразности даже в тех случаях,
когда они входят в известное противоречие с собственным опытом.
2. Прецеденты, поскольку в первую очередь апеллируют к переживаниям и со-
переживаниям, естественно понятны ребёнку и как бы не требуют дополнительного
объяснения, каких-то специальных аргументов, доказывающих их истинность,
необходимость и целесообразность. Стоит добавить, что прецеденты часто отражены в
паремиях (пословицах, поговорках, присказках и пр.), с которыми ребёнка знакомят на всех
образовательных и воспитательных ступенях.
3. Прецеденты всегда предстают как актуально коллективные феномены и тем самым
приобщают ребёнка ко «всем/своим», как бы инвестируя социальное доверие в дальнейшие
поступки, выборы и способы действия ребёнка, основанные на прецедентных программах.
4. Прецеденты несут в себе объективную содержательную неполноту, оставляющую
зазор для понимания и интерпретации, они часто сжаты до семантически маркированных
элементов коммуникации, и за счёт этой своей клишированности легко внедряются в
сознание и прочно удерживаются в нём. Кроме того, любой прецедент, получая прописку в
сознании, может надолго утратить «модус развития», часто предельно обобщается,
становится «неприкасаемым», но если получает опытное подтверждение, то когнитивно и
эмоционально амплифицируется. Стоит добавить, что содержание некоторых из усвоенных
прецедентов может трансформироваться и в адлерианские «фикционные идеи».
5. Прецеденты выступают как эмоциональный и когнитивный фон любого жизненного
выбора, каким бы элементарным он не был, создают субъекту ощущение «верного пути»,
переживание истинности, подлинности жизни. Тем самым они выступают естественными
ограничителями его свободного самовыражения, определяют индивидуальные «границы
дозволенного» и, в какой-то мере, задают направление жизни. Безусловно, впоследствии
часть усвоенных в первичной социализации прецедентов может быть отброшена личностью,
но большинство продолжают сохраняться как эмоционально- когнитивная матрица,
облегчающая, среди прочего, и созидание собственной идентичности, построение своего
жизненного плана. Поначалу же, не имея в запасе почти никакого жизненного опыта,
ребёнок строит на основе прецедентов внутреннюю логику своего поведения, которая
кажется ему обоснованной и правильной, формирует первичные жизненные сценарии и
стратегии.
Говоря о прецедентности как о феномене семейной социализации, мы предлагаем
различать прецедентные тексты, прецедентные события (ситуации), прецедентные поступки
(хотя в широком смысле последние две категории также могут быть отнесены к текстам).
Прецедентные тексты, в качестве которых выступают сказки, рассказанные ребёнку с
разными целями семейные и иные житейские истории «про жизнь», литературные
произведения, содержат множество прототипических конструкций, своеобразных
ценностных опор-ориентиров для распознания своих особенностей, для выделения системы
ценностных ориентиров, для выбора поведенческих моделей и жизненных сценариев, для
построения образа другого и мира в целом в сознании и т.д. Тексты такого типа «оседают» и
многократно транслируются в культуре именно как обобщенные и уже реализованные
тысячами жизней поведенческие стратегии, как социокультурные программы, проверенные
временем. Их цель - прецедентно сформировать у каждого представителя определённой
культуры первичную систему отношений к окружающему миру, различным сторонам
действительности (как правило, «сильным» точкам человеческого бытия), другим людям и
т.п. (например, жизнь-смерть, брак-семья/дети, деньги, Родина, труд, еда, путь-дорога, дом,
Бог, добро-зло, богатство-бедность, счастье-горе и т.д.), выстраивая обобщённый
идеализированный, поливариантный «проект» развития личности и модель социально
одобренной (типичной, базовой) судьбы представителя определённой культуры.
Прецедентные тексты выступают в качестве мощного семиотического ресурса
социализации. Мы предлагаем относить к ним:
1) «классические» тексты, получившие в течение длительного времени максимально
широкое хождение в этнокультуре, к которой принадлежит субъект, и «устоявшиеся» в ней
(сказки и фольклор, наставительные и религиозные тексты, классические произведения
литературы и т.п.); за счёт интертекстуальности соответствующие прототипы и значимые
смысловые константы многократно воспроизводятся и удерживаются в культурной памяти
определённой социальной, этнической и др. групп;
2) тексты, составившие такой же широкий «репертуар» для определённого этапа
культурно-исторического развития социума и определённых экономических и
идеологических условий;
3) тексты, имеющие внутреннее хождение в возрастных, семейных, профессиональных
и иных субкультурах на определённом этапе развития социума и несущие в себе
необходимые (в том числе и в качестве защитных механизмов) идентификационные образцы
и поведенческие стратегемы; они, как правило, − продукт семейной или иной
микрокультурной социализации (школьной, дворовой, профессиональной и т. п.), в
известном смысле противостоящей воздействиям «канонов» системы образования и
пропаганды;
4) тексты, не являющиеся ни частотными, ни пропагандируемыми, но персонально
отобранные человеком для самого себя в качестве внутренних образцов на том основании,
что, с его точки зрения, они содержат крупицы опыта «о таких же, как он», «говорят нечто о
нём», «выражают/озвучивают его собственные смыслы», объективируют его переживания,
способны определить его цели и т.п. и, безусловно, эмоционально отзывающиеся в нём,
имеющие отклик личностных смыслов; их можно считать продуктами персонального
культурного социогенеза, поэтому сложность данных текстов, их уникальность и
разнообразие увеличиваются многократно и не всегда поддаются описанию.
Но прежде чем человек сможет самостяотельно отбирать для себя тексты, он впитывает
в первичной семейной социализации огромное количество прецедентных концептов. В
дальнейшем будет осуществляться процесс когнитивного наложения системы усвоенных
культурных прототипов, моделей и нарративных форм на рефлексируемую цепочку
индивидуальных жизненных случаев.
Прецедентные события, будучи пересказанными ребёнку в назидательных,
просветительских и др. целях, тоже нарратизируются, становятся текстами. Здесь мы
выделяем их в отдельную категорию с целью подчеркнуть те из них, непосредственным
участником которых ребёнок являлся сам. В этом плане прецедентные события – это
значимые случаи и ситуации, закрепившиеся в опыте семьи как оправдавшие себя решения
определённых жизненных задач, найденные способы реагирования в новых обстоятельствах,
извлечённые жизненные «уроки» и пр. Эти события могут быть значимыми для семьи
(счастливое рождение, удачная женитьба, хорошая профессия, выгодная должность и пр.), но
ещё не знакомыми, первыми в «свидетельском» опыте ребёнка, но также и
экстраординарными (эмиграция, банкротство, переезд, наступившее процветание, спасение и
т.п.).
Закрепляя опыт их переживания в сознании, человек обретает своеобразные
«событийные ожидания» или «экзистенциальную готовность» к их наступлению и в его
жизни. Эта готовность есть состояние когнитивного и эмоционального напряжения,
своеобразного ожидания ситуаций, которые будто бы «должны» свершиться в жизни.
Человек заранее формирует отношение к этим будущим происшествиям как к событиям
планируемой жизни и становится избыточно внимателен к тем зонам повседневности, в
которых вероятно их появление.
Можно также предположить, что прецедентные события тесно связаны с основными
человеческими экзистенциалами (смыслом жизни, любовью, трудом, страданием, верой,
долгом и т.д.) и впоследствии определят глобальные смысловые «формулы жизни»,
соединённые вместе представления об универсальном принципе причинности (включая
связь между усилием и его результатом), о высшей цели человеческой жизни (о наилучшем
возможном результате) и о пути её достижения (жизненная программа).
Прецедентные поступки – это действия, совершённые самим ребёнком «до» усвоения
соответствующих концептов и впоследствии получившие ту или иную интерпретацию и
оценку со стороны семейного окружения. Ребёнок, столкнувшийся с новыми для него
жизненными обстоятельствами в отсутствии взрослого контроля и не обнаруживший в опыте
образцов действования, формирует свой, относящийся к данному случаю, опыт
действования, и он впоследствии также может исполнять функцию прецедента.
Основу любого прецедента, как нам кажется, составляет концепт (или комплекс
концептов). Концепт как единица ментальности субъекта представляет собой совокупность
значений и смыслов, приписываемых событию или вещи сознанием конкретного человека на
основе его собственного опыта. Известные человеку значения вещей, понятия
индивидуально преломляются в концептах и образуют персональную концептосферу
(семиосферу), которая становится функциональной базой индивидуального и социального
поведения, решения повседневных задач. Прецеденты играют для сознания развивающегося
субъекта роль своеобразных «трансперсональных доминант», обрастающих вариантами.
