Тузов Д.О. Теория недействительности сделок. Опыт российского права в контексте европейской правовой традиции
Подождите немного. Документ загружается.

Сходный подход к решению вопроса о соотношении реституции владения и
виндикации можно видеть и в цитированном заключении НКС ФАС СЗО.
Виндикационный иск, говорится в нем, применяется в случае, когда вещь находится
непосредственно у лица, завладевшего ею путем противозаконных действий помимо воли
собственника (титульного владельца), или у лица, к которому вещь поступила вследствие
последующего ее отчуждения. Когда же вещь выбыла из владения собственника
(титульного владельца) по недействительной сделке, для ее возврата, по мнению авторов
заключения, должен применяться иск "из недействительности сделки", независимо от
того, сохранилось ли у другой стороны спорное имущество. Если вещь сохранилась в
натуре, интересы собственника (титульного владельца) будут защищены на основании п. 2
ст. 167 ГК путем возврата вещи его контрагентом; если не сохранилась - путем
возмещения ее стоимости. Таким образом, для отграничения реституции владения от
виндикации здесь также использован критерий воли: если лицо само передало вещь по
недействительной сделке (т.е. утратило ее по собственной воле), то для истребования этой
вещи применяется реституция, если же оно лишилось владения вопреки своему желанию,
например потеряло вещь или последняя была похищена, имущество подлежит возврату
путем виндикационного иска. И только при условии, что имущество выбыло из владения
собственника или иного титульного владельца в результате недействительной сделки с
пороком воли, в которой собственник (титульный владелец) является потерпевшей
стороной, а затем было приобретено третьим лицом, истец, как указано в заключении,
может обратиться или с иском "из недействительности сделки" к своему контрагенту, или
с виндикационным иском к приобретателю вещи.
Представленное решение вопроса, хотя и отличается строгостью и внутренней
непротиворечивостью, не может быть признано правильным. Общее положение о
виндикации, содержащееся в ст. 301 ГК, является простым и четким: "Собственник вправе
истребовать свое имущество из чужого незаконного владения". Точка. Оно не говорит о
том, как должно возникнуть незаконное владение, но лишь указывает на факт его
незаконности. Способ выбытия вещи из обладания собственника - будь то самоуправство,
случайное нахождение вещи в чужом имуществе или ее добровольная передача по
недействительной сделке - сам по себе не имеет никакого значения для виндикационного
иска <316>. Поэтому, чтобы признать правомерным предложенное разграничение
реституции владения и виндикации, основанное на волевом критерии, необходимо было
бы прежде всего доказать, что владение, основанное на недействительной сделке, не
является владением незаконным. Иными словами, нужно было бы доказать, что такое
владение имеет какое-то правовое основание, которое исключало бы его незаконность и,
как следствие, применение виндикации.
--------------------------------
<316> Он имеет значение: а) лишь при последующем отчуждении имущества
неуправомоченным лицом и б) лишь в совокупности с иными элементами сложного
фактического состава, предусмотренного ст. 302 ГК, при наличии которых от факта
добровольного выбытия имущества из владения собственника и лица, которому оно было
вверено собственником, зависит ограничение виндикации и возникновение у
приобретателя права собственности, о чем более подробно см. ниже, § 49. Но в этом
случае, строго говоря, речь уже и не идет о незаконном владении, а следовательно, и о
наличии материального виндикационного притязания, предусмотренного ст. 301 ГК.
Впрочем, независимо от того, рассматривается ли добросовестный приобретатель, у
которого вещь не может быть виндицирована, как собственник или нет, это не колеблет
тезиса об индифферентности самого по себе способа выбытия имущества из обладания
собственника для виндикационного иска.
Известно, однако, что незаконное владение - это фактическое обладание вещью без
какого-либо титула, правового основания. Недействительная сделка, очевидно, не может
быть титулом владения, поскольку не имеет юридической силы <317>. Поэтому нельзя
согласиться с цитированным выше суждением Д.М. Генкина о том, что в данном случае
"имущество перешло в силу сделки", равно как и со сделанным им на этом основании
выводом о том, что реституция является "своеобразным институтом и вытекает из
договорной ответственности" <318>. Реституция владения, так же как и виндикация,
представляет собой типичную меру защиты, и никак не связана с ответственностью, тем
более договорной, так как сам договор недействителен.
--------------------------------
<317> Г.Н. Амфитеатров, говоря о видах незаконного владения, различал "владение,
правовое основание которого порочно (например, владение, установленное в результате
недействительной сделки)", и владение, не имеющее вообще никакого основания
(Амфитеатров Г.Н. Иски собственников о возврате принадлежащего им имущества. М.:
Юриздат, 1945. С. 6). Однако эти "оттенки" незаконного владения не влияют на его
квалификацию как незаконного: в обоих случаях правовое основание (титул) владения
просто отсутствует.
<318> Генкин Д.М. Право собственности в СССР. С. 194.
Невозможно согласиться с Д.М. Генкиным и в том, что "требование реституции
вытекает из недействительности сделки, а не из субъективного права собственности, как
это имеет место при виндикации" <319>. Следует подчеркнуть, что из недействительности
сделки как таковой еще ничего не "вытекает". Реституционное притязание появляется
лишь в тот момент, когда по сделке производится предоставление, т.е. происходит
неосновательное перемещение материальных благ, которое и выступает основанием
возникновения права на реституцию. Что же касается субъективного права собственности,
то оно является не основанием, а объектом защиты, причем как виндикационного, так в
равной мере и реституционного правопритязания.
--------------------------------
<319> Там же. С. 193, 202.
Данное обстоятельство следует учитывать и при определении предмета доказывания
по соответствующему иску. Уже отмечалось, что реституция владения, как и виндикация,
предполагает - за исключением упомянутых выше случаев, когда объектом защиты
выступает не право, а интерес в спокойном владении - наличие прав стороны
недействительной сделки на истребуемое в ее пользу имущество. Иногда, однако,
полагают, что в случае предъявления виндикационного иска не нужно решать вопрос о
действительности или недействительности той сделки, на которой ответчик основывает
свое владение. Поскольку виндикационный иск носит вещный характер, писал Г.Н.
Амфитеатров, "истец должен доказать здесь не то, что чужое владение незаконно, а то,
что он - собственник, т.е. что утраченное им владение правомерно. Входить же в оценку
той сделки, в результате которой спорная вещь оказалась в чужом владении, он не обязан.
Сообразно этому ответчик должен доказать здесь не то, законна ли сделка... а то, является
ли он добросовестным приобретателем..." <320>.
--------------------------------
<320> Амфитеатров Г.Н. Иски собственников о возврате принадлежащего им
имущества. С. 11.
Вряд ли эти выводы соответствуют истинному положению дел. В виндикационном
процессе истец должен доказать свое право собственности не только в прошлом, но и в
настоящем <321>. Поэтому если ответчик по виндикационному иску ссылается в
обоснование законности своего владения на сделку, по которой это владение было им
получено, виндиканту неминуемо придется доказывать недействительность такой сделки,
точно так же, как и в процессе о реституции. С другой стороны, если сделка, на основании
которой вещь находится у ответчика, действительна, последнему, вопреки мнению Г.Н.
Амфитеатрова, вовсе незачем ссылаться на свою добросовестность, ибо его владение
имеет законное основание - действительную сделку.
--------------------------------
<321> См.: Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права
собственности в СССР. С. 109.
Иск о реституции точно так же, как и виндикационный, направлен на истребование
имущества из чужого незаконного владения. Особенность состоит лишь в том, что само
незаконное владение возникает здесь вследствие предоставления по недействительной
сделке. Иными словами, если ответчик, возражая против иска, ссылается на то, что он
получил имущество от истца по сделке, недействительность последней войдет в предмет
доказывания в качестве своеобразного "отрицательного" факта, обосновывающего
сохранение за истцом права собственности или иного права на вещь, несмотря на
отчуждение ее ответчику <322>.
--------------------------------
<322> Разумеется, если речь идет об оспоримой сделке, то доказать ее
недействительность возможно лишь при условии, что эта сделка оспорена и аннулирована
судом.
3. Итак, владение, полученное по недействительной сделке, есть лишь один из
случаев незаконного (беститульного) владения, а основание иска, как по ст. 167, так и по
ст. 301 ГК, состоит в возникновении этого владения у ответчика. Вместе с тем, как уже
было установлено, реституционное правоотношение является правоотношением
обязательственным, виндикационный же иск со времен римского права традиционно
классифицируется как вещный (actio in rem), поскольку может быть направлен против
всякого, у кого без законных оснований находится вещь. В этом абсолютном характере
виндикации также усматривают ее коренное отличие от реституции владения <323>.
"...Требование из реституции <324>, - пишет, например, К.И. Скловский, - не имеет
вещного характера, оно строго личное, относительное, т.е. относится только к сторонам
недействительной сделки..." <325>.
--------------------------------
<323> См., напр.: Халфина Р.О. Право личной собственности граждан в СССР. С.
178 и сл.; Скловский К. Защита владения при признании договора недействительным. С.
38; Ровный В.В. Эвикция: проблемы конкуренции исков и права собственности //
Правоведение. 2000. N 5. С. 129 и сл.; Игнатенко В.Н. Реализация обязательств из
неосновательного обогащения // Правоведение. 2001. N 2. С. 92; Моргунов С. Указ. соч. С.
44.
<324> Так автор, очевидно, обозначает требование о реституции. Это выражение
некорректно, ибо из реституции никакого требования возникнуть не может: она является
предметом требования, а не его основанием. Это все равно что сказать: "требование из
возмещения вреда", "требование из виндикации", "требование из исполнения договора" и
т.п.
<325> Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. С. 105.
В заблуждение здесь, видимо, вводит двусмысленность термина "вещный иск",
вследствие чего многими эта категория считается несовместимой с конструкцией
обязательства. Не следует, однако, смешивать объект вещной защиты (вещное абсолютное
право), от которого, собственно, и получил название вещный иск, со средством такой
защиты (обязательственным правом). Право на виндикацию не может рассматриваться как
абсолютное, обращенное против неопределенного круга лиц. Абсолютным является само
право собственности, поскольку корреспондирует с пассивной обязанностью всех и
каждого воздерживаться от его нарушения и потенциально охраняется от посягательств со
стороны любого лица. Виндикационное же правоотношение, возникая лишь в момент
нарушения права, противостоит обязанности строго определенного субъекта -
незаконного владельца. Это правоотношение обладает всеми признаками обязательства:
оно относительно, поскольку в каждый конкретный момент истребуемая вещь может
находиться только у одного обязанного лица, а не у "всех и каждого"; в его содержании на
первый план выступает обязанность незаконного владельца совершить положительное
действие - выдать вещь <326>, а интерес лица управомоченного не может быть
удовлетворен его собственными действиями; ему предоставлено лишь право требовать
выдачи вещи <327>. В рамках виндикационного правоотношения реализуется
охранительное право требования - притязание, а любое притязание, как известно, может
быть только относительным <328>.
--------------------------------
<326> Парадоксально в связи с этим утверждение С. Моргунова, согласно которому
при виндикации с правом собственника "не корреспондирует обязанность незаконного
владельца по возврату имущества прежнему собственнику, ибо такой нормы закон не
содержит" (Моргунов С. Указ. соч. С. 43). В равной мере странно и то, что автор называет
собственника, виндицирующего свою вещь, "прежним собственником".
<327> См.: Крашенинников Е.А. К теории права на иск. Ярославль, 1995. С. 31; Он
же. К вопросу о виндикационных обязательствах // Развитие национальной
государственности союзной республики на современном этапе. Киев, 1990. С. 154 и сл.;
Михайлич А.М. Указ. соч. С. 8 и сл. Конечно, если вообще право на защиту рассматривать
в качестве одного из элементов субъективного права, одной из его функций, или же как
само нарушенное субъективное право, но в особом, динамическом, "боевом" состоянии
(см., напр.: Виндшейд. Учебник пандектного права. Т. 1: Общая часть. СПб., 1874. С. 91:
"Притязание не есть особый вид права, а лишь одна из функций права"; Агарков М.М.
Указ. соч. С. 25 и сл.; Гурвич М.А. Право на иск. М.; Л., 1949. С. 138 - 145; Генкин Д.М.
Право собственности в СССР. С. 192), то и виндикационное притязание следовало бы
признать элементом (функцией, состоянием) самого права собственности, а значит,
отнести к сфере абсолютных, вещных правоотношений. Правильной, однако,
представляется другая точка зрения, согласно которой право на защиту есть
самостоятельное субъективное право (притязание), возникающее в момент
правонарушения и реализуемое в рамках особого относительного правоотношения -
охранительного обязательства (см., напр.: Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб.:
Лань, 1998. С. 191; Осокина Г.Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве (право на
иск). Томск, 1990. С. 25 - 44; Крашенинников Е.А. К теории права на иск. С. 19 - 36;
Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 3-е изд., перераб. и
доп. Ч. 1. М.: Проспект, 1998. С. 281 [автор главы - А.П. Сергеев]). Интересно отметить,
что даже авторы, отрицающие обязательственную природу виндикационного притязания,
вынуждены тем не менее признать его сходство с обязательственным правом требования
и даже предлагают применять к нему по аналогии нормы обязательственного права (см.,
напр.: Виндшейд. Указ. соч. С. 93 и сл.; Агарков М.М. Указ. соч. С. 25 и сл.; Черепахин
Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Учен. зап. Свердловского юридического
института. Т. 1. Свердловск, 1945. С. 50, 66).
<328> Пытаясь оспорить данное положение, К.И. Скловский упоминает о некоем
абсолютном, вещном притязании (см.: Скловский К. Некоторые проблемы реституции. С.
108, сн. 1; 117), однако введение в оборот подобной категории требует теоретического
обоснования, которого автор, к сожалению, не дает. Успех такого обоснования, равно как
и вообще научной дискуссии, зависит, помимо прочего, и от аккуратности в цитировании
сторонников противоположной точки зрения. Так, применительно к рассматриваемому
вопросу автор оспаривает не тот тезис, который был выдвинут мной в действительности: о
том, что виндикационное притязание ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ (см.:
Тузов Д.О. Реституция и виндикация: проблемы соотношения // Вестник ВАС РФ. 2002. N
3. С. 123 и сл.), а собственную, весьма вольную его интерпретацию: "Вещно-правовой
характер виндикационного иска, - пишет Скловский, - не исчезает, конечно, оттого, что он
направляется против известного лица - владельца, как это представляется Д. Тузову,
который настаивает на том, что ВИНДИКАЦИОННОЕ ПРИТЯЗАНИЕ СТАНОВИТСЯ ИЗ
АБСОЛЮТНОГО ОТНОСИТЕЛЬНЫМ..." (выделено мной. - Д.Т.) (Там же. С. 108, сн. 1).
Будучи обязательственным, виндикационное притязание имеет, однако, ту
особенность, что всецело зависит от судьбы охраняемого им вещного права и той вещи,
которая выступает объектом последнего. Поэтому, если вещь погибает, выбывает из
владения ответчика или существенно видоизменяется либо истец утрачивает право на нее,
виндикация становится невозможной. Однако, как уже было показано, невозможно
согласиться с мнением, будто бы, в отличие от виндикационного притязания, требование
о реституции не исчезает при утрате вещи, а "просто преобразуется в требование о
денежной компенсации" <329>. Требование о компенсации (компенсационной
реституции), анализ которого предстоит ниже, является иным, самостоятельным
притязанием, существенно отличным от требования о возврате переданной по
недействительной сделке и сохранившейся в натуре вещи.
--------------------------------
<329> Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. С. 105.
Итак, виндикационное притязание является строго личным (в смысле
относительным), как и вообще всякое право требования. Другое дело, что оно как бы
"следует" за вещью, т.е. пассивно легитимирует любого ее незаконного владельца: Ubi
rem meam invenio, ibi vindico ("Где мою вещь нахожу, там (ее) виндицирую"). Но
требование о реституции именно потому и обращено к другой стороне сделки, что
истребуемая вещь в данный момент находится у нее. Если же вещь выбывает из ее
незаконного владения и переходит к другому лицу, вещный иск направляется уже против
нового владельца <330>. Таким образом, реституция владения не имеет специфики,
достаточной для ее отграничения от виндикации. Выделяясь лишь особым субъектным
составом (субъектами реституционного правоотношения являются стороны
недействительной сделки), она по своей природе представляет не что иное, как частный
случай применения виндикации, обусловленный нахождением вещи у другой стороны.
--------------------------------
<330> При обозначении такого иска в российском праве не принято использовать
термин "реституция", в отличие, например, от римского права (см., напр.: Ulp. 16 ad ed., D.
6, 1, 9: restituere rem).
Вывод о виндикационной природе обратного истребования переданной по
недействительной сделке и сохранившейся в натуре вещи не является абсолютно новым.
Это положение выдвигалось и ранее такими, например, цивилистами, как Е.А. Флейшиц
<331>, Ю.К. Толстой <332>, Н.В. Рабинович <333>, и не так давно было воспроизведено
также в учебнике гражданского права МГУ <334>. Однако в связи со все большей
вульгаризацией представлений о реституции в советской и особенно постсоветской
цивилистической доктрине, один из представителей которой, не приведя против данного
взгляда ни одного веского аргумента, охарактеризовал его как "наиболее примитивные и
отсталые юридические представления" <335>, потребовалось вновь вернуться к этому
вопросу и еще раз, возможно слишком подробно, обосновать изложенную выше
концепцию реституции владения.
--------------------------------
<331> См.: Флейшиц Е.А. Указ. соч. С. 219 и сл.
<332> См.: Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права
собственности в СССР. С. 114 и сл.
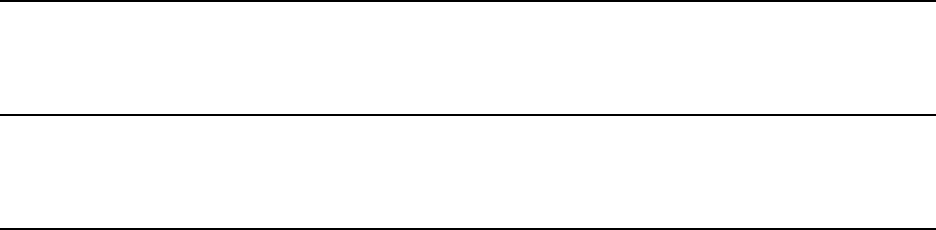
<333> См.: Рабинович Н.В. Указ. соч. С. 114 - 117, 120, 128, 134, 152.
КонсультантПлюс: примечание.
Учебник "Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 2" (под ред. Е.А. Суханова)
включен в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2005 (издание
второе, переработанное и дополненное).
КонсультантПлюс: примечание.
Учебник "Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть" (под ред. Е.А. Суханова)
включен в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2008 (издание
третье, переработанное и дополненное).
<334> См.: Гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд. Т. II. Полутом 2. М.,
2000. С. 459 (автор главы - В.С. Ем): "...Возможны варианты, при которых одной стороне
в качестве неосновательно приобретенного по недействительной сделке должны быть
возвращены вещи, определяемые родовыми признаками, деньги, имущественные права, а
другой стороне - индивидуально-определенные вещи. В подобных случаях
ИСТРЕБОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВЕЩИ ПОДЧИНЯЕТСЯ
НОРМАМ О ВИНДИКАЦИИ" (выделено мной. - Д.Т.). Однако в другом томе нового
издания этого же учебника тот же автор утверждает прямо противоположное: "При
осуществлении права требования возврата индивидуально-определенной вещи и
исполнении одноименной обязанности субъекты недействительной сделки должны
руководствоваться непосредственно нормой п. 2 ст. 167 ГК" (Гражданское право / Отв.
ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. Т. I. М., 2004. С. 510). Критикуя далее отстаиваемую мной
позицию о виндикационном характере реституции владения, В.С. Ем добавляет: "В
результате этого необоснованно смешиваются сферы действия вещных и
обязательственных исков и появляется возможность "конкуренции исков", несвойственная
российскому и в целом континентальному праву" (Там же, сн. 1). Подобный вывод не
согласуется со всем сказанным выше, а также с изложенным мной в другой работе, на
которую ссылается автор (Тузов Д.О. Реституция и реституционные правоотношения в
гражданском праве России. С. 232 - 245), о природе виндикационного притязания и о
соотношении виндикации и реституции владения. Ибо если между ними констатируется
тождество, то о какой конкуренции исков может идти речь? Вспомним также о том, как
решается вопрос о возврате сохранившихся в натуре вещей, переданных по
недействительным сделкам, в зарубежном, в том числе континентальном, праве (см.
выше, § 42), которому, как справедливо указывает В.С. Ем, конкуренция исков "не
свойственна", но которому так же чуждо представление о реституции, как каком-то
особом средстве для возврата сторонам недействительной сделки сделанных ими
предоставлений.
<335> Скловский К. Некоторые проблемы реституции. С. 110.
§ 47. Компенсационная реституция
Выяснив природу реституционного обязательства, направленного на истребование
индивидуально-определенной вещи (реституция владения), обратимся ко второй
разновидности реституции - компенсационной, состоящей в возмещении стоимости
полученного по недействительной сделке в деньгах <336>.
--------------------------------
<336> Строго говоря, компенсационная реституция может выражаться в двух
формах: денежной и натуральной. Последняя имеет место в тех случаях, когда
передаваемое по недействительной сделке имущество смешивается с однородным
имуществом получателя, утрачивая свои индивидуальные признаки (например, купленное
зерно ссыпается в хранилище приобретателя в емкость с аналогичным зерном). Однако
каким иском возможно истребовать однородное имущество из общей массы? В доктрине
этот вопрос спорен, и ответ на него зависит от того, рассматривать ли смешение
однородных вещей, происшедшее вследствие передачи имущества по недействительной
сделке, в качестве основания возникновения права собственности на всю однородную
массу только у приобретателя (см., напр.: Рясенцев В.А. Обязательства из так называемого
неосновательного обогащения в советском гражданском праве. С. 89; Толстой Ю.К.
Обязательства из неосновательного приобретения или сбережения имущества
(юридическая природа и сфера действия) // Вестник ЛГУ. 1973. N 5. Экономика,
философия, право. Вып. 1. С. 136 и сл.) или же в качестве основания возникновения на нее
права общей собственности приобретателя и отчуждателя (эту позицию принял BGB (§
947, 948), а вслед за ним и проект русского Гражданского уложения: Гражданское
уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению
Гражданского уложения. (С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной
комиссии.) / Под ред. И.М. Тютрюмова; составил А.Л. Саатчиан. Том первый. СПб., 1910.
С. 702 (ст. 849 и объяснения к ней). В постреволюционной литературе см., напр.: Генкин
Д.М. Право собственности в СССР. С. 132). При последнем решении, которое как по
существу, так и по соображениям формального порядка (отсутствие в российском
законодательстве таких оснований возникновения индивидуальной собственности, как
смешение и приращение, или соединение) представляется более верным, истребование
однородного имущества в натуре должно производиться путем предъявления иска о
выделе доли из общей собственности (см.: Тузов Д.О. Реституция в гражданском праве:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 1999. С. 17). Однако ввиду дискуссионности
данного вопроса, окончательное решение которого потребовало бы специального
исследования (уже начатого мной; см.: Тузов Д.О. Реституция в гражданском праве:
Дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 1999. С. 123 и сл.), ограничусь здесь лишь этой краткой
оговоркой.
Такое обязательство, денежное по своему предмету, возникает прежде всего тогда,
когда переданная по недействительной сделке вещь не сохранилась у получателя либо
предоставление выразилось не в передаче вещи, а в выполнении работ или оказании
услуг. Заметим, что в п. 2 ст. 167 ГК обязанность по возмещению стоимости полученного
в деньгах при невозможности его возврата в натуре внешне сформулирована как
безусловная, не зависящая от вины стороны недействительной сделки или каких-либо
иных обстоятельств. Это также зачастую служит основанием для объявления реституции
самостоятельным охранительным средством, стоящим вне системы классических
гражданско-правовых способов защиты. На практике такое толкование может приводить к
применению компенсационной реституции без учета фундаментальных цивилистических
принципов, определяющих бремя несения риска случайной гибели или повреждения
имущества, устанавливающих основания и условия гражданско-правовой ответственности
и др. <337>. Но является ли обязанность компенсировать стоимость полученного в
деньгах действительно безусловной?
--------------------------------
<337> Ср.: Тузов Д.О. Реституция в гражданском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Томск, 1999. С. 16: "Если исходить из буквального смысла п. 2 ст. 167 ГК,
устанавливающего, что при невозможности возврата полученного по недействительной
сделке в натуре возмещению подлежит его стоимость в деньгах, компенсационная
реституция предстает как безусловная обязанность получателя возместить другой стороне
недействительной сделки реальный ущерб, вызванный невозможностью возврата
полученного, независимо от того, в результате чьих действий и по чьей вине наступила
эта невозможность. Но такое понимание реституции противоречит основным началам
гражданского права, игнорирует правила о бремени несения риска случайной гибели вещи
(ст. 211 ГК) и об ответственности за невозможность исполнения обязательства (п. 1 ст.
416 ГК), а потому, конечно же, неприемлемо. Совершенно ясно, что п. 2 ст. 167 ГК не
может применяться изолированно, вне связи с другими нормами". Этот фрагмент
практически дословно, но без какой-либо ссылки на источник заимствования
воспроизводит в своей докторской диссертации Ю.П. Егоров (см.: Егоров Ю.П. Правовой
режим сделок как средств индивидуального гражданско-правового регулирования:
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 43; Он же. Правовой режим
сделок как средств индивидуального регулирования. Новосибирск: Наука, 2004. С. 311 и
сл.). Подобные факты, все чаще встречающиеся в нашей цивилистической литературе, не
могут не тревожить.
Думается, что нет. Наличие этой обязанности не вызывает сомнений в тех случаях,
когда невозможность натуральной реституции сопряжена с возникновением на стороне
получателя имущественной выгоды, состоящей либо в неосновательном получении
имущества (если, например, вещь, подлежащая возврату, возмездно отчуждена третьему
лицу), либо в его неосновательном сбережении (например, если вещь потреблена самим
получателем). В этой части реституционное правоотношение принимает форму
обязательства из неосновательного обогащения, и объем реституции должен определяться
размером обогащения получателя <338>. Такой вывод следует из того, что в
рассматриваемой ситуации невозможно обнаружить каких-либо отличий реституционного
обязательства от кондикционного.
--------------------------------
<338> См. также: Флейшиц Е.А. Указ. соч. С. 220, 223, 225; Толстой Ю.К.
Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. С. 114 сл.;
Рабинович Н.В. Указ. соч. С. 114 и сл., 117, 129 и сл., 152. То, что отношения сторон
ничтожной сделки "регулируются правилами о неосновательном обогащении", отмечает
также А.П. Сергеев (Сергеев А.П. Указ. соч. С. 18). Остается, однако, непонятным: почему
только ничтожной (но не оспоримой) сделки и почему только о неосновательном
обогащении (но не о виндикации)?
Не столь однозначно решение вопроса о денежной компенсации, если получатель
никак не обогатился (например, вещь погибла или похищена) либо размер его обогащения
оказался ниже стоимости полученного. При буквальном толковании п. 2 ст. 167 ГК
получается, что и в этом случае он обязан произвести компенсацию своему контрагенту в
полном объеме, независимо от того, по какой причине наступила невозможность возврата
полученного и есть ли в этом его вина. Но если такое положение, по-видимому,
справедливо в отношении лица, сознательно заключившего сделку с несовершеннолетним
или недееспособным либо использовавшего при заключении сделки насилие, угрозы,
обман и т.п. <339>, то этого же нельзя сказать применительно к иным ситуациям,
особенно если речь идет об утрате вещи самим несовершеннолетним или
недееспособным. Безусловное возложение на получателя обязанности возместить
стоимость полученного противоречило бы цели соответствующих норм, призванных
ограждать интересы более слабой стороны в сделке, а при равном положении сторон было
бы не всегда обоснованным с точки зрения баланса их интересов. Очевидно, здесь
необходим строго дифференцированный подход, учитывающий все значимые для
установления подобной обязанности обстоятельства. Какими же должны быть критерии
такого подхода? Каково значение причин, в силу которых наступает невозможность
возврата полученного в натуре?
--------------------------------
<339> Помимо компенсации стоимости вещи такой контрагент обязан также
возместить потерпевшему всякий иной реальный ущерб, возникший у него в связи с
совершением сделки, ее исполнением или подготовкой к исполнению (его принятию)
либо реституцией (ст. 171, 172, 175 - 177, 179 ГК).
При ответе на эти вопросы исходить следует из того, что практически любое
денежное возмещение, если оно не составляет регулятивной обязанности (например,
обязанности страховщика по договору страхования) или не направлено на возврат
неосновательного обогащения, является мерой ответственности и должно иметь те или
иные субъективные основания <340>. В противном случае обосновать обязанность одного
лица возместить другому понесенные им в связи с утратой вещи убытки было бы
невозможно. Поскольку п. 2 ст. 167 ГК о таких основаниях не упоминает, необходимо
обратиться к более общим нормам гл. 60 ГК, согласно которым "приобретатель отвечает
перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные, недостачу или
ухудшение неосновательно приобретенного... имущества, происшедшие после того, как
он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения <341>" (предл. 1 п. 2 ст.
1104 ГК).
--------------------------------
<340> Не является исключением и возмещение вреда независимо от вины
причинителя (см., напр., ст. 1079 ГК). Хотя в доктрине оно не всегда признается
ответственностью, в его основании также лежит субъективная предпосылка (принятие на
себя риска возможных неблагоприятных последствий). Впрочем, в некоторых случаях
обязанность возместить причиненный вред, действительно, может конструироваться и не
в качестве меры ответственности (см., напр., ст. 1067 ГК).
<341> Необходимо заметить, что под "неосновательным обогащением" в п. 2 ст. 1104
ГК следует понимать не обогащение в собственном смысле, а неосновательное получение
индивидуально-определенной вещи. Только так можно объяснить указание в том же
пункте на "недостачу" и "ухудшение" имущества. Неосновательно полученная вещь, пока
она сохраняется в натуре, разумеется, остается в собственности потерпевшего и не может
составлять "обогащения" приобретателя. Поэтому употребление в п. 2 ст. 1104 ГК
термина "неосновательное обогащение" некорректно.
В приведенной норме речь идет, по существу, об ответственности получателя <342>,
которая, хотя и наступает независимо от его вины в гибели (ухудшении) имущества (об
этом свидетельствует указание на то, что получатель отвечает даже за случай), все же
обусловлена его недобросовестностью, выразившейся в сознательном неправомерном
удержании чужой вещи или ее удержании при таких обстоятельствах, при которых он
должен был знать о том, что вещь ему не принадлежит. В частности, недобросовестность
участника недействительной сделки и, следовательно, осознание им незаконности своего
владения (возможность такого осознания) будет иметь место тогда, когда ему известно
(должно быть известно) о пороке, с которым связана недействительность сделки: ведь
именно недействительность обусловливает и неосновательность владения переданной по
сделке вещью. При этом предполагается, что о таком пороке, как объективное
несоответствие волеизъявления правовым нормам (большинство недействительных
сделок, квалифицируемых по ст. 168 ГК), должно быть известно каждому, ибо "никто не
может ссылаться на незнание закона".
--------------------------------
<342> См. также: Толстой Ю.К. Проблема соотношения требований о защите
гражданских прав // Правоведение. 1999. N 2. С. 139.
Итак, при отсутствии признаков обогащения одним из оснований возложения на
получателя обязанности по возмещению стоимости полученного в деньгах является его
недобросовестность. Как уже было сказано, недобросовестный получатель отвечает за
всякую, в том числе и случайную, гибель вещи. В связи с этим может возникнуть вопрос о
соотношении данного правила с общей нормой ст. 211 ГК о риске случайной гибели
(повреждения) имущества, согласно которой такой риск несет собственник вещи, если
иное не предусмотрено законом или договором. Понятно, что при недействительности
сделки собственником переданной вещи остается традент, а поскольку пунктом 2 ст. 167
ГК не установлено "иное", он, по общему правилу, и должен нести риск ее случайной
гибели. Однако норма п. 2 ст. 1104 ГК предусматривает, по существу, исключение из
данного правила, перенося этот риск на недобросовестного получателя (владельца) вещи и
возлагая на него ответственность в том числе и за случай.
На первый взгляд может сложиться впечатление о противоречивости сделанного
вывода. Риск случайной гибели и ответственность обычно считаются несовместимыми
понятиями, ибо одним из условий ответственности, по общему правилу, выступает вина, в
то время как нормы о риске случайной гибели, напротив, рассчитаны на ситуации, когда в
гибели или повреждении вещи невиновна ни одна из сторон правоотношения. Тем не
менее гражданскому праву известна ответственность и без вины. Ее, в частности, несет
недобросовестный владелец за случайную гибель (повреждение) вещи. Представляется,
что ответственность недобросовестного владельца основана именно на риске случайной
гибели и является специфическим проявлением последнего в отношениях между таким
владельцем и собственником вещи. Если же предположить, что риск случайной гибели на
недобросовестного владельца не переходит и что его продолжает нести собственник, было
бы не ясно, в чем этот риск состоит. Поскольку при случайной гибели вещи собственник
вправе требовать денежного возмещения, это не позволяет говорить о несении им какого-
либо риска: весь риск в силу закона переходит на недобросовестного владельца.
Иное дело, если владелец добросовестен, т.е. не знает и не должен знать о
недействительности сделки. На него риск не переходит, поэтому при случайной гибели
вещи он и не обязан компенсировать ее стоимость. Обязательство натуральной
реституции (реституции владения) прекращается невозможностью исполнения (ст. 416
ГК), а так как эта невозможность вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон
не отвечает, не возникает и нового, денежного обязательства по компенсации стоимости
утраченной вещи.
Вместе с тем п. 2 ст. 1104 ГК устанавливает еще одно правило, согласно которому
приобретатель до того момента, как он узнал или должен был узнать о неосновательности
своего приобретения (т.е. будучи добросовестным), "отвечает лишь за умысел и грубую
неосторожность". В этой формулировке сомнение вызывает корректность употребления
терминов, обозначающих формы вины ("умысел" и "грубая неосторожность"), при
характеристике действий добросовестного владельца: ведь добросовестность, как
известно, исключает виновность. Речь здесь должна идти, по-видимому, о другом:
добросовестный владелец несет ответственность лишь при условии, что он сознательно
уничтожил или повредил вещь либо не принял самых элементарных мер по ее
сохранности. Думается, именно такие формы поведения имел в виду законодатель,
упоминая об умысле и грубой неосторожности. Но поскольку, даже уничтожая вещь,
добросовестный владелец уверен в том, что эта вещь принадлежит ему и что он лишь
осуществляет свое право собственности, его поведение нельзя признать виновным.
Следовательно, возлагаемая на него в соответствии с п. 2 ст. 1104 ГК ответственность, как
и ответственность недобросовестного владельца за случайную гибель (повреждение)
вещи, является ответственностью без вины.
Квалификация компенсационной реституции в качестве меры ответственности
означает, что обязанность по возмещению стоимости полученного не может быть
возложена на недееспособных и малолетних, ибо они не обладают деликтоспособностью.
Поэтому размер предъявляемых к ним реституционных требований не должен превышать
размера их неосновательного обогащения, полученного вследствие совершения и
исполнения недействительной сделки <343>. Кроме того, de lege ferenda правило п. 2 ст.
1104 ГК следовало бы скорректировать в отношении несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет, хотя по действующему законодательству они и являются полностью
деликтоспособными. Поскольку ответственность за случайную гибель или повреждение
неосновательно полученного имущества основана на началах риска, несправедливо было
бы распространять ее на несовершеннолетних, от которых едва ли можно требовать
осознания несоответствия сделки закону или иного ее порока (разумеется, если только сам
несовершеннолетний не прибегает при заключении сделки к обману, насилию или
