Тузов Д.О. Теория недействительности сделок. Опыт российского права в контексте европейской правовой традиции
Подождите немного. Документ загружается.

предусматривало последствий неосновательного предоставления специально на случай
недействительности сделки. Не содержалось каких-либо указаний по этому поводу ни в т.
X, ч. 1, Свода законов Российской империи, ни в дореволюционной цивилистической
литературе, в том числе учебниках по русскому гражданскому праву <224>.
--------------------------------
<224> Странно поэтому утверждение, не подкрепленное, впрочем, ни одной ссылкой
на источники, согласно которому "в отечественной гражданско-правовой науке и
юридической литературе начиная с XIX века под реституцией принято понимать
возвращение контрагенту всего полученного по сделке как последствие ее
недействительности" (Моргунов С. Соотношение виндикации и реституции как способов
защиты имущественных гражданских прав // ХП. 2005. N 5. С. 43). Русские
дореволюционные юристы не только не употребляли термина "реституция" в указанном
значении, но и не знали специального понятия "последствия недействительности сделки",
обязанного своим появлением лишь послереволюционной цивилистике и ставшего
легальным в современном российском праве (подробнее см. ниже, § 45). Впрочем, если бы
такое понятие и было предложено в то время, принять его им не позволила бы
рафинированность их научной юридической школы. О введении термина "реституция" в
научный аппарат советской цивилистики см. ниже, сн. 227.
Лишь Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. установил ad hoc, применительно к
отдельным видам недействительных сделок, обязанность обеих или только одной из
сторон "возвратить все полученное по договору" другой стороне (ст. 148 - 151). Кроме
того, в некоторых случаях предусматривалось взыскание полученного по сделке
имущества в доход государства (ст. 147, 149, 150), а также обязанность одной из сторон
возместить своему контрагенту понесенные им в связи с недействительностью договора
убытки (ст. 148, 151).
Однако, вводя указанные предписания, законодатель, как представляется, не
преследовал цели создать для сторон недействительной сделки какое-то новое средство
защиты их прав и интересов. Появление специальных положений о реституции было
вызвано, по всей видимости, введением в ГК РСФСР 1922 г. ранее неизвестной
гражданскому праву карательной санкции - взыскания полученного по недействительной
сделке в доход государства. Положения о реституции должны были при этом служить
лучшему пониманию закона в тех случаях, для которых конфискационные последствия не
предусматривались или предусматривались в отношении лишь одной из сторон
недействительной сделки.
Таким образом, специальные положения о реституции и конфискации были
установлены для определения дальнейшей судьбы переданного по недействительной
сделке имущества: должно ли оно быть возвращено тому, кто его предоставил, или оно
изымается в доход государства. Сами же способы возврата, если таковой допускался,
должны были, очевидно, оставаться прежними: виндикация или взыскание
неосновательного обогащения, а в соответствующих случаях - возмещение убытков
<225>.
--------------------------------
<225> В этом смысле понимались нормы ст. 147 - 151 ГК РСФСР 1922 г. рядом
цивилистов (см., напр.: Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из
неосновательного обогащения. М., 1951. С. 219 и сл., 223, 225; Толстой Ю.К. Содержание
и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л., 1955. С. 114 и сл.;
Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л., 1960. С. 110, 114 и сл.,
152). Первоначально в этом же смысле интерпретировал указанные нормы Д.М. Генкин, о
чем можно судить по одной из его работ: Генкин Д. Недействительность сделок,
совершенных с целью, противной закону // Учен. зап. ВИЮН. Вып. V. М., 1947. С. 52, 54.
Впоследствии он, однако, изменил свою позицию (ср.: Генкин Д.М. Право собственности
в СССР. М.: Госюриздат, 1961. С. 192 и сл.). Некоторые колебания в этом вопросе
заметны у В.А. Рясенцева (см.: Рясенцев В.А. Указ. соч. С. 94 и сл.). Данному варианту
толкования иногда следовала и судебная практика, хотя здесь трудно говорить о каких-
либо четких тенденциях. Так, в определении по делу N 3/827 1952 г. ГСК Верховного
Суда СССР одновременно применила как ст. 147, относящуюся к недействительности
договоров, так и ст. 60 ГК РСФСР 1922 г., относящуюся к институту виндикации (цит. по:
Арзамасцев А.Н. Охрана социалистической собственности по советскому гражданскому
праву. Л., 1956. С. 140).
В пользу такого толкования говорит, во-первых, прямая ссылка на институт
неосновательного обогащения в статьях, предусматривавших конфискационные
последствия: "Неосновательное обогащение взыскивается в доход государства (ст. 402)"
(ст. 147, 149, 150), а во-вторых, отсутствие в ГК РСФСР 1922 г. как общей нормы о
реституции при недействительности договора, так и специальных положений о
реституции применительно к тем недействительным сделкам, в отношении которых не
были установлены ни конфискационные последствия, ни возмещение убытков одной из
сторон (например, применительно к мнимым и притворным сделкам - ст. 34 и 35), - при
этом, вероятно, считалось, что применение в таких случаях виндикационных или
кондикционных исков должно разуметься само собой. Следует, таким образом,
предположить, что реституция при недействительности сделок мыслилась советским
законодателем 1922 г. лишь как один из частных случаев виндикации или кондикции, а не
как специальное охранительное средство sui generis.
Однако в отечественной юридической доктрине возобладала иная точка зрения.
Упомянутые нововведения ст. 148 - 151 ГК РСФСР 1922 г. были истолкованы в том
смысле, что законодатель будто бы определил не только судьбу полученного по
недействительной сделке имущества, но и особый способ его изъятия, ввел тем самым
специальную охранительную меру, рассчитанную именно на случаи недействительности
сделок и исключающую применение к данным отношениям норм о виндикации и
кондикции <226>. Эта особая мера примерно с середины прошлого века и получает
название реституции <227> - технический термин, приобретший в советской цивилистике
узко специальное значение, не совпадающее ни с тем значением, которое ему придавалось
в римском праве, ни с тем, в котором его использует современная цивилистическая
доктрина зарубежных стран. Под реституцией стало пониматься возвращение сторонами
недействительной сделки друг другу полученного ими по такой сделке имущества или же
компенсация стоимости полученного при невозможности его возврата в натуре.
--------------------------------
<226> См., напр.: Амфитеатров Г.Н. Война и вопросы виндикации // Учен. зап.
ВИЮН. Вып. III. М., 1945. С. 46, 50 и сл.; Иоффе О.С. Ответственность по советскому
гражданскому праву. Л., 1955. С. 72 и сл.; Арзамасцев А.Н. Указ. соч. С. 140 и сл.; Генкин
Д.М. Право собственности в СССР. С. 192 и сл.; Советское гражданское право / Под ред.
Д.М. Генкина. М., 1961. С. 325 и сл. (автор главы - Б.С. Антимонов).
<227> По-видимому, впервые оно было введено в научный оборот Д.М. Генкиным в
учебнике гражданского права 1944 г., в котором данный термин не только используется в
указанном значении, но и служит основой для новой - весьма распространенной и сегодня
- классификации "последствий недействительности сделки" на двустороннюю
реституцию, одностороннюю реституцию и недопущение реституции (см.: Гражданское
право / Под ред. М.М. Агаркова и Д.М. Генкина. Т. I. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944.
С. 102 и сл.; Ср.: Вильнянский С.И. Лекции по советскому гражданскому праву. Ч. I.
Харьков, 1958. С. 168 и сл.), классификации, которая, однако, основывается не на видах
реституции в зависимости от правовой природы соответствующих мер, а на ее
допустимости и полноте. Следует заметить, что в учебниках 1938 и 1940 гг. термин
"реституция" применительно к недействительности сделок еще не употреблялся и какой-
либо классификации "последствий недействительности" не давалось (см.: Гражданское
право. Ч. I. М.: Юриздат, 1938. С. 140 и сл.; Советское гражданское право: Краткий
учебник для юрид. школ. М.: Юриздат, 1940 [автор гл. 7 о сделках - М.В. Зимелева]).
В соответствии с этим высказывалось предложение предусмотреть в законе общую
норму о реституции, неизвестную ГК РСФСР 1922 г. Это предложение было реализовано
законодателем при составлении ГК РСФСР 1964 г., ч. 2 ст. 48 которого установила для
недействительных сделок в качестве общего правила единое последствие в виде
реституции, не употребляя, впрочем, самого этого термина. Вместе с тем были исключены
имевшиеся в ГК РСФСР 1922 г. отсылки к институту неосновательного обогащения (ст.
147, 149, 150).
Данную позицию законодатель вновь выразил в части первой Гражданского кодекса
РФ 1994 г., п. 2 ст. 167 которого почти без изменений воспроизвел предписание ч. 2 ст. 48
ГК 1964 г.: "При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой
все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в
том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной
работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные
последствия недействительности сделки не предусмотрены законом" (п. 2 ст. 167 ГК)
<228>.
--------------------------------
<228> В целом сходную формулировку содержит п. 1 ст. 216 нового ГК Украины
2003 г. (см.: Гражданский кодекс Украины: Пер. с укр. Харьков: Консум, 2003. С. 139 и
сл.).
Конечно, само по себе установление указанного общего правила о реституции еще не
дает оснований для вывода о том, что тем самым была введена особая охранительная мера
для возврата полученного по недействительной сделке имущества. Примечательно в связи
с этим, что за данное нововведение высказывались не только те, кто видел в реституции
самостоятельное охранительное средство, а отсутствие в ГК РСФСР 1922 г. общей нормы
о ней расценивал как упущение законодателя, но также и их оппоненты, стоящие на
"классических" позициях. Однако если первые мыслили это общее правило как
предписание, которое в отсутствие специальных норм решало бы вопрос не только о
судьбе, но и о способе изъятия имущества, полученного по недействительной сделке
<229>, то вторые ставили перед будущей нормой более скромную задачу: определять
лишь судьбу, направление изымаемого имущества, но не способ его изъятия <230>.
--------------------------------
<229> См., напр.: Гавзе Ф.И. И.Б. Новицкий "Сделки. Исковая давность"
[Рецензия] // СГП. 1955. N 1. С. 134; Иоффе О.С. Советское гражданское право (Курс
лекций): Общая часть. Право собственности. Общее учение об обязательствах. Л.: Изд-во
ЛГУ, 1958. С. 238; Он же. Гражданско-правовая охрана интересов личности в СССР //
СГП. 1956. N 2. С. 59.
<230> См., напр.: Рабинович Н.В. Указ. соч. С. 144, 152.
Однако российский законодатель пошел дальше. В ст. 1103 части второй ГК 1995 г.
он указал требование о возврате исполненного по недействительной сделке в одном ряду с
требованиями о виндикации, о возмещении вреда, о возврате исполненного в связи с
каким-либо обязательством и, кроме того, установил субсидиарное применение к нему,
как и ко всем указанным требованиям, положений гл. 60 ГК о неосновательном
обогащении. Такое размещение и содержание нормативного материала в действующем ГК
могут привести к выводу, что обязанности сторон возвратить друг другу все полученное
ими по недействительной сделке или компенсировать его стоимость в деньгах мыслятся
законодателем в рамках совершенно самостоятельного юридического отношения, не
совпадающего с иными известными гражданскому праву имущественными
правоотношениями охранительного характера, что реституция, таким образом, является
самостоятельной охранительной мерой, отличной от иных гражданско-правовых мер, в
том числе от виндикации и кондикции.
Судить о правильности этой интерпретации можно лишь после комплексного
анализа соответствующих правовых норм и возникающих на их основе правоотношений,
который предстоит провести ниже. Следует, однако, заметить уже сейчас, что в немалой
степени такое понимание реституции явилось плодом уже отмечавшегося резко
негативного отношения советской правовой идеологии к самому феномену
недействительных сделок, которые рассматривались как проявления "пережитков
капитализма", "буржуазной, частнособственнической идеологии" в сознании отдельных
"отсталых" лиц, как правонарушения, борьба с которыми - одна из ответственнейших
задач советского государства в лице его правоохранительных органов <231>. Теория и
практика этой борьбы не могли, разумеется, строиться на фундаменте частноправовых
конструкций и категорий. Исторический призыв В.И. Ленина "расширить применение
государственного вмешательства в "частноправовые" отношения... применять не corpus
juris romani к "гражданским правоотношениям", а наше революционное правосознание..."
<232> - надолго сделался девизом советской цивилистики.
--------------------------------
<231> См. об этом выше, § 3, в конце, особенно сн. 117 и указанную там литературу.
<232> [Из записки В.И. Ленина наркому юстиции РСФСР Д.И. Курскому,
относящейся к периоду разработки Гражданского кодекса (февраль, 1922 г.)] // ПСС. Т.
44. С. 398 (цит. по: Доклад Д.И. Курского об итогах судебной работы за два года и об
очередных задачах юстиции на V Всероссийском съезде деятелей юстиции 10 - 15 марта
1924 г. // Избранные статьи и речи. 2-е изд., доп. М.: Госюриздат, 1958).
И действительно, в советском праве реституция приобрела ярко выраженные
публично-правовые черты, став, по сути, особым средством "гражданско-правовой
борьбы с недействительными сделками". Она преследовала уже не частный, а
государственный, публичный интерес, становясь специфическим властным инструментом
устранения "вредных последствий" незаконных сделок, не имеющим почти ничего общего
с классическим частноправовым притязанием. Эта новая тенденция явственно
прослеживается в юридической литературе советского периода. Вот как, например,
характеризовал социальную сущность реституции Я.А. Куник: "...Было бы
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО оставлять у участников недействительной сделки исполненное по
такой сделке. В противном случае это ПООЩРЯЛО БЫ действия участников
недействительной сделки" <233> (выделено мной. - Д.Т.). Как можно видеть, в данном
обосновании отсутствует даже упоминание об интересах участников сделки, ибо для
реституции такие интересы не имеют никакого значения: она рассматривается не как
средство защиты субъективных гражданских прав и интересов сторон недействительной
сделки, а как мера, "охраняющая правопорядок" <234>. "Данная мера... - писала о
реституции Т.И. Илларионова, - восстанавливает имущественное положение субъекта
(субъектов), существовавшее до совершения сделки, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО И НЕ ОТВЕЧАЕТ
ЕГО НАСТОЯЩИМ ИНТЕРЕСАМ" <235> (выделено мной. - Д.Т.).
--------------------------------
<233> Куник Я.А. Гражданско-правовые сделки. Представительство. Общее учение
об обязательстве. Способы обеспечения обязательств: Лекции. М.: Госторгиздат, 1960. С.
18.
<234> См.: Илларионова Т.И. Механизм действия гражданско-правовых
охранительных мер. Свердловск, 1980. С. 11, 41. Примечательна в связи с этим
предложенная автором классификация гражданско-правовых охранительных мер по
предметному признаку (Там же), в которой мерам, "охраняющим правопорядок", в число
которых входит реституция, отводится специальная рубрика; в остальные же рубрики
включены собственно средства защиты субъективных гражданских прав и охраняемых
законом интересов (в частности, виндикация и кондикция).
<235> Там же. С. 49. Это сложившееся в советской доктрине представление о
реституции разделяют, по-видимому, и некоторые современные авторы. Так, К.И.
Скловский пишет: "...хотя любое заинтересованное лицо может требовать применения
механизма реституции, окончательное решение о том, применять ли реституцию, остается
в этом случае за судом" (Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Дело,
1999. С. 111). (Имеется в виду, очевидно, свобода усмотрения суда в применении
реституции.) По мнению А.П. Сергеева, в двусторонней реституции "выражено
отрицательное отношение государства к сделке, не соответствующей требованиям закона"
(Сергеев А.П. Указ. соч. С. 18). А С. Моргунов прямо утверждает: "Очевиден
принудительный характер возникающих по реституции обязанностей... так как после
установления недействительности сделки ее участники против своей воли, подчиняясь
требованию закона, обязаны возвратить друг другу все полученное" (Моргунов С. Указ.
соч. С. 44).
В практическом плане такое представление о реституции привело к установлению в
судебной практике при поддержке советской цивилистической доктрины положения об
обязанности суда применять реституцию при рассмотрении споров о недействительности
сделок. Верховный Суд СССР неоднократно указывал, что суд не может в своем решении
ограничиться только признанием сделки недействительной, а обязан установить
последствия недействительности (взыскание в доход государства, двустороннюю или
одностороннюю реституцию) <236>.
--------------------------------
<236> См., напр.: Определения Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда СССР от 26 нояб. 1949 г. по делу N 36/1301 и от 15 сент. 1949 г. (цит. по:
Советское гражданское право / Под ред. Д.М. Генкина. Т. I. М.: Госюриздат, 1950. С. 234
[автор главы - Д.М. Генкин]).
Сегодня характерным отзвуком этого подхода является позиция, высказанная по
конкретному делу Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ и подтвержденная им
относительно недавно в одном из обзоров судебно-арбитражной практики.
Постановлением по данному делу Президиум ВАС РФ признал незаконным решение суда
первой инстанции, указав, что последний необоснованно ограничился только признанием
недействительности ничтожной сделки, не приняв решение о восстановлении
нарушенных неправомерной приватизацией прав заинтересованных лиц <237>. (Истцом
было заявлено лишь негационное требование.)
--------------------------------
<237> См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 3 сент. 1996 г. N 151/96 //
Вестник ВАС РФ. 1996. N 11. С. 43; п. 5 Обзора отдельных постановлений Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ по спорам, связанным с признанием сделок
недействительными [Изложение] (ХП. 2001. N 4. С. 128). Критический анализ данного
Постановления см. выше, § 25, в конце.
Парадоксально, но сходное положение, хотя и не императивное для суда,
предусмотрено сегодня на законодательном уровне. Согласно абз. 2 п. 2 ст. 166 ГК суд
вправе применять последствия недействительности ничтожной сделки по собственной
инициативе, т.е. вопреки воле заинтересованного лица. Данная норма не соответствует
принципу диспозитивности гражданского права и процесса, поэтому ее обоснованность
вызывает сомнения <238>.
--------------------------------
<238> Подробнее см. ниже, § 45.
Другой пример, когда современный российский законодатель следует
представлению о реституции как особом охранительном средстве, - прежняя редакция п. 1
ст. 181 ГК, согласно которой для "применения последствий недействительности
ничтожной сделки" устанавливался удлиненный (10-летний) срок исковой давности.
Приведенные и некоторые другие нормы создавали и создают для реституции (хотя
бы только при ничтожности сделок) какой-то особый, исключительный режим, не
характерный для частноправовых средств защиты. Понять их появление, впрочем, легко,
учитывая концепцию реституции как специфической меры, охраняющей не частный
интерес, а правопорядок в целом. Однако оправдать существование подобных положений
в современном законодательстве, как бы ни понималась правовая природа реституции,
вряд ли возможно <239>.
--------------------------------
<239> Воздержусь от анализа причин, вызвавших как установление для реституции
удлиненной давности в 1994 г., так и ее замену в 2005 г. общим (трехлетним) давностным
сроком (см.: СЗ РФ. 2005. N 30. Ч. 2. Ст. 3120). Эти причины, имеющие скорее
политический характер, не представляют здесь интереса, ибо задача исследования состоит
в выявлении природы реституции как таковой, применительно к любым
недействительным сделкам, а не в рассмотрении способов ее использования в процессе
так называемого передела собственности. (Заметим, что для достижения политических
целей законодателю ничто не мешало бы использовать и иные институты, установив,
например, удлиненный срок давности или вообще отменив давность для виндикации
приватизированного имущества государством.) Очевидно, однако, что мотивы отмены
удлиненной давности для реституции не имеют никакого отношения к излагаемым здесь
соображениям. В связи с этим показательна также и техническая сторона решения,
избранного законодателем: в п. 1 ст. 181 ГК 10-летний срок заменен трехлетним вместо
простого исключения применительно к данному случаю указания о каком-либо сроке (в
отсутствие такого указания совершенно естественно применялась бы ст. 196 ГК,
устанавливающая общий срок исковой давности в три года). Подобный метод решения
еще раз подтверждает его скорее политический характер.
С другой стороны, представлениям о специфическом характере имущественных
отношений сторон недействительной сделки способствует употребление для их
обозначения специального термина "реституция". Хотя само по себе такое
словоупотребление и не вызывает возражений, поскольку одно из самых общих значений
латинского глагола restituere - возвращать, однако зачастую оно приводит к неверным и,
как увидим далее, небезвредным для правоприменительной практики выводам.
Дело в том, что иногда в реституции в ее специфическом российском понимании
склонны усматривать аналог римской in integrum restitutio, считая последнюю
предшественницей и прообразом первой <240>. При этом утверждается, что
"публичность" римской реституции, "ее скорее неправовой, исключительный характер",
сохранившись до нашего времени, нашли отражение в п. 2 ст. 167 ГК <241>. Подобные
выводы, игнорируя источники, свидетельствуют о неверном представлении о римской in
integrum restitutio и не учитывают уже отмеченное различие в природе последней и того,
что понимается под реституцией в российском гражданском праве сегодня. Общее у
рассматриваемых институтов только одно - их возможная связь с недействительной
сделкой, да и оно теряется в том случае, если in integrum restitutio направлена на отмену
юридических последствий не сделки, а какого-либо иного факта (например, при
восстановлении иска, погашенного истечением законного срока). Самое же важное
состоит в том, что реституция в смысле п. 2 ст. 167 ГК не имеет преобразовательного
эффекта, которым обладала римская реституция (хотя бы только в плоскости ius
honorarium); в отличие от последней, она направлена не на аннулирование сделки (такую
функцию в российском праве выполняет решение суда, вынесенное по иску об
оспаривании), а на возврат имущества, переданного по недействительной сделке, причем
не только оспоримой (после ее отмены), но и ничтожной. Как было показано выше,
римскому праву подобный институт известен не был, не говоря уже о том, что сама in
integrum restitutio окончательно утратила свой чрезвычайный характер уже при
Юстиниане, а потому никак не могла "донести" его до наших дней.
--------------------------------
<240> См., напр.: Салогубова Е.В. Римский гражданский процесс. М., 1997. С. 65, сн.
33; Скловский К. Защита владения, полученного по недействительной сделке // ХП. 1998.
N 12. С. 35; Грось А.А. Защита гражданских прав: сравнительный анализ институтов
римского частного права и действующего гражданского и гражданского процессуального
права // Правоведение. 1999. N 4. С. 100 и сл.; Моргунов С. Указ. соч. С. 43.
<241> Скловский К.И. Защита владения, полученного по недействительной сделке.
С. 35; Он же. Собственность в гражданском праве. С. 495.
Об отмеченном ошибочном понимании римской реституции вряд ли стоило бы и
упоминать, если бы не одно обстоятельство. Некорректное проведение аналогии между in
integrum restitutio и реституцией в российском праве в немалой степени способствует
укреплению распространенного среди цивилистов и практических работников
представления о возврате сторонам переданного по недействительной сделке имущества
(реституции) как особом и чуть ли не экстраординарном, как римская реституция,
средстве защиты, а не обыкновенном гражданско-правовом притязании о восстановлении
владения, возврате неосновательного обогащения или возмещении вреда, характерном для
частных правоотношений и применявшемся со времен римского права в правопорядках
большинства стран. Неверное понимание in integrum restitutio создает иллюзию, будто бы
такое представление опирается на авторитет романистической традиции. Но, быть может,
несмотря на неудачность аналогии, оно правильно по существу?
Прежде, чем перейти к анализу реституции в российском гражданском праве и
ответить на поставленный вопрос, необходимо сделать одно замечание
методологического характера. Обычно обязанности сторон недействительной сделки,
установленные п. 2 ст. 167 и другими нормами § 2 гл. 9 ГК (обязанности по реституции),
рассматриваются изолированно, а не в качестве элементов юридического отношения, т.е.
не в системе. Между тем ценность научной категории правоотношения во многом
определяется именно ее эвристическим потенциалом. Поэтому, чтобы раскрыть сущность
реституции по ГК РФ, необходимо исследовать природу правоотношений, в рамках
которых существуют и реализуются реституционные права и обязанности сторон
недействительной сделки.
§ 44. Общая характеристика реституционных правоотношений
Согласно уже цитированному п. 2 ст. 167 ГК "при недействительности сделки
каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае
невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное
выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной
услуге) - возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности
не предусмотрены законом".
Как известно, гражданские субъективные права и обязанности существуют и
реализуются в рамках правоотношений. Из этого следует, что и реституционные
обязанности входят в содержание некоторого гражданского правоотношения, которое, как
и всякое юридическое отношение, представляет собой корреляцию субъективных прав и
обязанностей. Таким образом, несмотря на отсутствие в п. 2 ст. 167 ГК упоминания о
правах, последние также составляют содержание реституционного правоотношения
наряду с корреспондирующими с ними обязанностями, прямо предусмотренными
анализируемым положением ГК <242>. Возникает вопрос о природе этих субъективных
прав и обязанностей, равно как и объединяющего их реституционного правоотношения в
целом.
--------------------------------
<242> Обратим внимание, что, например, в art. 3.17(2) Принципов УНИДРУА 2004 и
art. 4:115 Принципов Европейского договорного права содержание реституционного
правоотношения текстуально выражено именно через право стороны аннулированного
оспоримого договора требовать возврата переданного ею имущества (см. выше, § 42, в
конце).
В отечественной доктрине были высказаны различные суждения по данному
вопросу. Согласно мнению одних, возврат сторонами друг другу полученного по
недействительной сделке имущества или компенсация его стоимости в деньгах
происходят в рамках обязательственных правоотношений <243>. Другие, напротив,
категорически отрицали обязательственный характер реституции: "Не говоря уже о том, -
писал, например, Ю.Х. Калмыков, - что при совершении незаконной сделки каждая из
сторон обычно не заинтересована в признании ее недействительной, а потому не имеет
каких-либо претензий к своему контрагенту, факт предъявления претензии не превращает
участника подобной сделки в кредитора, так как возвращение... в первоначальное
положение достигается не в результате совершения действий должника, а с помощью
правоохранительных органов" <244>. Автор не останавливался на исследовании
реституционных отношений более подробно, оставив вопрос об их природе открытым.
Может ли, однако, приведенное суждение служить опровержением тезиса об
обязательственной природе реституции?
--------------------------------
<243> См., напр.: Толстой В.С. Понятие обязательства по советскому гражданскому
праву // Учен. зап. ВЮЗИ. Вып. 19. М., 1971. С. 120 и сл.; Михайлич А.М. Внедоговорные
обязательства в советском гражданском праве. Краснодар, 1982. С. 12; Моргунов С. Указ.
соч. С. 44 и сл., 53. Вызывает вместе с тем удивление то, как последний из упомянутых
авторов обосновывает обязательственную природу реституции: "Требование о возврате
полученного по недействительной сделке - обязательственное по правовой природе, так
как опирается на заложенную в законе обязанность" (Там же. С. 45).
<244> Калмыков Ю.Х. Принцип всемерной охраны социалистической собственности
в гражданском праве. Саратов, 1987. С. 51.
Во-первых, едва ли нужно доказывать, что возможная незаинтересованность
стороны недействительной сделки в реституции не означает отсутствия самого
субъективного права на реституцию и корреспондирующей с этим правом обязанности
другой стороны недействительной сделки. Права и обязанности существуют объективно,
независимо от воли и сознания их субъектов, ибо возникают на основе норм объективного
права, при наличии предусмотренных этими нормами фактов реальной действительности
(юридических фактов). В других правоотношениях управомоченное лицо также не всегда
предъявляет претензию или иск, однако это не означает отсутствия у него субъективного
права (притязания). Кроме того, в настоящее время уже нельзя сказать, что стороны
недействительной (незаконной) сделки "как правило" не заинтересованы в признании этой
сделки недействительной и применении реституции. Напротив, такие требования
становятся все более распространенными в судебной практике, да и тогда, когда
появилась цитированная работа Ю.Х. Калмыкова, о незаинтересованности сторон в
признании сделки недействительной и реституции можно было вести речь лишь
применительно к некоторым категориям недействительных сделок, а именно мнимым и
притворным сделкам, сделкам, совершенным с целью, заведомо противной интересам
социалистического государства и общества, и отчасти сделкам, не соответствующим
закону. Что же касается иных сделок, в том числе недействительных в силу пороков воли
или недостатка дееспособности одной из сторон, то интерес потерпевшего,
заблуждавшегося, недееспособного, несовершеннолетнего и т.п. в признании таких сделок
недействительными и применении соответствующих последствий был очевиден и никогда
не вызывал сомнений.
Во-вторых, нельзя принять в качестве аргумента против обязательственной природы
реституции и другое утверждение Ю.Х. Калмыкова - о том, что "возвращение в
первоначальное положение" достигается не в результате совершения действий самим
должником, а вследствие применения мер принуждения правоохранительными органами.
В п. 2 ст. 167 и некоторых иных статьях § 2 гл. 9 ГК говорится именно об обязанности
сторон недействительной сделки возвратить полученное по сделке в натуре или
возместить его стоимость в деньгах (аналогичное положение содержалось и в ГК РСФСР
1964 г. <245>). Однако возложение всякой обязанности естественно предполагает
возможность ее добровольного исполнения. В противном случае обязывание не имело бы
смысла. Да и с практической точки зрения вряд ли существуют препятствия для
добровольного исполнения сторонами недействительной сделки своих реституционных
обязанностей. Как и любое гражданское правоотношение, правоотношение по реституции
реализуется добровольно либо принудительно и в этом плане не составляет никакого
исключения <246>.
--------------------------------
<245> Абзац 2 ст. 48 ГК РСФСР 1964 г.: "По недействительной сделке каждая из
сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при
невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах,
если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены в законе".
<246> В связи с этим трудно согласиться с уже цитированным утверждением А.А.
Грось о том, что обязательство сторон недействительной сделки "вернуться в исходное
имущественное положение" "возникает на основании судебного решения в момент
вступления его в законную силу" (Грось А.А. Указ. соч. С. 101 и сл.). Получалось бы, что
до этого момента переданное сторонами недействительной сделки друг другу имущество
находится у них, несмотря на недействительность этой сделки, на каком-то правовом
основании.
Обязательственная природа реституции становится очевидной, если обратиться к
легальному определению обязательства. "В силу обязательства одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то:
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности" (п. 1 ст. 307 ГК). Права и обязанности сторон недействительной сделки
полностью подходят под это определение: в соответствии с п. 2 ст. 167 ГК каждая сторона
обязана совершить в отношении другой стороны определенное действие - передать
имущество или уплатить деньги, а другая сторона, как следует из логического толкования
этой же нормы, вправе требовать исполнения данной обязанности <247>.
--------------------------------
<247> К.И. Скловский высказывает сомнение в обязательственной природе
реституции на основании того, что "неясно, входят ли эти требования (и обязанности) в
состав имущества и соответственно в наследственную и конкурсную массу; могут ли они
быть также предметом сингулярного правопреемства; подлежат ли они зачету и т.д."
(Скловский К. Некоторые проблемы реституции // Вестник ВАС РФ. 2002. N 8. С. 108 и
сл.). Непонятна, однако, причина подобных сомнений. Впрочем, из другого места,
цитированного выше, следует, что автор разделяет сложившееся в советской доктрине
представление о реституции как мере, охраняющей правопорядок, применение или
неприменение которой в конкретном случае зависит лишь от суда (см. выше). Такой
подход неизбежно связан с отрицанием субъективного права на реституцию, а значит, и ее
обязательственной природы.
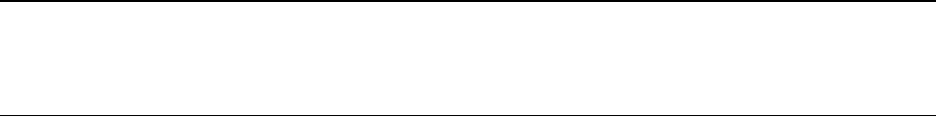
Итак, реституционное правоотношение является обязательственным. Подобно
всякому обязательству, это относительное правоотношение, так как связывает конкретных
лиц - сторон недействительной сделки <248> или их правопреемников, а не "всех и
каждого". С точки зрения основания своего возникновения оно является внедоговорным,
ибо возникает не в силу договора (договор недействителен), а в силу закона. По
функциям, выполняемым в механизме правового регулирования, реституционное
обязательство имеет, несомненно, охранительный характер, поскольку возникает как
реакция правопорядка на безосновательные изменения в имущественной сфере сторон
недействительной сделки.
--------------------------------
<248> Речь должна идти, очевидно, о сторонах недействительной предоставительной
сделки, поскольку субъектный состав сделки-волеизъявления и совершенного в связи с
ним предоставления могут не совпадать (например, при исполнении третьим лицом
мнимого обязательства, "возникшего" из недействительного договора, стороной которого
оно не является).
Казалось бы, от иных охранительных обязательств, например кондикционного или
деликтного, реституционное правоотношение отличается тем, что если первые
представляют собой безусловно одностороннюю правовую связь между должником и
кредитором, в которой право одного корреспондирует с обязанностью другого, то
реституция, по общему правилу, является двусторонней: возвратить все полученное по
недействительной сделке в силу п. 2 ст. 167 ГК обязана каждая из сторон. Означает ли эта
двусторонность, что в реституционном правоотношении права и обязанности являются
встречными <249>, взаимными, как в синаллагматических договорах (п. 2 ст. 308 ГК)?
--------------------------------
<249> Под "встречностью" здесь понимается взаимность, взаимообусловленность
двух неоднородных требований; в этом значении данный термин употребляется,
например, в ст. 328 ГК. В ином смысле использует его ст. 410 ГК, согласно которой
"встречными" признаются любые однородные требования, независимо от оснований их
возникновения, противопоставленные друг другу и взаимопогашаемые зачетом.
При поверхностном взгляде естественным кажется положительный ответ на этот
вопрос. "Возврат имущества носит встречный характер - именно это и означают слова
"двусторонняя реституция", - пишет, например, К.И. Скловский <250>. Данная позиция
нашла отражение и в учебнике гражданского права МГУ, где говорится: "Требование о
возврате исполненного по недействительной сделке, исполненной сторонами, носит
взаимный характер" <251>. Однако более глубокий анализ свидетельствует об
ошибочности подобной трактовки реституционного обязательства.
--------------------------------
<250> Скловский К. Защита владения, полученного по недействительной сделке. С.
38. См. также: Он же. Некоторые проблемы реституции. С. 117.
КонсультантПлюс: примечание.
Учебник "Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 2" (под ред. Е.А. Суханова)
включен в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2005 (издание
второе, переработанное и дополненное).
<251> Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб.
и доп. Т. II. Полутом 2. М.: Бек, 2000. С. 458 (автор главы - В.С. Ем). См. также: Моргунов
С. Указ. соч. С. 43 и сл., 53.
По определению В.К. Райхера, в двустороннем правоотношении "каждая из... сторон
является по отношению к другой и управомоченною, и правообязанною, и притом еще
так, что обязанности одной стороны выступают... в качестве некоего эквивалента
обязанностей другой стороны, являются взаимными не только в формальном смысле
