Тузов Д.О. Теория недействительности сделок. Опыт российского права в контексте европейской правовой традиции
Подождите немного. Документ загружается.

исковым притязанием, способны быть надлежащими истцами в процессе по его
осуществлению. Таким образом, рассмотренная "особенность" реституции, как и уже
упоминавшаяся "комплексность" этой меры, хотя, на первый взгляд, и вытекает из закона,
при более глубоком анализе оказывается мнимой.
Наконец, согласно последней новелле (предл. 2 абз. 2 п. 2 ст. 166 ГК) суд вправе
применить последствия недействительности ничтожной сделки (в частности, реституцию)
по собственной инициативе. Буквально это должно было бы означать, что при
рассмотрении всякого дела, в котором каким-либо образом фигурирует ничтожная сделка,
суд может выйти за пределы исковых требований и присудить обоих участников такой
сделки к реституции независимо от их заявления и желания. Данное положение,
неизвестное прежнему законодательству, так же как и рассмотренные выше, вызывает
серьезные сомнения.
Действительно, процессуальное право допускает в качестве исключения выход суда
общей юрисдикции <285> за пределы предмета иска: "Суд принимает решение по
заявленным истцом требованиям, - говорится в п. 3 ст. 196 ГПК РФ. - Однако суд может
выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным
законом". Один из таких случаев и подразумевается, по-видимому, в анализируемом
положении ст. 166 ГК. Но в чем может состоять цель реституции, осуществляемой судом
по собственной инициативе, помимо требования истца или третьего лица, заявляющего
самостоятельные требования относительно предмета спора? Гипотетически здесь
возможны два варианта:
--------------------------------
<285> Для арбитражного суда подобной возможности в АПК РФ в настоящее время
не предусмотрено.
а) истец (или третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно
предмета спора) не является обладателем реституционного притязания (предъявленное им
требование имеет иной предмет); реституция, стало быть, осуществляется не в его пользу,
а в пользу иного субъекта, т.е. направлена на защиту прав или интересов этого
последнего;
б) истец (или третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно
предмета спора), хотя и является субъектом реституционного притязания, однако по
каким-либо причинам не требует его осуществления (предмет требования, как и в первом
случае, иной); реституция осуществляется в его пользу по инициативе суда, а не по его
требованию.
Первая ситуация могла бы возникнуть, когда суд при рассмотрении того или иного
дела обнаружил бы факт совершения ничтожной сделки, предоставление по которой
произведено посторонними лицами, в деле не участвующими или участвующими, но не в
качестве сторон или третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно
предмета спора. Суд, разумеется, не вправе был бы осуществить реституцию по такой
сделке в рамках данного процесса, поскольку недопустимо разрешать вопросы о
субъективных правах и обязанностях лиц, не принимающих участия в деле.
Следовательно, ни о каком применении реституции судом "по собственной инициативе"
здесь не могло бы быть речи.
Такое применение возможно лишь во второй ситуации, когда суд присуждает истцу
(или третьему лицу, заявляющему самостоятельные требования относительно предмета
спора), а также ответчику (при двусторонней реституции) не то, что просит истец (третье
лицо), а то, на что он вправе претендовать в силу существующего реституционного
обязательства. Например, истец, ссылаясь на ничтожный договор аренды, который
считает действительным, требует взыскать с ответчика сумму арендной платы. Суд же,
вместо того, чтобы просто отказать в иске ввиду ничтожности договора, применяет
реституцию, т.е. присуждает ответчика к возврату нанятой им вещи истцу, хотя бы истец
этого и не требовал.
Представляется, что рассматриваемое положение ст. 166 ГК следует понимать в том
смысле, что суд вправе лишь взять на себя именно инициативу в применении реституции,
однако не осуществлять ее вопреки воле истца (или третьего лица, заявляющего
самостоятельные требования относительно предмета спора). Поэтому, если,
предположим, истец будет возражать против такой инициативы, применение реституции
не должно иметь места. При противоположном подходе невозможно было бы объяснить,
какими материальными особенностями отношений сторон ничтожной сделки обусловлено
осуществление судом реституции в целях защиты прав и интересов лиц, участвующих в
деле, и в их пользу, однако вопреки их воле. Суд не может реализовать таким образом
никакое иное гражданско-правовое притязание, поэтому объяснить подобное изъятие из
принципа диспозитивности специально для требования о реституции было бы вряд ли
возможно.
Да и при предложенном варианте толкования предл. 2 абз. 2 п. 2 ст. 166 ГК трудно
объяснить, с какими особенностями отношений сторон ничтожной сделки связана не
характерная для других притязаний возможность выступления суда с собственной
инициативой в применении реституции, когда стороны этого не требуют. К тому же, даже
если истец и не возражает против применения реституции по инициативе суда, против
этого может возражать ответчик, и, если реституция является двусторонней, такая
судебная инициатива в части реституции, осуществляемой в пользу ответчика, все равно
противоречила бы принципу диспозитивности гражданского процесса и процессуального
равенства сторон, о чем говорилось выше. Даже если предоставлением по ничтожной
сделке нарушается публичный интерес, его защита может состоять только в наказании
участников сделки, но не в реституции, поэтому и в этом случае допущение инициативы
суда в применении последней едва ли объяснимо. Если же предположить, что норма
предл. 2 абз. 2 п. 2 ст. 166 ГК, в которой не используется термин "реституция", а
говорится вообще о применении "последствий недействительности", рассчитана только на
применение конфискационных последствий, то и сохранена она должна была бы быть
исключительно для этого случая.
Непонятно также, чем руководствовался законодатель, когда легитимировал "любое
заинтересованное лицо" и даже суд "по собственной инициативе" на реституцию именно
при ничтожности, а не вообще недействительности, сделки. В самом деле, невозможно
понять, чем могло бы быть обусловлено различие реституционных отношений сторон
сделки, недействительной ipso iure, и сделки, ставшей таковой по решению суда, но с
обратной силой <286>. Думается, что, устанавливая рассмотренные правила,
законодатель, скорее всего, просто не разграничивал реституцию при ничтожности сделки
и само судебное признание ничтожности, которое в соответствии с традиционным
учением о порочности юридических актов, действительно, может производиться по
требованию любых заинтересованных лиц или судом по собственной инициативе. Это
еще один пример негативных последствий смешения указанных мер, о необходимости
четкого разграничения которых подробно говорилось выше. Учитывая, что на практике
рассмотренные в настоящем параграфе законодательные нововведения способны
привести только к недоразумениям, представляется целесообразным вообще исключить
их из ГК.
--------------------------------
<286> Из отсутствия различия между этими отношениями верно исходит А.П.
Сергеев, однако неожиданным представляется делаемый им на основании этого вывод о
том, что заявлять "требования о применении последствий недействительности оспоримой
сделки" "могут, очевидно, любые заинтересованные лица" (Сергеев А.П. Указ. соч. С. 14).
См. против этого все сказанное выше.
Теперь, когда рассмотрены общие вопросы реституции и связанные с ними спорные
моменты, перейдем к анализу отдельных ее форм, или, иными словами, обозначенных
ранее групп реституционных правоотношений.
§ 46. Реституция владения
Исходя из п. 2 ст. 167 ГК, если по недействительной сделке состоялась передача
имущества (вещи), то у получателя уже в самый момент такой передачи возникает (или
считается возникшей - при аннулировании с обратной силой оспоримой сделки)
обязанность возвратить это имущество передавшему <287>. Связано это с тем, что по
причине недействительности сделки получатель не приобретает и не может приобрести,
во всяком случае на основании этой сделки, право собственности или иное право на
предоставленное ему имущество (т.е. правовое основание владения им), по крайней мере
до тех пор, пока оно не утратит своих индивидуальных признаков <288>. Обязанность
возвратить вещь продолжает существовать, если последняя сохраняется в натуре,
находится во владении получателя и может быть идентифицирована. При отсутствии этих
условий данная обязанность заменяется другой - обязанностью компенсационной
реституции, которая будет рассмотрена ниже.
--------------------------------
<287> См. выше критику взгляда, согласно которому обязанность реституции
возникает у сторон недействительной сделки лишь в момент вступления в законную силу
решения суда.
<288> Это до недавнего времени считавшееся бесспорным положение сегодня
ставится под сомнение теми, кто рассматривает передачу вещи по договору (традицию)
как абстрактную сделку, переносящую право собственности независимо от
действительности основной, обязательственной сделки. Подробнее об этих суждениях и
их критику см. ниже, § 39, в конце.
Таким образом, требование стороны недействительной сделки о возврате
переданного по такой сделке имущества в натуре, или, другими словами, реституция
владения <289>, является не чем иным, как истребованием вещи из незаконного владения
получателя. Особенность здесь состоит в том, что незаконное владение возникает
вследствие совершения одной из сторон недействительной сделки имущественного
предоставления в пользу другой стороны. Но при этом владение последней, так же как и
владение ответчика при виндикации, является незаконным (беститульным), что
неизбежно ставит вопрос о соотношении реституции владения с виндикацией.
--------------------------------
<289> Как уже отмечалось, restitutio означает "восстановление, возобновление", в
нашем случае - восстановление владения.
В отечественной доктрине и судебной практике имеется устойчивая тенденция
строго отграничивать иски "о применении последствий недействительности сделок", в
частности о реституции владения, от виндикационных требований. В качестве
иллюстрации можно привести одно из дел, рассмотренных Высшим Арбитражным Судом
РФ, в котором истец требовал вернуть имущество, переданное по недействительной
сделке купли-продажи ответчику, из незаконного владения последнего. Суд первой
инстанции иск удовлетворил, сославшись на нормы ГК о виндикации (ст. 301). Отменяя
это решение, Президиум ВАС указал, что в данном случае возврат имущества мог быть
осуществлен лишь в порядке применения последствия недействительности сделки, т.е. на
основании ст. 167 ГК, а не путем виндикации <290>. Научно-консультативным советом
при Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа (далее - НКС ФАС СЗО)
даже было принято специальное заключение, содержащее разъяснения общего характера
об основаниях разграничения реституции и виндикации <291>.
--------------------------------
<290> Постановление Президиума ВАС РФ от 17 окт. 2000 г. N 2868/00 // Вестник
ВАС РФ. 2001. N 1. С. 26 - 28. Ниже будет дан более детальный анализ этого дела (см. §
48).
<291> См.: Заключение Научно-консультативного совета при Федеральном
арбитражном суде Северо-Западного округа от 18 дек. 1998 г. N 3 "В связи с обзором
арбитражной практики по соотношению исков об истребовании имущества
(виндикационных исков) и исков о применении последствий недействительности
ничтожных сделок в виде истребования имущества" // Справочно-правовая система
"Кодекс".
Попытки провести демаркационную линию между указанными мерами защиты
предпринимаются и в научной литературе. Очевидно стремление найти для реституции
собственную сферу применения, теоретически обосновать ее самостоятельность в системе
гражданско-правовых охранительных мер. Основательно ли это стремление, покоится ли
оно на реально существующих особенностях реституции, специфике ее правовой природы
- это и предстоит выяснить в ходе дальнейшего исследования.
Обычно при разграничении реституции и виндикации указываются следующие
основные различия между ними:
1) виндикационный иск - это средство защиты права собственности или иного права
титульного владения, в то время как в порядке реституции вещь возвращается стороне
недействительной сделки независимо от того, имеет ли она на нее какое-либо право;
2) основанием виндикационного иска является незаконное завладение имуществом,
тогда как основанием реституции служит недействительная сделка, а также переход
имущества от одной стороны к другой в силу этой последней;
3) виндикационный иск является вещным, и осуществляемая при его помощи
защита, следовательно, носит абсолютный характер, направлена против всех и каждого;
реституционное же притязание имеет обязательственную природу, оно всегда
относительно, так как существует только между сторонами недействительной сделки.
Посмотрим, насколько эти разграничительные критерии отвечают действительному
положению вещей.
1. Как известно, виндикационный иск (ст. 301, 305 ГК) является способом защиты
права собственности или иного права титульного владения. Следовательно, истцом по
нему может выступать лишь лицо, имеющее правомочие владения истребуемой вещью
(собственник, субъект ограниченного вещного права, арендатор, хранитель и т.п.).
Виндикационный иск, таким образом, представляет собой внедоговорное требование
собственника имущества (иного титульного владельца) о возврате этого имущества из
чужого незаконного владения. Соответствует ли этим признакам реституционное
притязание?
В п. 2 ст. 167 ГК ничего не сказано о том, что возможность применения реституции в
отношении сторон недействительной сделки каким-либо образом связана с вопросом о
правах традента на переданное по такой сделке имущество. Не указывалось на это и в
соответствующих нормах прежних кодификаций (ГК РСФСР 1922 г., ГК РСФСР 1964 г.).
Это побудило некоторых авторов рассматривать реституцию по сути как некое
посессорное средство защиты, не связанное с каким-либо правом, но опирающееся лишь
на факт владения имуществом до его передачи как таковой. Например, еще Г.Н.
Амфитеатров отмечал, что обладателем активной легитимации по реституционному иску
может быть и лицо, не являющееся собственником переданной по недействительной
сделке вещи <292>, имея в виду и того, кто вообще никаких прав на нее не имеет.
Имущество возвращается сторонам недействительной сделки, пишет К.И. Скловский,
"только в силу того, что оно было ранее ими же передано, но никак не потому, что
стороны имеют на него какое-либо право" <293>. К этому мнению присоединяется В.С.

Ем, излагая учение о реституции в учебнике гражданского права МГУ: "При
истребовании индивидуально-определенной вещи сторона недействительной сделки не
только не должна доказывать своего права на переданную вещь, но может и не иметь
такого права... Вещи должны быть возвращены сторонам, произведшим отчуждение по
таким сделкам независимо от права на них. <...> Индивидуально-определенная вещь,
переданная по недействительной сделке, возвращается лицу, ее передавшему, только
потому, что сделка оказалась недействительной" <294>. Данную точку зрения разделяет и
Е.А. Суханов: "...Для применения реституции, - подчеркивает он, - необходимо
доказательство недействительности соответствующей сделки, а последующий возврат
вещи производится контрагенту по сделке, в том числе и не имевшему на нее никакого
права..." <295>.
--------------------------------
<292> Амфитеатров Г.Н. Война и вопросы виндикации. С. 50 и сл.
<293> Скловский К. Защита владения, полученного по недействительной сделке. С.
35; Он же. Некоторые проблемы реституции. С. 109.
КонсультантПлюс: примечание.
Учебник "Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть" (под ред. Е.А. Суханова)
включен в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2008 (издание
третье, переработанное и дополненное).
<294> См.: Гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. Т. I. М., 2004. С. 510
и сл. См. также: Моргунов С. Указ. соч. С. 43 и сл., 46.
<295> Суханов Е.А. Вещные права и права на нематериальные объекты. С. 26.
При таком подходе соотношение виндикации и реституции предстает, по существу,
как соотношение петиторного и посессорного средств защиты <296>, первое из которых
основывается на субъективном праве, защищает право и требует доказывания права,
второе же вытекает из факта владения вещью как такового, защищает это фактическое
владение и не допускает не только доказывания, но даже и ссылок на право ни в
обоснование иска, ни в качестве возражения против него. Подобное понимание
реституции, основанное на буквальном толковании п. 2 ст. 167 ГК и допускающее
возможность использования этого средства не только собственником или иным
титульным владельцем, но и лицом, никаких прав на переданную по недействительной
сделке вещь не имеющим, т.е. в интересах незаконного владельца, представляется
неприемлемым теоретически и не соответствующим смыслу действующего гражданского
законодательства.
--------------------------------
<296> На что прямо указывает, например, С. Моргунов: "...По виндикационному
иску собственник получает обратно вещь, принадлежащую ему по праву, тогда как
обратное получение имущества неуправомоченным отчуждателем в порядке применения
правила п. 2 ст. 167 ГК РФ будет означать его фактическое владение, незаконное с точки
зрения позитивного права. Существующая сегодня конструкция двусторонней реституции
скорее может рассматриваться как частный случай владельческой защиты (при отсутствии
ее официального закрепления в законе), нежели частный случай виндикации..." (Моргунов
С. Указ. соч. С. 46). Посессорный характер реституции владения подразумевает и Е.А.
Суханов, который признает, как было отмечено выше, возможность осуществления
реституции в том числе и в пользу лица, не имеющего никакого права на истребуемую
вещь, и противопоставляет ее виндикации как "петиторному способу защиты" (см.:
Суханов Е.А. Вещные права и права на нематериальные объекты. С. 26).
Действительно, если встать на эту позицию и признать, что реституция производится
независимо от прав сторон на переданное ими имущество и вообще независимо от каких-
либо правовых отношений, то не ясно, каков объект подобной защиты. Поскольку это не
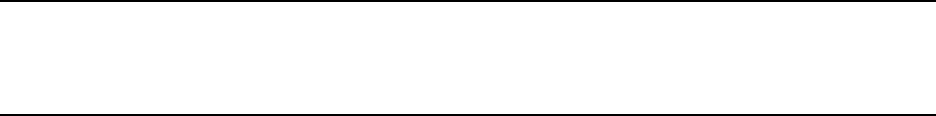
право, им, очевидно, должен быть признан какой-то охраняемый законом интерес. Такой
интерес, действительно, имеется у стороны сделки, если она, например, претендовала на
узукапию, т.е. ее владение отвечало всем требованиям, при соблюдении которых
возможно приобретение права собственности по давности (п. 2 ст. 234 ГК), и при условии,
что передача вещи фактически произошла помимо ее воли либо эта воля сформировалась
порочно. Имеются в виду сделки, недействительные вследствие недееспособности
традента, его нахождения в состоянии, в котором он не был способен понимать значение
своих действий или руководить ими, а также совершенные им под влиянием
принуждения. Наличие законного интереса в восстановлении беститульного владения
следует, вероятно, признать за потерпевшей стороной в таких сделках и при отсутствии
условий приобретательной давности: охраняемым интересом здесь будет интерес в
спокойном владении, в его защите от любых самоуправных посягательств и иных
неправомерных действий <297>, а сама реституция примет форму посессорной
(владельческой) защиты. Во всех остальных ситуациях беститульного владения
обнаружить какой-либо заслуживающий юридической защиты интерес владельца в
возврате вещи, ему не принадлежащей, которую он сам же передал другому лицу, просто
невозможно. А без объекта защиты нет, разумеется, и самой защиты <298>.
--------------------------------
<297> Именно пресечение недозволенного самоуправства составляет цель
посессорной защиты (об этом см., напр.: Рудоквас А.Д. О непрерывном, открытом и
добросовестном давностном владении // ЦивИс. I (2004). С. 183 и сл.).
КонсультантПлюс: примечание.
Учебник "Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть" (под ред. Е.А. Суханова)
включен в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2008 (издание
третье, переработанное и дополненное).
<298> Демонстрируя в учебных целях на наглядных примерах практическую
целесообразность возврата вещи в порядке реституции тому, кто никаких прав на нее не
имеет, В.С. Ем ограничился лишь вышеупомянутыми случаями недействительности
сделок, когда передача вещи происходит фактически помимо воли традента (см.:
Гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. Т. I. М., 2004. С. 511).
Действительно, в таких случаях посессорная реституция как форма посессорной защиты
вполне уместна и допустима. Однако автор не привел примера, когда бы было
целесообразно вернуть вещь стороне недействительной сделки независимо от прав на нее
в остальных случаях, т.е. когда вещь была передана сознательно и добровольно, например
по сделке, не соответствующей закону (ст. 168 ГК). Думается, это не случайно, ибо
допущение посессорной реституции в таких случаях было бы просто необъяснимым с
точки зрения целей правового регулирования.
В связи с изложенным подход, опирающийся на буквальное толкование предписания
п. 2 ст. 167 ГК и усматривающий в нем достаточное основание для защиты незаконного
владения, утраченного вследствие передачи вещи по недействительной сделке,
представляется сугубо формальным. Он не согласуется с принципами владельческой
защиты, а тем более с действующим российским законодательством, которому эта защита
в ее классическом виде вообще неизвестна <299>. По этой же причине, пока российским
ГК не воспринята определенная концепция посессорной защиты, невозможно и точное
указание случаев, в которых имущество, переданное незаконным владельцем по
недействительной сделке, подлежит возврату. Так, на базе действующего
законодательства невозможно решить, например, вопрос о том, допустима ли такая
защита, если вещь была передана по недействительной сделке незаконным владельцем
добровольно, но под влиянием обмана; или если вещь, переданная по такой сделке
малолетним, была им ранее похищена. Во всяком случае, в отсутствие полноценного
института владельческой защиты строить на п. 2 ст. 167 ГК концепцию этой защиты
представляется по меньшей мере странным.
--------------------------------
<299> Единственная ясно выраженная норма о защите фактического владения,
содержащаяся в российском ГК, предусмотрена лишь для случая, когда владелец
претендует на приобретение права собственности по давности владения (п. 2 ст. 234).
Существует также мнение, что узукапиент является обладателем права владения, которое
и охраняется этой нормой (см., напр.: Рудоквас А.Д. Указ. соч. С. 181).
Иначе рассуждают сторонники "неограниченной" реституции. Не задумываясь об
объекте защиты, они делают акцент на том, что независимо от наличия или отсутствия у
истца прав на вещь, последнюю во всяком случае недопустимо оставлять у того, кто
определенно никаких прав на нее не имеет. "Единственное рациональное объяснение...
(ограничению реституции. - Д.Т.), - пишет К.И. Скловский, - может состоять только в том,
что нельзя отдавать вещь тому, у кого, по видимости, нет права на нее. Но если исходить
из этого, то как можно оставлять вещь у того, у кого несомненно нет права на нее? ...Суд,
отказывая в реституции потому, что истец не доказал права на вещь, оставляет вещь
ответчику, у которого права нет без всякого доказывания. Иначе, как крайне нелогичным,
чтобы не сказать бессмысленным, такой подход назвать невозможно" <300>.
--------------------------------
<300> Скловский К. Некоторые проблемы реституции. С. 112.
Из приведенного высказывания понятно, почему его автор отдает предпочтение в
споре истцу: хотя тот и не доказал своего права, это еще не означает, что у него права нет,
а вот ответчик не имеет права бесспорно, поэтому вещь нужно у него отобрать и передать
истцу. По существу, речь идет не о чем ином, как о провизорной владельческой защите
(хотя в классическом варианте владельческая защита исключает не только доказывание
права, но даже и предположение о нем). Не останавливаясь на этом вопросе более
подробно, отметим лишь, что такой подход не должен и не может быть универсальным.
Как было показано, он оправдан лишь в тех ситуациях, когда воля одной из сторон при
совершении сделки и передаче вещи либо отсутствует совсем (психическое расстройство,
малолетство), либо сформировалась под влиянием неправомерных действий получателя
вещи или - с его ведома - третьего лица. В противном случае нет и предпосылок для
владельческой защиты <301>.
--------------------------------
<301> На утверждение К.И. Скловского о том, что в своих работах я будто бы
призываю ликвидировать те немногие элементы защиты фактического владения, которые
существуют в нашем законодательстве (Там же. С. 110), замечу, что, напротив, мной
неоднократно подчеркивалась необходимость восстановления полноценного института
посессорной защиты. Другое дело, и в этом мое глубокое убеждение, что любая правовая
защита, в том числе и защита незаконного владения, не может быть самодовлеющей и
самоценной; она должна опираться на определенные принципы и основания, иметь
некоторый объект - охраняемый законом интерес. Такой интерес, однако, невозможно
обнаружить у дееспособной стороны недействительной сделки, если, передавая не
принадлежащее ей имущество, она действовала осознанно и добровольно.
Обращая далее внимание на проблему доказывания, К.И. Скловский упускает из
виду презумпцию права собственности фактического владельца, сформулированную еще
до революции и подтвержденную Верховным Судом РСФСР в середине 20-х годов, хотя и
в достаточно ограниченных пределах - только применительно к спорам "между частными
лицами одного класса (трудящимися и нетрудящимися между собой)" <302>. Эта
презумпция, не получившая прямого закрепления в нашем законодательстве, тем не менее
единодушно признавалась доктриной <303>. В самом деле, странно было бы требовать,
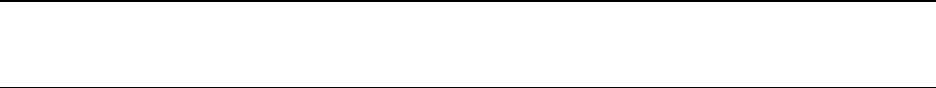
например, от гражданина, предъявившего иск о возврате украденных у него из квартиры
вещей, доказательств его права собственности на все эти вещи. Такое доказывание было
бы практически невозможным, поскольку требовалось бы не только установить, как и у
кого истец приобрел истребуемое имущество, но и проверить законность всех сделок,
предшествовавших его приобретению (так называемая probatio diabolica). В
действительности, учитывая названную презумпцию, истцу достаточно лишь доказать,
что до факта кражи вещами владел именно он; доказывать же отсутствие у истца какого-
либо права должно быть предоставлено ответчику, если, конечно, этот факт не будет
явствовать из иных обстоятельств дела или не будут иметься другие сомнения
относительно права виндиканта. Таким образом, при отстаиваемом мной ограничении
реституции речь идет лишь о том, что, если нет указанных выше предпосылок для
посессорной защиты и доказано отсутствие у истца прав на истребуемое имущество, в
реституции должно быть отказано. При противоположном подходе воспользоваться
реституцией мог бы, теоретически, даже вор, продавший краденое, а затем потребовавший
его обратно на основании п. 2 ст. 167 ГК.
--------------------------------
<302> См.: Определение ГКК Верховного Суда РСФСР от 11 марта 1924 г. по делу
Якунина // Еженедельник советской юстиции. 1924. N 14. С. 332 и сл. О презумпции права
собственности владельца в русском дореволюционном праве см., напр.: Журналы
Редакционной комиссии, Высочайше учрежденной для составления проекта Гражданского
уложения. Проект книги III (вотчинное право). СПб., 1904. С. 98.
<303> См., напр.: Венедиктов А.В. Государственная социалистическая
собственность. М.; Л., 1948. С. 578 - 581; Иоффе О.С. Ответственность по советскому
гражданскому праву. С. 128; Халфина Р.О. Право личной собственности граждан в СССР.
М., 1955. С. 133 и сл., 163; Генкин Д.М. Право собственности в СССР. С. 57, 83, 88, сн. 1;
Маслов В.Ф. Осуществление и защита права личной собственности в СССР. М., 1961. С.
197, 201 - 209; Толстой Ю.К. Спорные вопросы учения о праве собственности // Сборник
ученых трудов СЮИ. Вып. 13. Свердловск, 1970. С. 80.
Наконец, трудно понять настойчивое стремление сторонников "неограниченной"
реституции обосновать изъятие вещи у ее незаконного владельца (получателя по сделке)
во что бы то ни стало, пусть и не в пользу собственника. Вдвойне трудно, когда такое
стремление проявляет автор, постоянно культивирующий идею консервации состояния
разделенности владения и собственности <304> и склонный отстаивать защиту
незаконного владения даже там, где для нее, казалось бы, нет никаких оснований <305>.
Почему же при равной неуправомоченности как истца, так и ответчика предпочтение
должно быть отдано первому, который уже даже не является фактическим владельцем
спорной вещи?! Где тут логика и смысл, в отсутствии которых автор упрекает
критикуемую им позицию, базирующуюся на ясном принципе: In pari causa possessor
potior haberi debet?! <306> Во всяком случае, объяснение такого решения тем, что будто
бы "нужды оборота заставляют скорее вернуть имущество тому, кто, возможно, не имеет
на него права, чем вовсе исключать неправильно отчужденную вещь из оборота" <307>,
что при возврате вещи неуправомоченному траденту увеличиваются шансы на ее возврат
в конечном счете собственнику и, таким образом, на обратное включение в оборот <308>,
выглядит, мягко говоря, надуманным <309>.
--------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Статья К. Скловского "Приобретательная давность" включена в информационный
банк согласно публикации - "Российская юстиция", 1999, N 3.
<304> См., напр.: Скловский К. Приобретательная давность // Закон. 1995. N 8. С.
113; Он же. Защита владения при признании договора недействительным // Российская
юстиция. 1998. N 6; Он же. Проблемы собственности и владения в гражданском праве
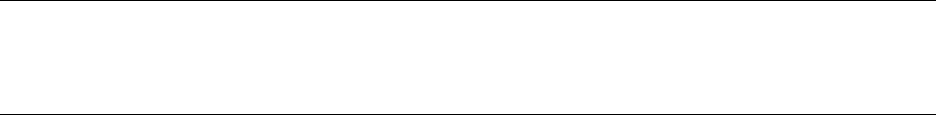
России: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1999. С. 12. Заметим, что это состояние,
само по себе аномальное и как таковое лишенное каких-либо позитивных моментов,
напротив, in concreto требует своего скорейшего устранения, а не консервации (подробнее
см. ниже, § 49, а также: Тузов Д.О. Приобретение имущества от неуправомоченного
отчуждателя: сложный юридический состав или приобретательная давность? //
Российская юстиция. 2003. N 6. С. 40).
<305> Помимо рассматриваемой темы реституции в пользу неуправомоченного лица
сошлюсь также на защиту добросовестного приобретателя против иска об изъятии у него
вещи, в которой этот автор усматривает защиту незаконного владения (подробно см.
ниже, § 49).
<306> Paul. 19 ad ed., D. 50, 17, 128 pr. (лат.) - "В равных условиях владелец должен
считаться имеющим преимущество".
КонсультантПлюс: примечание.
Учебник "Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть" (под ред. Е.А. Суханова)
включен в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2008 (издание
третье, переработанное и дополненное).
<307> Скловский К. Некоторые проблемы реституции. С. 109. Ср.: Гражданское
право / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. Т. I. М., 2004. С. 512 (автор главы - В.С. Ем):
"Возлагая на сторону сделки обязанность возвратить индивидуально-определенную вещь,
переданную во исполнение недействительной сделки, непосредственно по причине ее
недействительности и не связывая эту обязанность с правом лица, передавшего вещь,
закон учитывает, что у лица, получившего индивидуально-определенную вещь по
недействительной сделке, не возникает никакого права на нее. Поэтому в интересах
стабильности оборота индивидуально-определенная вещь во всех случаях возвращается
лицу, передавшему ее по недействительной сделке".
<308> См.: Скловский К. Некоторые проблемы реституции. С. 111.
<309> Остается, в частности, неясным, каким именно образом это решение
удовлетворяет интересы стабильности оборота. Непонятно, почему вещь, находясь у
одного незаконного владельца, "исключена из оборота", а находясь у другого, столь же
незаконного (если незаконность вообще может иметь степени сравнения), - включена в
оборот.
Неудивительно поэтому, что толкование п. 2 ст. 167 ГК в смысле "неограниченной"
реституции не было воспринято судебно-арбитражной практикой. В этом отношении
интерес представляют несколько дел, рассмотренных Президиумом Высшего
Арбитражного Суда РФ.
Прокурор Самарской области в защиту государственных и общественных интересов
обратился в арбитражный суд с иском к ЗАО "Нефтехиммонтаж" и ООО "Эрика" о
признании недействительным договора аренды зданий, заключенного между ответчиками,
и о применении последствий недействительности этой сделки. Суд признал сделку
недействительной и в порядке реституции возвратил здания арендодателю - ЗАО
"Нефтехиммонтаж". В качестве одного из оснований отмены этого решения Президиум
ВАС указал следующее: "Вопреки собственному выводу об отсутствии у ЗАО
"Нефтехиммонтаж" каких-либо вещных прав на спорные здания, суд первой инстанции
передал здания в его владение" <310>.
--------------------------------
<310> Постановление Президиума ВАС РФ от 20 июля 1999 г. N 3203/99 // СПС
"КонсультантПлюс: Арбитраж".
В Постановлении по другому делу Президиум ВАС, отменяя постановление суда
апелляционной инстанции, применившего последствия недействительности сделки в виде
возврата имущества истцу, указал, что "на момент обращения с исковыми требованиями о
признании недействительной сделки о передаче имущества... у истца отсутствовали
правовые основания владения спорным имуществом" <311>. Еще в одном случае
Президиум ВАС отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое
рассмотрение в связи с тем, что суд, возвращая в порядке реституции здание, переданное
истцом ответчику по недействительной сделке, не установил, имел ли истец на это здание
право собственности <312>.
--------------------------------
<311> Постановление Президиума ВАС РФ от 26 янв. 1999 г. N 2800/98 // Вестник
ВАС РФ. 1999. N 5. С. 64 и сл.
<312> Постановление Президиума ВАС РФ от 18 февр. 1997 г. N 3527/96 // Вестник
ВАС РФ. 1997. N 5. С. 113.
Можно было бы привести и другие примеры, подтверждающие данную тенденцию в
практике рассмотрения дел о реституции арбитражными судами <313>. Кроме того, в
упоминавшемся уже заключении НКС ФАС СЗО прямо говорится, что "иски о
применении последствий недействительности ничтожных сделок в виде истребования
имущества являются гражданско-правовыми средствами защиты интересов
СОБСТВЕННИКА И ТИТУЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ" (выделено мной. - Д.Т.). Изложенная
позиция арбитражных судов представляется совершенно правильной и заслуживает
закрепления в руководящих разъяснениях высших судебных органов, имеющих общий
характер. Вместе с тем приходится констатировать, что практика, ощущая реальные
потребности гражданского оборота, идет пока что впереди теории, отказываясь от
буквального толкования п. 2 ст. 167 ГК и вытекающего из него неверного представления о
реституции владения как посессорном средстве защиты.
--------------------------------
<313> См., напр.: Постановление Пленума ВАС РФ от 21 окт. 1993 г. N 24 // Вестник
ВАС РФ. 1994. N 2; Постановление Президиума ВАС РФ от 1 апр. 1997 г. N 5207/96 //
Вестник ВАС РФ. 1997. N 7. С. 79 и сл.; Приходько И. Недействительность сделок и
арбитражный суд: процессуальные аспекты // ХП. 2000. N 5. С. 97. Имеются, однако, и
отступления от этой общей тенденции, когда имущество, переданное по недействительной
сделке, возвращается стороне, не имеющей никаких прав на него (см.: Постановление
Президиума ВАС РФ от 13 янв. 1998 г. N 3200/97 // Вестник ВАС РФ. 1998. N 5. С. 26 и
сл.).
2. Иногда различие между реституцией владения и виндикацией проводят по
ОСНОВАНИЯМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ соответствующих притязаний. Если основанием
виндикационного иска, писал Д.М. Генкин, является НЕЗАКОННОЕ ЗАВЛАДЕНИЕ
имуществом, то "в случаях реституции по сделкам, являющимся недействительными,
отношения между сторонами складываются иначе: здесь нет незаконного завладения
имуществом, имущество перешло В СИЛУ сделки" <314> (выделено мной. - Д.Т.). Говоря
о "незаконном завладении" имуществом как отличительном признаке основания
возникновения виндикационного притязания, Д.М. Генкин, по всей видимости, имел в
виду, что собственник в этом случае утрачивает владение вещью ПОМИМО СВОЕЙ
ВОЛИ.
--------------------------------
<314> Генкин Д.М. Право собственности в СССР. С. 193, 202.
Использование волевого критерия для разграничения реституции и виндикации
можно встретить и в современной литературе. "...При совершении сделки, - пишет,
например, С. Моргунов, - имущество выбывает из владения собственника по его воле,
что... исключает применение виндикации" <315>.
--------------------------------
<315> Моргунов С. Указ. соч. С. 45 и сл. См. также с. 44.
