Спивак Д.Л. (отв. ред.) Фундаментальные проблемы культурологии : В 4 т. Том III: Культурная динамика
Подождите немного. Документ загружается.

Динамика культурных образов мира
М. В. Покачалов
Государственная академия славянской культуры, Москва
античный мир и проблема КриЗиса Культуры
в теоретичесКих исслеДованиЯх начала хх веКа
На рубежах эпох с особой остротой встают проблемы смены культурных типов, ценно-
стных ориентиров, мировоззрения. Духовные потрясения конца XIX — начала XX столе-
тия в Европе и России стимулировали напряженный творческий поиск философами, поэта-
ми, прозаиками, художниками ответов на катастрофические вызовы новой реальности. При
этом кризис современной им культуры рассматривался в сопоставлении с аналогичными яв-
лениями типологически близких эпох, особенно античности.
На фоне философских споров начала ХХ столетия о судьбе европейской культуры, в поле-
мике с западными мыслителями развивались идеи ведущих представителей русского симво-
лизма, давших свои трактовки проблемы кризисов мировых культур, в том числе античной.
Наследие символистов-культурологов, вскрывающих проблему кризисов древних циви-
лизаций, остается мало изученным, из области комплексного анализа выведены журналы
«Аполлон», «Весы», «Золотое руно», «Труды и дни», сами названия которых говорят об осо-
бом интересе их авторов к античности.
Одним из первых провозвестников общего кризиса европейской культуры на рубеже ХIХ–
ХХ веков стал Фридрих Ницше (1844–1900). Он же первым заставил европейцев по-иному
взглянуть на античность. Кризисы в культуре, по его мнению, закономерны, они отверга-
ют идею прогресса в развитии человечества. В каждой культуре возможны спады, возвраты
в прошлое, паузы и провалы. Для Ницше современный ему кризис культуры — это прежде
всего кризис христианского мировоззрения.
Важное значение для культурологии имело ницшеанское различение аполлоническо-
го и дионисийского начал в культуре. Они были прослежены немецким мыслителем в
истории древней Греции, однако их противопоставление и взаимовлияние применимо,
на взгляд философа, не только к античности, но и ко всей последующей культурной ев-
ропейской традиции. Нарушение гармонии аполлонического и дионисийского характе-
ризовалось, по мысли философа, обострением духовного кризиса. Ницшеанские идеи
послужили отправной точкой для теоретических построений русских символистов —
работы о кризисе культуры Белого, Волынского, Мережковского. В полемике с Ницше
Вяч. Иванов создал свою концепцию античности, в центре которой находилось диони-
сийство. В дионисийстве Иванов, в отличие от Ницше, открывал элементы предвосхи-
щения христианства.
Одним из самых ярких теоретиков кризиса европейской культуры начала ХХ века стал
Освальд Шпенглер (1880–1936). Его книга «Закат Европы» (первый том был опубликован в
1918 г.) знаменовала конец целой исторической эпохи и предвещала скорую гибель современ-
ной западной цивилизации.
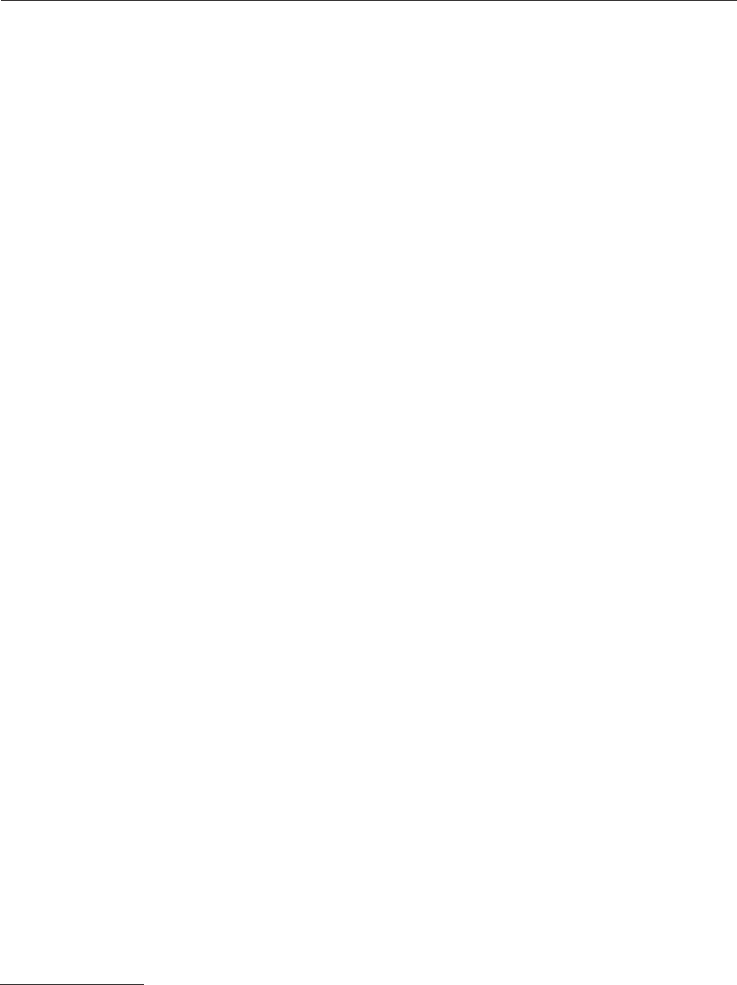
Античный мир и проблема кризиса культуры в теоретических исследованиях начала ХХ в. 331
Культурологическая концепция Шпенглера базируется на соотношении и противопостав-
лении понятий «культура» и «цивилизация». Термином «цивилизация» мыслитель обозна-
чал позднейший этап развития той или иной культуры, расцениваемый им как логическая
стадия, завершение и исход культуры, ее декаданс. Таким образом, цивилизация, по убеж-
дению философа, — это гибель культуры. Несмотря на то, что автор «Заката Европы» выде-
лял в мировой истории восемь равнозначных культур, интерес его прикован прежде всего к
античности, ибо в сознании европейцев она традиционно воспринималась в качестве истока
их собственной культуры. Однако задачей философа стал коренной, радикальный пересмотр
концепции античности. Его итогом должно было явиться доказательство принципиального
отличия «аполлонического» и «фаустовского» культурного мира, невозможности наследова-
ния черт одной культуры другой.
На примере античной истории Шпенглер рассмотрел соотношение понятий «культура» и
«цивилизация». Так, римлян он считает носителями духа цивилизации, а не культуры. Пере-
ход от культуры к цивилизации происходит в античности, на взгляд Шпенглера, в IV в. н. э.,
еще через столетие она окончательно перестает существовать. Таким образом, согласно его
концепции, кризис культуры является ее гибелью. Подобную позицию отвергали ведущие
представители русского символизма.
В России были свои предшественники О. Шпенглера1. Еще в 1871 году Н. Я. Данилевский в
книге «Россия и Европа» изложил свою концепцию культурно-исторических типов, во мно-
гом предвосхитившую идеи немецкого мыслителя. Проблема кризисов культуры и их пре-
одоления были в центре внимания И. В. Киреевского, К. Н. Леонтьева, С. Л. Франка.
Тема кризисов культур получила глубокое развитие в философии Н. А. Бердяева (1874–
1948). Его концепция имеет сходные черты со шпенглеровской, однако он не считает циви-
лизацию конечной и необходимой стадией культуры, отрицая, таким образом, неотврати-
мость гибели последней.
В работах «Воля к жизни и воля к культуре» (1922), «Новое средневековье» (1924), «Человек
и машина» (1933) Бердяев связывал переход европейской культуры в стадию цивилизации с
радикальным изменением отношения человека к природе. Важно отметить, что, по Бердяеву,
цивилизация — это лишь один из путей, ведущих к переустройству жизни, путь техническо-
го преобразования, разрушающий человеческую личность. Бердяев связывал свои надежды
на преодоление европейской культурой глубокого и всестороннего кризиса, в котором она
оказалась на рубеже ХIХ-ХХ веков, с идеей религиозного преображения жизни. Именно так,
по его мнению, на закате античности христианство способствовало религиозному преобра-
зованию жизни и созданию культуры Средневековья.
Свои оригинальные трактовки кризисов культуры, смены культурных эпох, ценностных
установок, выраженные как в теоретических работах, так и в художественной прозе и поэ-
зии, предложили ведущие представители русского символизма.
Видным теоретиком символизма являлся Эллис (Л. Л. Кобылинский) (1879–1947), предло-
живший ряд различных определений понятия «культура», а также принципы типологизации.
1 См. Белый А. Основы моего мировоззрения / Вступ. ст., публ. и примеч. Л. А. Сугай // Лит. обозрение.
1995, № 4/5. С. 27.

М. В. Покачалов 332
Процесс развития культуры видится Эллису как восхождение по бесчисленным ступеням
к единой цели; каждая эпоха как бы завещает свои ценности последующей. Такая позиция —
полная противоположность историко-культурной концепции Шпенглера и других предста-
вителей теории «локальных цивилизаций». Подчеркивая преемственность мировых культур,
Эллис утверждал, что религиозное искусство, обращаясь к будущему, должно использовать
наследие прошлого, прежде всего античности, с ее «тайной мудростью» мистерий. Связь ев-
ропейской культуры с ее истоками очевидна: «греческий миф подал руку христианской ле-
генде, герои Гомера оказались братьями крестоносцев, рыцарей короля Артура, языческий
Арго классическим предвестником романтического и христианского Монсальвата, само Зо-
лотое руно, закатившись, взошло золотым щитом хранителей Грааля»2. Все это является до-
казательством непреходящей сущности культуры, ее бессмертия.
О невозможности гибели культуры писал русский поэт и мыслитель А. А. Блок (1880–1921),
подобно Шпенглеру (но предвосхищая его), связывавший наступление культурных кризи-
сов с переходом культуры в стадию цивилизации, с крушением прежних идеалов. Совре-
менный ему духовный кризис он объяснял крахом гуманистических ценностей, которые в
свое время не смогли затронуть народные массы. Вслед за Ницше Блок употребляет поня-
тие «дух музыки» для характеристики цельности, ритма, гармонии бытия. Эпохи, в которые
не нарушается равновесие телесного и духовного начал, Блок называет культурными эпоха-
ми, в противоположность другим, где целостное восприятие мира непосильно для носите-
лей старой культуры вследствие прилива новых звуков, «переполнения слуха доселе незна-
комыми созвучиями»3. Римская империя «погибла окончательно лишь в V столетии нашей
эры; но еще до наступления нашей эры ее сотрясали постоянные музыкальные бури; а в нача-
ле эры Тацит пел мощь и свежесть грядущей в мир новой, варварской расы. Это значило, что
смертный приговор римской цивилизации уже произнесен: громадная империя как бы пог-
рузилась в тень и вышла из мира задолго до окончания своего земного исторического пути,
и в мире того времени действовала уже другая сила, новая культурная сила, хранившаяся до
времени под землею, в христианских катакомбах, а затем — вступившая в союз с движением,
пришедшем на смену культуре античной, выродившейся в римскую цивилизацию»4.
Параллели с античностью, особенно с Римом, весьма характерны для теоретических работ
Блока. У него был особый взгляд на проблему падение великой цивилизации, нашедший выра-
жение в статье «Катилина» (1918). Республика I века до н. э. — это уже «триумфально гниющий
Рим». Поэт писал по этому поводу следующее: «Я не хочу множить картин бесстыдства и уродст-
ва. Я хотел бы, чтобы читатели сами дополнили их при помощи воображения; в этом пусть по-
может им наша европейская действительность. Рим был таким же студнем из многих государств,
как и современная нам Европа. Одни из этих государств были при последнем издыхании; дру-
гие еще бились в агонии, целое же полагало, что оно есть великое целое, а не студень; все были
так же сцеплены друг с другом, как нынешние; расцепить их уже не могла никакая историчес-
кая человеческая сила; все это грызлось между собой, грабило друг друга, старалось додушить
2 Труды и дни. 1912, № 6. С. 60.
3 Блок А. А. Собр. соч.: В 6-ти тт. М., 1971. Т. 5. С. 460.
4
Там же. С. 461.

Античный мир и проблема кризиса культуры в теоретических исследованиях начала ХХ в. 333
друг друга; огромное умирающее тело государственного зверя придавило миллионы людей —
почти всех людей того мира; только несколько десятков выродков дотанцовывали на его спи-
не свой бесстыдный, вырожденный патриотический танец»5. Античность перестала быть куль-
турой, превратившись в цивилизацию. Цивилизация умирает, но начинается новое движение,
вырастающее из музыкальной стихии. Подобно Ницше русский поэт-символист кладет в осно-
вание подлинной культуры дух музыки, неуничтожимый в периоды кризисов и вечно обновля-
ющийся. Революционную стихию, захлестнувшую в начале столетия Россию, можно сравнить с
дионисийской стихией в античности, обнаруженной и воспетой Ницше.
Тема кризиса культуры была в центре внимания одного из главных теоретиков символиз-
ма — Андрея Белого (1880–1934). Современники и исследователи его творчества неизменно
отмечали его восприимчивость к кризисным, трагическим явлениям бытия.
Сформировавшуюся концепцию переживания русскими символистами прошедших эпох,
в особенности античности, Н. А. Бердяев называл «александризмом». В самом общем пони-
мании, александризм − это «символ культурного синкретизма и синтетизма, стремления со-
единить, вобрать в себя все разнообразное культурное наследие минувших эпох»6. Белый
прослеживает в веках нить «александрийской культуры»: от античности к эпохе европейско-
го Ренессанса, немецкой классической философии и началу ХХ века. Он категорически не со-
гласен с позицией Ницше, осудившего александрийский период античной истории, период в
котором перекрещивались различные типы мировосприятия и культуры. Однако александ-
ризм не является самоцелью, он лишь средство для формирования «самосознающего пони-
мания мира и жизни»7.
На взгляд Белого, в каждой культуре заложены память о предыдущих и основы последу-
ющих. Идея признания самоценности всех мировых культур, их духовной преемственности
противопоставляется как концепции европоцентризма, так и теории «локальных цивилиза-
ций», выразителем которой явился О. Шпенглер. По словам Белого, «сторонники теории про-
гресса, вытаскивая нить, рассыпают все бусинки; и нет — ожерелья культуры; а Шпенглер,
ощупывая бусинку, не видит ее пронизывающей нити»8.
Подобно многим мыслителям начала века, Белый различал понятия «культура» и «циви-
лизация», определяя последнюю как кризис и упадок, разложение целого на составляющие
части. Философ считал, что кризис современной культуры заключается в смешении цивили-
зации и культуры. Однако, по мнению Белого, кризис культуры никак не означает ее гибели:
«Гибель культуры есть не гибель, а кризис, естественно отделяющий один период культуры
от другого — внутри все той же культуры»9.
О духовном единстве мировых культур, о невозможности их гибели писал в разгар первой
мировой войны А. Л. Волынский (1861–1926). В статье с весьма показательным названием
5 Там же. С. 437.
6 Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи культуры (Опыт русской культурологии середины ХIХ — на-
чала ХХ веков). М., 2000. С. 152.
7 Там же. С. 155.
8 Белый А. Указ. соч. С. 27.
9 Там же. С. 26.

М. В. Покачалов 334
«Мировая культура» (1915–1916) он разделяет «веками сложившееся убеждение, что луч-
шие культурные завоевания отдельных народов представляют собою результат, в конце кон-
цов, не столько их личных усилий на пути истории, сколько усилий целого человечества,
что для производства духовных фабрикатов требуется сотрудничество всех частей мирово-
го коллектива»10. Волынский отвергал полную самобытность культурных достижений того
или иного народа, аргументируя свою позицию многочисленными примерами древнейшей
истории человечества. Гармоническое развитие каждой из культур зависит от творческого,
мирного контакта с другими культурами, в противном случае духовные силы народов ис-
сякают. Индивидуалистические, эгоистические, националистические тенденции в культуре
нарастают в моменты кризисов (свидетелем подобного рода кризиса был сам Волынский).
Идея бессмертия культур и их духовной преемственности была близка и В. И. Иванову
(1866–1949), знатоку и ценителю античности, теоретику русского символизма. Само слово
«культура» Иванов, подобно Флоренскому11 и Бердяеву, возводит к культу предков, церков-
ному культу; только сохраняя верность своему подлинному истоку, культура может оста-
ваться собой. Преемственность мировых эпох возможна благодаря культурной памяти, ко-
торая есть связь времен. Вслед за Ф. Ницше Иванов выделяет в античности и во всей мировой
истории взаимовлияние аполлонического и дионисийского начал, попеременно доминиру-
ющих в ту или иную эпоху, однако трактует их по-иному. Его типология культур построена
на выявлении двух состояний культурного бытия — органического и критического. Крити-
ческая культура индивидуалистична по своему характеру. Органическим эпохам присуще
единство всех сторон бытия. Современную ему ситуацию Иванов рассматривал как кризис
индивидуализма, предрекая, вместе с тем, скорое наступление органической эпохи. Задачу
символизма Иванов видел в активном участии в утверждении последней.
В 1918 году Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924), признанный мэтр русского символиз-
ма, изложил суть своей историко-культурной концепции в статье «Смена культур» (опубли-
кована К. С. Герасимовым в 1977 году). Брюсов перечислил здесь практически все сущест-
вующие по сей день принципы типологизации культуры. Стоит отметить, что, по Брюсову,
культура не сводится только к религии, науке, искусству, политическим установлениям.
Древний Рим переходит от республиканской формы правления к принципату Августа и его
преемников, потом к абсолютной монархии Диоклетиана и Константина; Рим отрекается от
религии олимпийских богов и принимает христианство; но римская культура существует на
протяжении двенадцати и даже более веков. Рождение новой культуры, считает он, — одно
из редчайших явлений в мировой истории.
Историко-культурная концепция Брюсова перекликается с учением известного немец-
кого философа-просветителя И.-Г. Гердера, выдвинувшего тезис о самоценности и равно-
значности национальных культур. Брюсов рассматривает мировое историческое развитие
как непрерывный процесс, единое поступательное движение, проходящее ряд ступеней, как
цепь, в которой любое отдельное звено — одновременно цель и средство, служащее не только
10 Волынский А. Л. Мировая культура / Публ., вступ. ст. и коммент. Л. А. Сугай // Лит. учеба. 2000. Кн. 1.
С. 177.
11 См.: Флоренский П. А. Христианство и культура // Журнал Московской Патриархии. 1983, № 4. С. 53.

Античный мир и проблема кризиса культуры в теоретических исследованиях начала ХХ в. 335
переходом к последующему, но и имеющее вполне самостоятельное значение. Каждая ис-
торическая эпоха связана с предыдущей и последующей; она использует достижения сво-
их предшественников и подготавливает почву для преемников. Подобные воззрения в поэ-
тической форме Брюсов изложил в созданном в том же году венке сонетов «Светоч мысли».
Вот как он описывает процесс смены культур в своей статье: «Культуры ранней древности
гибнут все в промежуток между XII и VIII вв. до Р. Х. Но не гибнет их дух. Эллины впитыва-
ют то, что было жизненно в Эгейе; римляне учатся у этрусков; фригийцы подчиняются куль-
туре яфетидов… по всей земле идет деятельное усвоение молодыми народами начал древ-
нейших цивилизаций… Завоевания Александра Македонского разносят эллинизм по всему
Востоку. В царствах диадохов происходит… смешение культур Запада и Востока. Победонос-
ные римляне привлекают к этому обмену все страны вокруг Средиземного моря. В культуру
Римской империи вливаются как культуры Древнего Востока, так и культуры Северной Аф-
рики… и древней Италии… Вырастает единая греко-римская цивилизация, тот античный
мир, в котором, как в огромном котле, свариваются в одно целое искания и открытия целых
тысячелетий»12.
Итак, проблема кризисов культур занимала видное место в трудах отечественных и за-
рубежных мыслителей начала ХХ века. В соответствии со взглядами на историко-культур-
ное развитие человечества тех или иных мыслителей кризис культуры понимался по-разно-
му: одни исследователи склонны были видеть в нем сигнал к неизбежной гибели культуры
без возможности ее возрождения (Шпенглер); другие полагали, что кризис связан с пере-
оценкой прежних духовных основ бытия, с временной потерей связей культуры со своими
религиозными истоками (представители отечественной религиозно-философской мысли).
Русские символисты при всем многообразии своих подходов к проблеме видели причина-
ми кризиса смену различных социальных, этических и эстетических установок в рамках
культуры, нарушение связи эпох. В центре внимания исследователей начала столетия был
прежде всего кризис современной им европейской культуры, в качестве же своеобразно-
го эталона ими рассматривалась античность, переживавшая в своей длительной истории
сходные периоды.
M. V. Pokachalov
Antique world and crisis of culture in theoretical research
at the beginning of the 20th century
e present eech is contribution to one of the mo signicant subje of theoretical and hior-
ical culturology. e wide analysis of concepts, both foreign and Russian authors, is carried out in
the research, and the ecial attention is given to the culturological ideas developed by Russian sym-
bolis. e crisis of European culture at the border of 19 — 20 centuries is observed in hiorical
pereive, in comparison with typological similar phenomena, that have been occurred, in patic-
ular, in antique world.
12 Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7-ми тт. М., 1973–1975. Т. VII. С. 435.

М. В. Покачалов 336
e circle of persons (F. Nietzsche, N. A. Berdyaev, V. Y. Brusov and others), highlighted in the re-
search, was determined by the inuence, they have had on development of cultural and philosophi-
cal ideas at the beginning of XX century.
Scientic and philosophical perception of socio-cultural processes, passed in the la century, al-
lows us to underand more clearly the roots of crisis phenomena in our present. Author describes
the individual theoretical approaches of Russian philosophers, poets, writers to analysis and inter-
pretations of beginning and end of the dierent cultural worlds, changing of hiorical epochs, pro-
vides the analysis of ethical criteria, transferring of the cultural heritage and civilization’s dialog.

Е. А. Чичина
Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии
проблема эКЗистенциального выбора в античной Культуре
В современном мире, где демократические ценности и свободы декларируются высшей
ценностью, проблема выбора, проблема ответственности человека за свою деятельность, за
свои политические и личные предпочтения является одной из актуальных, если не сказать
главной, и как никогда трагической.
Саму эту проблему наиболее четко поставил экзистенциализм. Не случайно его часто на-
зывают подлинной философией человека. Экзистенциализм расстался со многими ценнос-
тями и установками традиционной метафизики. И это не случайно — именно в ХХ веке че-
ловек особенно ясно осознает неуверенность перед обстоятельствами, которые предстают не
только крайне бесчеловечными, но и предельно бессмысленными. Поэтому и свобода в эк-
зистенциализме трактуется как свобода от всего «внешнего», которое столь абсурдно и не-
привлекательно, трактуется исходящей от самого человека, от его индивидуального выбора.
Причем этот выбор определяется не осознанными внешними обстоятельствами, а тем, что у
человека внутри, «некой фатальной, мистической силой» (Э. Соловьев1), которая толкает его
на тот или иной выбор. Экзистенциальный человек отказывается принять абсурдность ми-
ра, бунтует против нее, что и влечет за собой идею свободы и необходимость выбора. Осо-
знание собственной свободы выбора зовет человека к ответственности и выступает для не-
го источником страданий.
Совершенно ясно, что в контексте экзистенциализма и личность понимается совершенно
особенно. Она трактуется как «самобытие», как проявление асоциальности. Наверное, нет
необходимости объяснять, что такое понимание свободы, выбора, личности неминуемо бу-
дет связано с безысходным трагизмом. Если мир абсурден и человек одинок, то вряд ли его
пребывание в этом мире будет окрашено радужными красками.
Поскольку для европейской культуры колыбелью является античность, то именно поэто-
му мы обращаемся к культуре античности, а конкретно, к ряду литературных и философских
источников. Чтобы оценить состояние выбора в античной культуре, попробуем определить,
волновала ли и в каком ключе человека античности собственно сама проблема выбора. Харак-
теризуя состояние выбора и свободы выбора в античности, мы должны отдавать себе отчет в
том, что хотя вполне уместно применять эти понятия в рамках этой древней культуры, но все
же необходимо помнить, что здесь они наполняются несколько иным содержанием.
Был ли свободен древний грек? И да, и нет. И в разные периоды по-своему. Для начала об-
ратим внимание на героев, описанных Гомером. Да, они, зная свою судьбу, могли выбирать.
Человек мог следовать року, но мог и обойти его. Но при этом, в первом случае он остал-
ся бы верен «кодексу чести», а во втором — терял бы героическое лицо. И как раз последнее
было невозможно для него. Почему? Для ответа на этот вопрос, надо прежде всего устано-
вить: что же двигало героями Гомера: ответственность перед обществом, государством или
1 Соловьев Э. Прошлое толкует нас. М., 1991.

Е. А. Чичина 338
внутреннее чувство? Исключать последнее не стоит, но скорее все-таки первое: им было не-
возможно противостоять судьбе именно оттого, что они перестали бы выглядеть героями
в лице общества. Стремление к внутреннему удовлетворению от собственного поступка не
столь очевидно. По крайней мере, оно не так остро.
Здесь, видимо, надо подчеркнуть, что бытие и сознание в этот период были слиты, смысл
еще не был отделен от данности. Человек ощущал свою тесную связь с миром, он следовал
экзистенции, но экзистенции бытийствующей, что характерно для традиционного обще-
ства. Эта бытийствующая экзистенция являлась, по сути, истиной откровения, что обеспе-
чивало, по мнению М. Хайдеггера, исключительную устойчивость общества. Гомер и демон-
стрирует такое общество.
В этом смысле показателен описанный им Гектор. В диалоге Гектора и Андромахи она, по-
теряв родителей и братьев, призывает мужа не вступать в открытый бой, а обороняться. Гек-
тор же не может не принять участия в сражении. «Кодекс чести» не позволяет ему этого. Хотя
он и принимает опасения Андромахи по случаю падения Трои. Безусловно здесь перед нами
классическая ситуация выбора. Гектор поставлен перед ним. Каково содержание этого выбо-
ра, другой вопрос. Подобный анализ проблемы содержится в книге Г. В. Драча «Рождение ан-
тичной философии и начало антропологической проблематики»2.
Ряд ученых считают, что внутренний мир человека у Гомера выглядит довольно расплыв-
чато и поэтому выбор не может носить индивидуального характера. Так считает, например,
И. С. Кон3. Ж. П. Вернан4 же не отрицает наличия у древнего грека центра внутренней жиз-
ни и самосознания, но подчеркивает, что надо все время иметь в виду, что личность древне-
го грека принципиально отличается от современной. В ней явлены совершенно иные измере-
ния «Я», отразившиеся в тех или иных творения, институтах или отношениях и т. п.
Если говорить о расплывчатости внутреннего мира у героев Гомера и возможности осу-
ществления ими выбора, то невозможно не обратить внимания на точку зрения Б. Снелля5,
который отмечал, что для Гомера характерно описание внешних восприятий мира, но не це-
лостности человека (термин soma обозначал живого человeка, целостность тела, для обозна-
чения психической жизни личности единого термина нет), т. е. Снелль подчеркивает, что у
Гомера не было понятия о личности как субстанциональном единстве, она представлялась
как множественность.
Г. Френкель6 же считал, что гомеровский человек представляет собой целое, а не только сум-
му тела и души. Слово для обозначения этого у Гомера есть, считал он, — это «голова» (Haupt).
Телесные и духовные органы просвечивают друг через друга, в равной степени обозначая Я».
Р. В. Гордезиани7 говорит о личностном характере выбора, осуществляемого гоме-
ровскими героями, подчеркивает индивидуальный характер их мотивации. А, скажем,
2 Драч Г. В. Рождение античной философии и начало антропологической проблематики. М., 2003.
3 Кон И. С. Открытие «Я». М., 1978.
4 Вернан Ж. П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988.
5 Snell B. Entdeckung des Geies. Hamburg, 1955. S. 23.
6 Frankel H. Dichtung und Philosophie des fruhen Griechentums. München, 1976. S. 85.
7 Гордезиани Р. В. Проблемы гомеровского эпоса. Тбилиси, 1971.

Проблема экзистенциального выбора в античной культуре 339
А. Шмитц8 вообще считает, что человечность Гектора носит внесоциальный характер,
что основным ее содержанием является осознание бессмысленности человеческого бы-
тия и безысходности человеческого существования.
Трагическое ли это сознание, или следование бытийственной экзитенции, но Гектор осу-
ществляет выбор. С одной стороны он следует неизбежному — судьбе, с другой, — не мо-
жет не отозваться на предостережения и пророчества Андромахи. Возможно, Гектор вообще
уникальный герой Гомера — в нем сопряжена и внешняя и внутренняя мотивация. А в це-
лом, человек Гомера делал выбор, который был в первую очередь предрешен судьбою. И в ос-
нове этого выбора лежали общественные нравственные регулятивы: честь, слава, стыд (при-
чем стыдно было перед обществом, а, например, не перед своими близкими, т. е. речь идет о
внешней мотивации).
Состояние выбора в античной культуре очень ярко представляет трагедия. Здесь уже не-
редко речь идет о стремление героев перехитрить судьбу. И, кстати, само обращение к ора-
кулу есть свидетельство этого (практически любое гадание есть попытка заглянуть туда,
куда человеку заглядывать не положено). Так, в трагедии Софокла «Царь Эдип» герои пы-
таются избежать страшного рока, тем самым, делая свой выбор. Сначала родители Эдипа —
царь Фив Лай и его жена Иокаста — получив страшное пророчество от оракула (что само
по себе уже представляет собой опасную игру с судьбой), что их сын убьет отца и возьмет
в жены свою мать, стремятся уйти от судьбы целым рядом поступков, главным из которых
является избавление от младенца Эдипа. Позднее и сам Эдип, тоже обратившись к ораку-
лу и узнав, что ему предписано, пытается избежать судьбы. И тем самым как раз и стре-
мится навстречу року. Этот выбор, как видно, герои осуществляют самостоятельно, и по-
скольку это, в сущности, отказ от бытийствующей экзистенции, то все оборачивается
трагедией…
В «Федре» Еврипида судьба предопределена Афродитой, мстящей Ипполиту за его отказ
от любви к ней. Богиня наказывает его любовью мачехи. Избежать этого невозможно, какие
бы ухищрения не предпринимали герои. В ХХ веке у М. Цветаевой в поэме «Федра» Афро-
дита тоже предстает виновницей трагедии (здесь богиня, по мысли поэтессы, мстит Тезею),
но у Цветаевой выстраивается совершенно другая коллизия. Здесь явлена собственно экзис-
тенциальная проблематика ХХ века, когда «истинным предстает нетранслируемая индиви-
дуальная субъективность сознания, выражающаяся в настроениях, переживаниях, эмоциях
человека» (Э. Соловьев), в частности, в любви, страсти. В рамках такой проблематики пости-
жение смысла мироощущения личности (чувств, эмоций) и есть постижение смысла мира.
Именно это, кстати, не устраивает православных литературоведов. В частности, М. М. Ду-
наев, признавая гениальность Цветаевой, отрицает божественную основу ее творчест-
ва, подчеркивая греховность его: «Никто не мог с таким исступлением, как она, восславить
8 Шмитц А. Полярность противоположностей во встрече Гектора с Андромахой (Ил. VI, 369–502)
// Цит. по кн.: Шталь И. В. К критике феноменологической, экзистенциалистской, юнгианской и
структуралистской методологии (на материале исследований буржуазным литературоведением по-
эм Гомера) // Теории, школы, концепции (критические анализы). Художественный образ и структу-
ра. М., 1975.
