Смирнов И.П. Олитературенное время. (Гипо)теория литературных жанров
Подождите немного. Документ загружается.

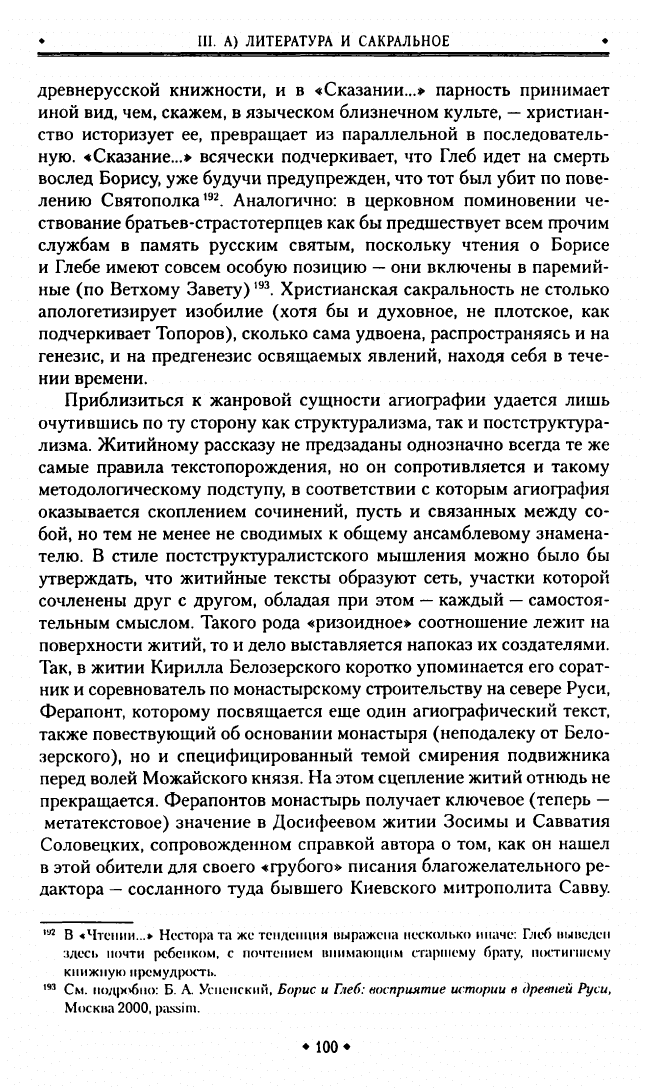
III.
А) ЛИТЕРАТУРА И САКРАЛЬНОЕ
древнерусской книжности, и в «Сказании...» парность принимает
иной вид, чем, скажем, в языческом близнечном культе,
—
христиан-
ство историзует ее, превращает из параллельной в последователь-
ную.
«Сказание...» всячески подчеркивает, что Глеб идет на смерть
вослед Борису, уже будучи предупрежден, что тот был убит по пове-
лению Святополка
192
. Аналогично: в церковном поминовении че-
ствование братьев-страстотерпцев как бы предшествует всем прочим
службам в память русским святым, поскольку чтения о Борисе
и Глебе имеют совсем особую позицию
—
они включены в паремий-
ные (по Ветхому Завету)
,93
. Христианская сакральность не столько
апологетизирует изобилие (хотя бы и духовное, не плотское, как
подчеркивает Топоров), сколько сама удвоена, распространяясь и на
генезис, и на предгенезис освящаемых явлений, находя себя в тече-
нии времени.
Приблизиться к жанровой сущности агиографии удается лишь
очутившись по ту сторону как структурализма, так и постструктура-
лизма. Житийному рассказу не предзаданы однозначно всегда те же
самые правила текстопорождения, но он сопротивляется и такому
методологическому подступу, в соответствии с которым агиография
оказывается скоплением сочинений, пусть и связанных между со-
бой,
но тем не менее не сводимых к общему ансамблевому знамена-
телю.
В стиле постструктуралистского мышления можно было бы
утверждать, что житийные тексты образуют сеть, участки которой
сочленены друг с другом, обладая при этом
—
каждый
—
самостоя-
тельным смыслом. Такого рода «ризоидное» соотношение лежит на
поверхности житий, то и дело выставляется напоказ их создателями.
Так, в житии Кирилла Белозерского коротко упоминается его сорат-
ник и соревнователь по монастырскому строительству на севере Руси,
Ферапонт, которому посвящается еще один агиографический текст,
также повествующий об основании монастыря (неподалеку от Бело-
зерского), но и специфицированный темой смирения подвижника
перед волей Можайского князя. На этом сцепление житий отнюдь не
прекращается. Ферапонтов монастырь получает ключевое (теперь
—
метатекстовое) значение в Досифеевом житии Зосимы и Савватия
Соловецких, сопровожденном справкой автора о том, как он нашел
в этой обители для своего «грубого» писания благожелательного ре-
дактора
—
сосланного туда бывшего Киевского митрополита Савву.
В «Чтении...» Нестора та же тенденция выражена несколько иначе: Глеб иынелеп
здесь почти ребенком, с почтением внимающим старшему брату, постигшему
книжную премудрость.
См.
подробно: Б. А. Успенский, Борис и
Глеб:
восприятие истории в древней Руси,
Москва 2000, passim.
• 100 •
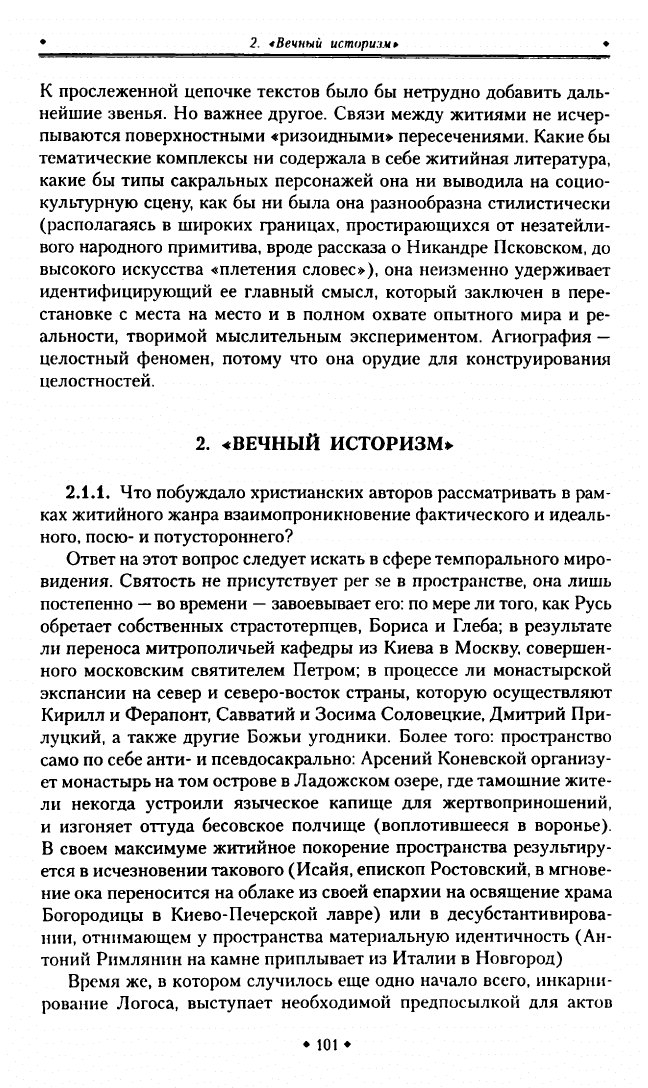
2.
*Вечныи
историзм »
К прослеженной цепочке текстов было бы нетрудно добавить даль-
нейшие звенья. Но важнее другое. Связи между житиями не исчер-
пываются поверхностными «ризоидными» пересечениями. Какие бы
тематические комплексы ни содержала в себе житийная литература,
какие бы типы сакральных персонажей она ни выводила на социо-
культурную сцену, как бы ни была она разнообразна стилистически
(располагаясь в широких границах, простирающихся от незатейли-
вого народного примитива, вроде рассказа о Никандре Псковском, до
высокого искусства «плетения словес»), она неизменно удерживает
идентифицирующий ее главный смысл, который заключен в пере-
становке с места на место и в полном охвате опытного мира и ре-
альности, творимой мыслительным экспериментом. Агиография
—
целостный феномен, потому что она орудие для конструирования
целостностей.
2.
«ВЕЧНЫЙ ИСТОРИЗМ*
2.1.1.
Что побуждало христианских авторов рассматривать в рам-
ках житийного жанра взаимопроникновение фактического и идеаль-
ного,
посю- и потустороннего?
Ответ на этот вопрос следует искать в сфере темпорального миро-
видения. Святость не присутствует per se в пространстве, она лишь
постепенно
—
во времени
—
завоевывает
его:
по мере ли
того,
как Русь
обретает собственных страстотерпцев, Бориса и Глеба; в результате
ли переноса митрополичьей кафедры из Киева в Москву, совершен-
ного московским святителем Петром; в процессе ли монастырской
экспансии на север и северо-восток страны, которую осуществляют
Кирилл и Ферапонт, Савватий и Зосима Соловецкие, Дмитрий При-
луцкий, а также другие Божьи угодники. Более того: пространство
само по себе анти- и псевдосакрально: Арсений Коневской организу-
ет монастырь на том острове в Ладожском озере, где тамошние жите-
ли некогда устроили языческое капище для жертвоприношений,
и изгоняет оттуда бесовское полчище (воплотившееся в воронье).
В своем максимуме житийное покорение пространства результиру-
ется в исчезновении такового (Исайя, епископ Ростовский, в мгнове-
ние ока переносится на облаке из своей епархии на освящение храма
Богородицы в Киево-Печерской лавре) или в десубстантивирова-
нии, отнимающем у пространства материальную идентичность (Ан-
тоний Римлянин на камне приплывает из Италии в Новгород)
Время же, в котором случилось еще одно начало всего, инкарни-
рование Логоса, выступает необходимой предпосылкой для актов
• 101 •
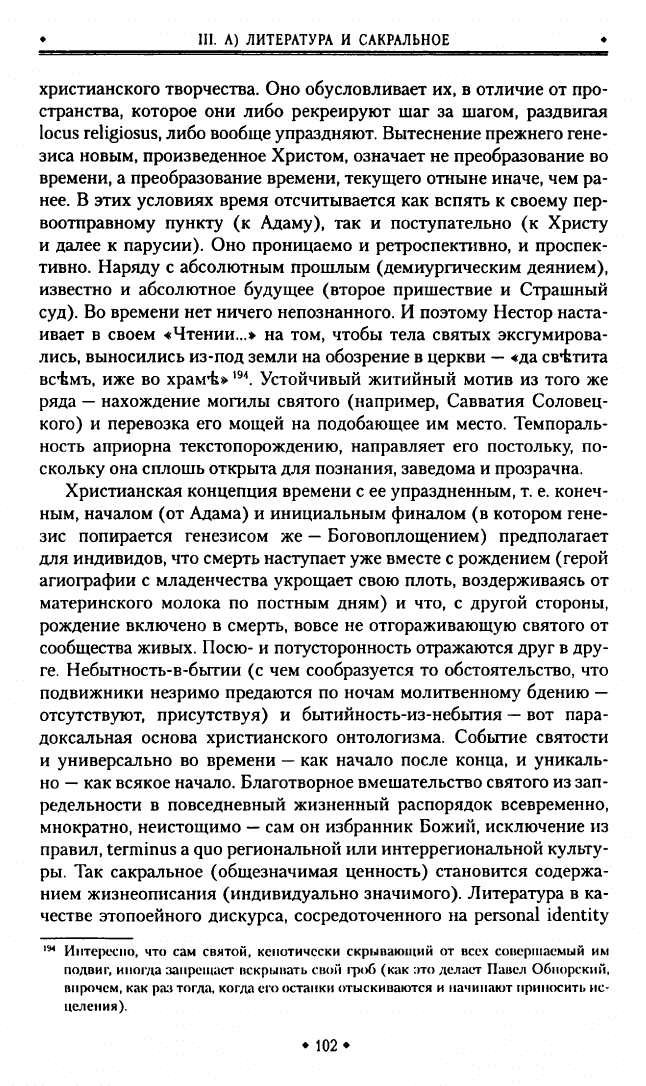
III.
А) ЛИТЕРАТУРА И САКРАЛЬНОЕ
христианского творчества. Оно обусловливает их, в отличие от про-
странства, которое они либо рекреируют шаг за шагом, раздвигая
locus religiosus, либо вообще упраздняют. Вытеснение прежнего гене-
зиса новым, произведенное Христом, означает не преобразование во
времени, а преобразование времени, текущего отныне иначе, чем ра-
нее.
В этих условиях время отсчитывается как вспять к своему пер-
воотправному пункту (к Адаму), так и поступательно (к Христу
и далее к парусин). Оно проницаемо и ретроспективно, и проспек-
тивно. Наряду с абсолютным прошлым (демиургическим деянием),
известно и абсолютное будущее (второе пришествие и Страшный
суд).
Во времени нет ничего непознанного. И поэтому Нестор наста-
ивает в своем «Чтении...» на том, чтобы тела святых эксгумирова-
лись, выносились из-под земли на обозрение в церкви
—
«да св*ктита
всЬмъ, иже во храм*й»
т
. Устойчивый житийный мотив из того же
ряда
—
нахождение могилы святого (например, Савватия Соловец-
кого) и перевозка его мощей на подобающее им место. Темпораль-
ность априорна текстопорождению, направляет его постольку, по-
скольку она сплошь открыта для познания, заведома и прозрачна.
Христианская концепция времени с ее упраздненным, т. е. конеч-
ным,
началом (от Адама) и инициальным финалом (в котором гене-
зис попирается генезисом же
—
Боговоплощением) предполагает
для индивидов, что смерть наступает уже вместе с рождением (герой
агиографии с младенчества укрощает свою плоть, воздерживаясь от
материнского молока по постным дням) и что, с другой стороны,
рождение включено в смерть, вовсе не отгораживающую святого от
сообщества живых. Посю- и потусторонность отражаются друг в дру-
ге.
Небытность-в-бытии (с чем сообразуется то обстоятельство, что
подвижники незримо предаются по ночам молитвенному бдению
—
отсутствуют, присутствуя) и бытийность-из-небытия
—
вот пара-
доксальная основа христианского онтологизма. Событие святости
и универсально во времени
—
как начало после конца, и уникаль-
но
—
как всякое начало. Благотворное вмешательство святого из зап-
редельности в повседневный жизненный распорядок всевременно,
мнократно, неистощимо
—
сам он избранник Божий, исключение из
правил, terminus a quo региональной или интеррегиональной культу-
ры.
Так сакральное (общезначимая ценность) становится содержа-
нием жизнеописания (индивидуально значимого). Литература в ка-
честве этопоейного дискурса, сосредоточенного на personal identity
,w
Интересно, что сам святой, кенотически скрывающий от всех совершаемый им
подвиг, иногда запрещает вскрывать свой гроб (как это делает Павел Обнорский,
впрочем, как раз тогда, когда его останки отыскиваются и начинают приносить ис-
целения).
• 102 •
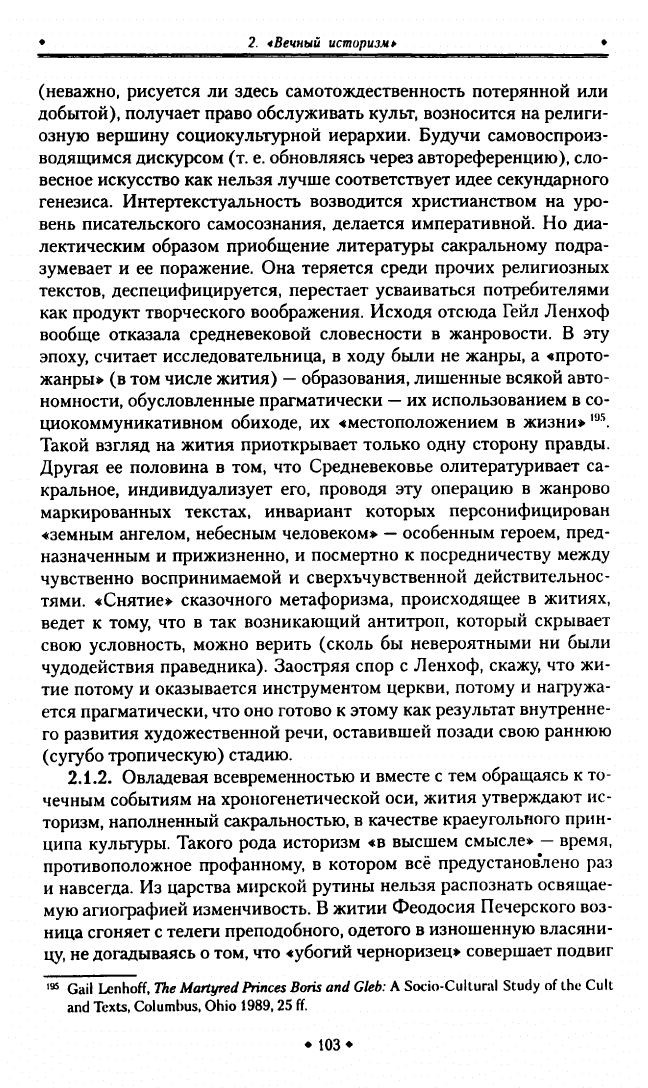
2.
4Вечный историзм*
•
(неважно, рисуется ли здесь самотождественность потерянной или
добытой), получает право обслуживать культ, возносится на религи-
озную вершину социокультурной иерархии. Будучи самовоспроиз-
водящимся дискурсом (т. е. обновляясь через автореференцию), сло-
весное искусство как нельзя лучше соответствует идее секундарного
генезиса. Интертекстуальность возводится христианством на уро-
вень писательского самосознания, делается императивной. Но диа-
лектическим образом приобщение литературы сакральному подра-
зумевает и ее поражение. Она теряется среди прочих религиозных
текстов, деспецифицируется, перестает усваиваться потребителями
как продукт творческого воображения. Исходя отсюда Гейл Ленхоф
вообще отказала средневековой словесности в жанровости. В эту
эпоху, считает исследовательница, в ходу были не жанры, а «прото-
жанры» (в том числе жития)
—
образования, лишенные всякой авто-
номности, обусловленные прагматически
—
их использованием в со-
циокоммуникативном обиходе, их «местоположением в жизни»
1ü
\
Такой взгляд на жития приоткрывает только одну сторону правды.
Другая ее половина в том, что Средневековье олитературивает са-
кральное, индивидуализует его, проводя эту операцию в жанрово
маркированных текстах, инвариант которых персонифицирован
«земным ангелом, небесным человеком»
—
особенным героем, пред-
назначенным и прижизненно, и посмертно к посредничеству между
чувственно воспринимаемой и сверхъчувственной действительное-
тями. «Снятие» сказочного метафоризма, происходящее в житиях,
ведет к тому, что в так возникающий антитроп, который скрывает
свою условность, можно верить (сколь бы невероятными ни были
чудодействия праведника). Заостряя спор с Ленхоф, скажу, что жи-
тие потому и оказывается инструментом церкви, потому и нагружа-
ется прагматически, что оно готово к этому как результат внутренне-
го развития художественной речи, оставившей позади свою раннюю
(сугубо тропическую) стадию.
2.1.2.
Овладевая всевременностью и вместе с тем обращаясь к то-
чечным событиям на хроногенетической оси, жития утверждают ис-
торизм, наполненный сакральностью, в качестве краеугольного прин-
ципа культуры. Такого рода историзм «в высшем смысле»
—
время,
противоположное профанному, в котором всё предустановлено раз
и навсегда. Из царства мирской рутины нельзя распознать освящае-
мую агиографией изменчивость. В житии Феодосия Печерского воз-
ница сгоняет с телеги преподобного, одетого в изношенную власяни-
цу, не догадываясь о том, что «убогий черноризец» совершает подвиг
195
Gail
Lenhoff,
The Martyred Princes Boris and Gleb: A Socio-Cultural Study of the Cult
and Texts, Columbus, Ohio 1989,25 ff.
• 103*
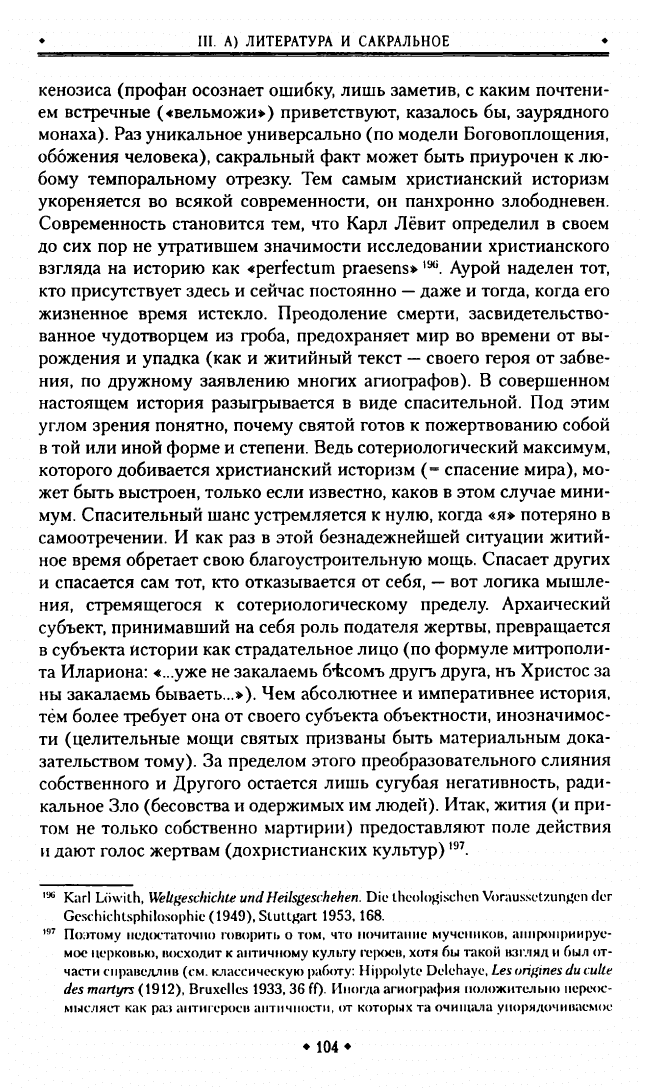
III.
А) ЛИТЕРАТУРА И САКРАЛЬНОЕ
кенозиса (профан осознает ошибку, лишь заметив, с каким почтени-
ем встречные («вельможи») приветствуют, казалось бы, заурядного
монаха). Раз уникальное универсально (по модели Боговоплощения,
обожения человека), сакральный факт может быть приурочен к лю-
бому темпоральному отрезку. Тем самым христианский историзм
укореняется во всякой современности, он панхронно злободневен.
Современность становится тем, что Карл Лёвит определил в своем
до сих пор не утратившем значимости исследовании христианского
взгляда на историю как «perfectum praesens»
m
. Аурой наделен тот,
кто присутствует здесь и сейчас постоянно
—
даже и тогда, когда его
жизненное время истекло. Преодоление смерти, засвидетельство-
ванное чудотворцем из гроба, предохраняет мир во времени от вы-
рождения и упадка (как и житийный текст
—
своего героя от забве-
ния, по дружному заявлению многих агиографов). В совершенном
настоящем история разыгрывается в виде спасительной. Под этим
углом зрения понятно, почему святой готов к пожертвованию собой
в той или иной форме и степени. Ведь сотериологический максимум,
которого добивается христианский историзм (- спасение мира), мо-
жет быть выстроен, только если известно, каков в этом случае мини-
мум. Спасительный шанс устремляется к нулю, когда «я» потеряно в
самоотречении. И как раз в этой безнадежнейшей ситуации житий-
ное время обретает свою благоустроительную мощь. Спасает других
и спасается сам тот, кто отказывается от себя,
—
вот логика мышле-
ния, стремящегося к сотериологическому пределу. Архаический
субъект, принимавший на себя роль подателя жертвы, превращается
в субъекта истории как страдательное лицо (по формуле митрополи-
та Илариона: «...уже не закалаемь б^сомъ другъ друга, нъ Христос за
ны закалаемь бываеть...»). Чем абсолютнее и императивнее история,
тем более требует она от своего субъекта объектности, инозначимос-
ти (целительные мощи святых призваны быть материальным дока-
зательством тому). За пределом этого преобразовательного слияния
собственного и Другого остается лишь сугубая негативность, ради-
кальное Зло (бесовства и одержимых им людей). Итак, жития (и при-
том не только собственно мартирии) предоставляют поле действия
и дают голос жертвам (дохристианских культур)
197
.
Karl Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der
Geschichtsphilosophie (1949), Stuttgart 1953,168.
Поэтому недостаточно говорить о том, что почитание мучеников, ai π ι попри
и
руе-
мое церковью, восходит к античному культу героев, хотя бы такой взгляд и был от-
части справедлив (см. классическую работу: Hippolyte Delehaye, Les angines du culte
des martyrs (1912), Bruxelles 1933,36 ff)· Иногда агиография положительно переос-
мысляет как раз антигероев античности, от которых та очищала упорядочиваемое
• 104 •
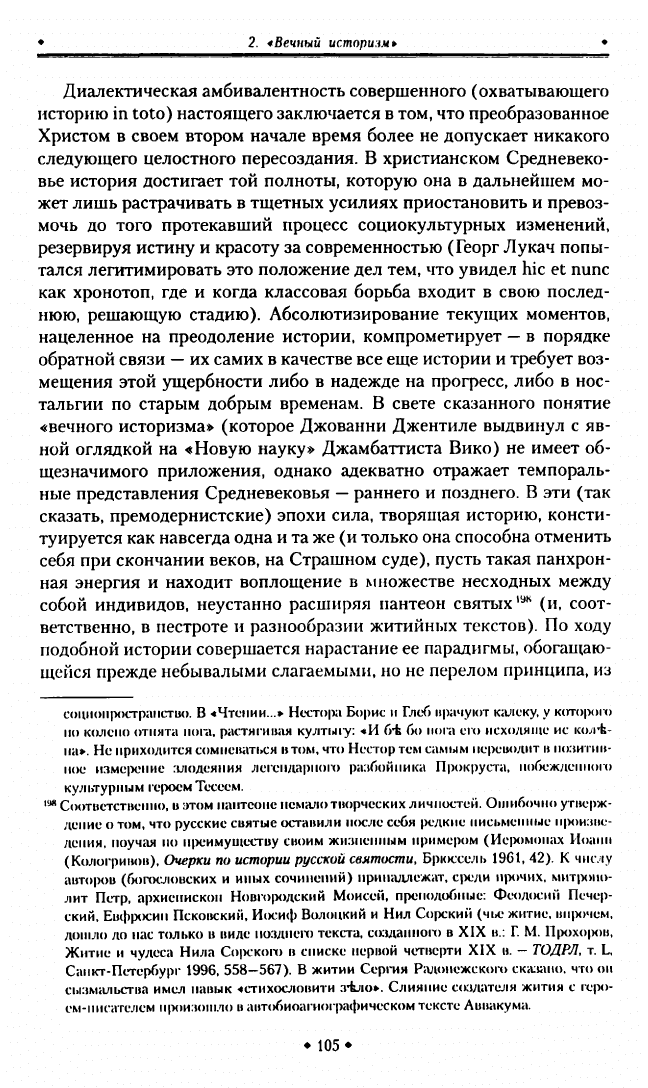
2.
* Вечный историям*
Диалектическая амбивалентность совершенного (охватывающего
историю in toto) настоящего заключается в том, что преобразованное
Христом в своем втором начале время более не допускает никакого
следующего целостного пересоздания. В христианском Средневеко-
вье история достигает той полноты, которую она в дальнейшем мо-
жет лишь растрачивать в тщетных усилиях приостановить и превоз-
мочь до того протекавший процесс социокультурных изменений,
резервируя истину и красоту за современностью (Георг Лукач попы-
тался легитимировать это положение дел тем, что увидел hic et nunc
как хронотоп, где и когда классовая борьба входит в свою послед-
нюю,
решающую стадию). Абсолютизирование текущих моментов,
нацеленное на преодоление истории, компрометирует
—
в порядке
обратной связи
—
их самих в качестве все еще истории и требует воз-
мещения этой ущербности либо в надежде на прогресс, либо в нос-
тальгии по старым добрым временам. В свете сказанного понятие
«вечного историзма» (которое Джованни Джентиле выдвинул с яв-
ной оглядкой на «Новую науку» Джамбаттиста Вико) не имеет об-
щезначимого приложения, однако адекватно отражает темпораль-
ные представления Средневековья
—
раннего и позднего. В эти (так
сказать, премодернистские) эпохи сила, творящая историю, консти-
туируется как навсегда одна и та же (и только она способна отменить
себя при скончании веков, на Страшном суде), пусть такая панхрон-
ная энергия и находит воплощение в множестве несходных между
собой индивидов, неустанно расширяя пантеон святых
198
(и, соот-
ветственно, в пестроте и разнообразии житийных текстов). По ходу
подобной истории совершается нарастание ее парадигмы, обогащаю-
щейся прежде небывалыми слагаемыми, но не перелом принципа, из
социоиространство. В «Чтении..> Нестора Борис и Глеб ирачуют калику, у которого
но колено отнята нога, растягивая култшу: «И (Л
Сю
нога его исхоляще ис коле-
на». Не приходится сомневаться
в
том, что Нестор тем самим переводит в позитнв-
пос измерение злодеяния легендарной) разбойника Прокруста, побежденного
культурным героем Тесеем.
т
Соответственно, в атом пантеоне немало творческих личностей. Ошибочно утверж-
дение о том, что русские святые оставили после себя редкие письменные произве-
дения, поучая по преимуществу своим жизненным примером (Иеромонах Иоанн
(Кологривов), Очерки по истории русской святости, Брюссель 1961, 42). К числу
авторов (богословских и иных сочинений) принадлежат, среди прочих, митропо-
лит Петр, архиепископ Новгородский Моисей, преподобные: Феодосии Псчср-
ский,
Евфросип Псковский, Иосиф Волоикий и Нил Сорский (чье житие, впрочем.
дошло до нас только в виде позднего текста, созданной) в XIX в.: Г. М. Прохоров.
Житие и чудеса Нила Сорского в списке первой четверти XIX в. -
ТОДРЛ,
т. L,
Санкт-Петербург 1996. 558—567). В житии Сергия Радонежского сказано, что он
сызмальства имел навык «стихословити .ткло». Слияние создателя жития с геро-
ем-писателем произошло
в
автобиоагиографическом тексте Аввакума.
• 105 •
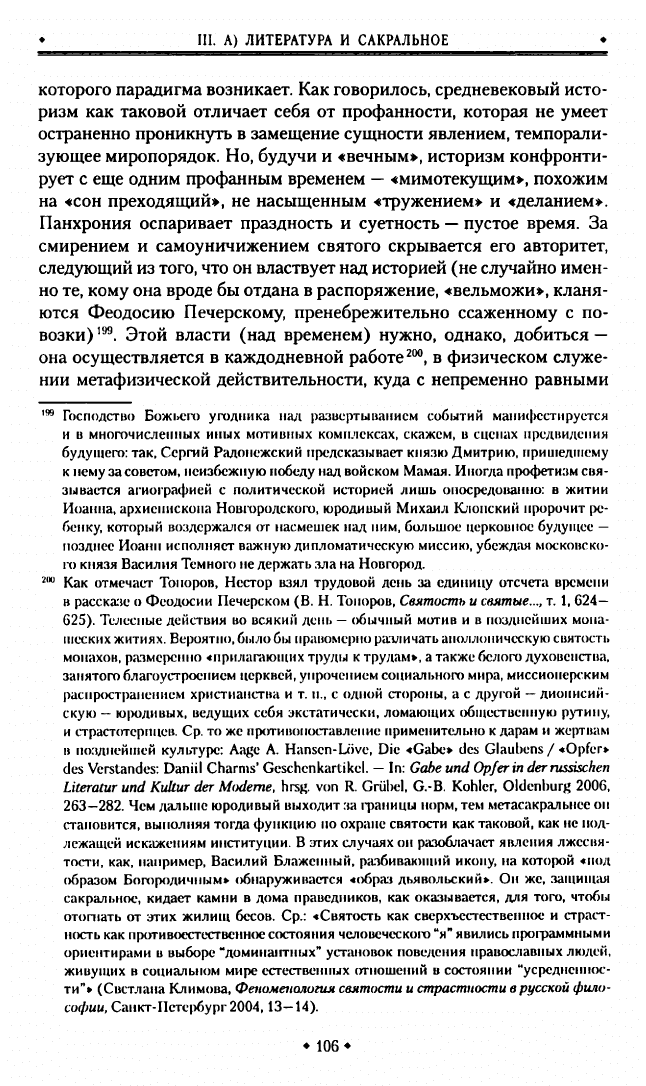
III.
А) ЛИТЕРАТУРА И САКРАЛЬНОЕ
которого парадигма возникает. Как говорилось, средневековый исто-
ризм как таковой отличает себя от профанности, которая не умеет
остраненно проникнуть в замещение сущности явлением, темпорали-
зующее миропорядок. Но, будучи и «вечным», историзм конфронти-
рует с еще одним профанным временем
—
«мимотекущим», похожим
на «сон преходящий», не насыщенным «тружением» и «деланием».
Панхрония оспаривает праздность и суетность
—
пустое время. За
смирением и самоуничижением святого скрывается его авторитет,
следующий из того, что он властвует над историей (не случайно имен-
но те, кому она вроде бы отдана в распоряжение, «вельможи», кланя-
ются Феодосию Печерскому, пренебрежительно ссаженному с по-
возки)
199
. Этой власти (над временем) нужно, однако, добиться
—
она осуществляется в каждодневной работе
20
°,
в физическом служе-
нии метафизической действительности, куда с непременно равными
199
Господство Божьего угодника над развертыванием событий манифестируется
и в многочисленных иных мотивных комплексах, скажем, в сценах предвидения
будущего: так, Сергий Радонежский предсказывает князю Дмитрию, пришедшему
к нему за советом, неизбежную победу над войском Мамая. Иногда профетизм свя-
зывается агиографией с политической историей лишь опосредованно: в житии
Иоанна, архиепископа Новгородского, юродивый Михаил Клопский пророчит ре-
бенку, который воздержался от насмешек над ним, большое церковное будущее
—
позднее Иоанн исполняет важную дипломатическую миссию, убеждая московско-
го князя Василия Темного не держать зла на Новгород.
200
Как отмечает Топоров, Нестор взял трудовой день за единицу отсчета времени
в рассказе о Феодосии Печерском (В. Н. Топоров, Святость и святые..., т. 1, 624—
G25).
Телесные действия во всякий день
—
обычный мотив и в позднейших мона-
шеских житиях. Вероятно, было бы правомерно различать аполлоническую святость
монахов, размеренно «прилагающих труды к трудам», а также белого духовенства,
занятого благоустроеписм церквей, упрочением социального мира, миссионерским
распространением христианства и т. п., с одной стороны, а с другой
—
диописий-
скую
—
юродивых, ведущих себя экстатически, ломающих общественную рутину,
и страстотерпцев. Ср. то же противопоставление применительно к дарам и жертвам
в позднейшей культуре: Aagc A. Hanscn-Lövc, Die «Gabe* des Glaubens / «Opfer»
des Verstandes: Daniil Charms' Geschcnkartikel. - In: Gabe und Opfer
in
der
russischen
Literatur und Kultur der Moderne, hrsg. von R. Grübel, G.-B. Kohler, Oldenburg 2006,
263—282.
Чем дальше юродивый выходит за границы норм, тем метасакральнее он
становится, выполняя тогда функцию по охране святости как таковой, как не под-
лежащей искажениям институции. В этих случаях он разоблачает явления лжесвя-
тости, как, например, Василий Блаженный, разбивающий икону, на которой «под
образом Богородичным» обнаруживается «образ дьявольский». Он же, защищая
сакральное, кидает камни в дома праведников, как оказывается, для того, чтобы
отогнать от этих жилищ бесов. Ср.: «Святость как сверхъестественное и страст-
ность как противоестественное состояния человеческого
"я"
явились программными
ориентирами в выборе "доминантных" установок поведения православных людей,
живущих в социальном мире естественных отношений в состоянии "усредненное-
ти"» (Светлана Климова, Феноменология святости и страстности в русской фило-
софии, Санкт-Петербург 2004,13—14).
• 106 •
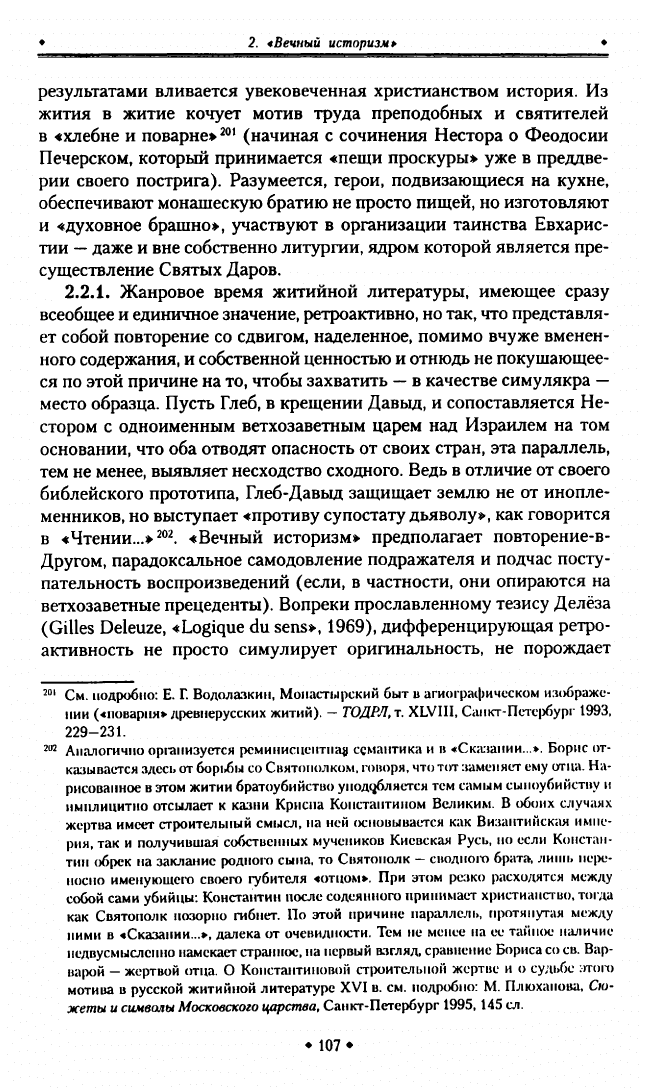
2.
4Вечный историзм
Ρ
результатами вливается увековеченная христианством история. Из
жития в житие кочует мотив труда преподобных и святителей
в «хлебне и поварне»
201
(начиная с сочинения Нестора о Феодосии
Печерском, который принимается «пещи проскуры» уже в преддве-
рии своего пострига). Разумеется, герои, подвизающиеся на кухне,
обеспечивают монашескую братию не просто пищей, но изготовляют
и «духовное брашн
о»,
участвуют в организации таинства Евхарис-
тии
—
даже и вне собственно литургии, ядром которой является пре-
существление Святых Даров.
2.2.1.
Жанровое время житийной литературы, имеющее сразу
всеобщее
и
единичное
значение,
ретроактивно,
но
так,
что
представля-
ет собой повторение со сдвигом, наделенное, помимо вчуже вменен-
ного
содержания,
и
собственной ценностью
и
отнюдь не покушающее-
ся по этой причине
на
то,
чтобы захватить
— в
качестве симулякра
—
место образца. Пусть Глеб, в крещении Давыд, и сопоставляется Не-
стором с одноименным ветхозаветным царем над Израилем на том
основании, что оба отводят опасность от своих стран, эта параллель,
тем не менее, выявляет несходство сходного. Ведь
в
отличие от своего
библейского прототипа, Глеб-Давыд защищает землю не от инопле-
менников, но выступает «шротиву супостату дьяволу», как говорится
в «Чтении...»
202
. «Вечный историзм» предполагает повторение-в-
Другом, парадоксальное самодовление подражателя и подчас посту-
пательность воспроизведений (если, в частности, они опираются на
ветхозаветные прецеденты). Вопреки прославленному тезису Делёза
(Gilles Deleuze, «Logique du sens», 1969), дифференцирующая ретро-
активность не просто симулирует оригинальность, не порождает
201
См. подробно: Е. Г. Водолазки и, Монастырский быт в агиографическом изображе-
нии («поварня* древнерусских житий). - ТОДРЛ,г. XLVIII, Санкт-Петербург 1993,
229-231.
202
Аналогично организуется рсминисцентпая семантика и в «Сказании...». Борис от-
казывается здесь от борьбы со Святополком, говоря, что тот заменяет ему отца. На-
рисованное в этом житии братоубийство уподо/Зляется тем самым сыноубийству и
имплицитно отсылает к казни Крнспа Константином Великим. В обоих случаях
жертва имеет строительный смысл, на ней основывается как Византийская импе-
рия,
так и получившая собственных мучеников Киевская Русь, но если Констан-
тин обрек на заклание родного сына, то Святополк
—
сволнот брата, лишь пере-
носно именующего своего губителя «отцом». При этом резко расходятся между
собой сами убийцы: Константин после содеянного принимает христианство, тогда
как Святополк позорно гибнет. По этой причине параллель, протянутая между
ними в «Сказании...», далека от очевидности. Тем не менее на ее тайное наличие
недвусмысленно намекает странное, на первый взгляд, сравнение Бориса со св. Вар-
варой - жертвой отца. О Константиновой строительной жертве и о судьбе этого
мотива в русской житийной литературе XVI в. см. подробно: М. Плюхапова, Сю-
жеты и символы Московского царства, Санкт-Петербург 1995, 145 ел.
• 107 •
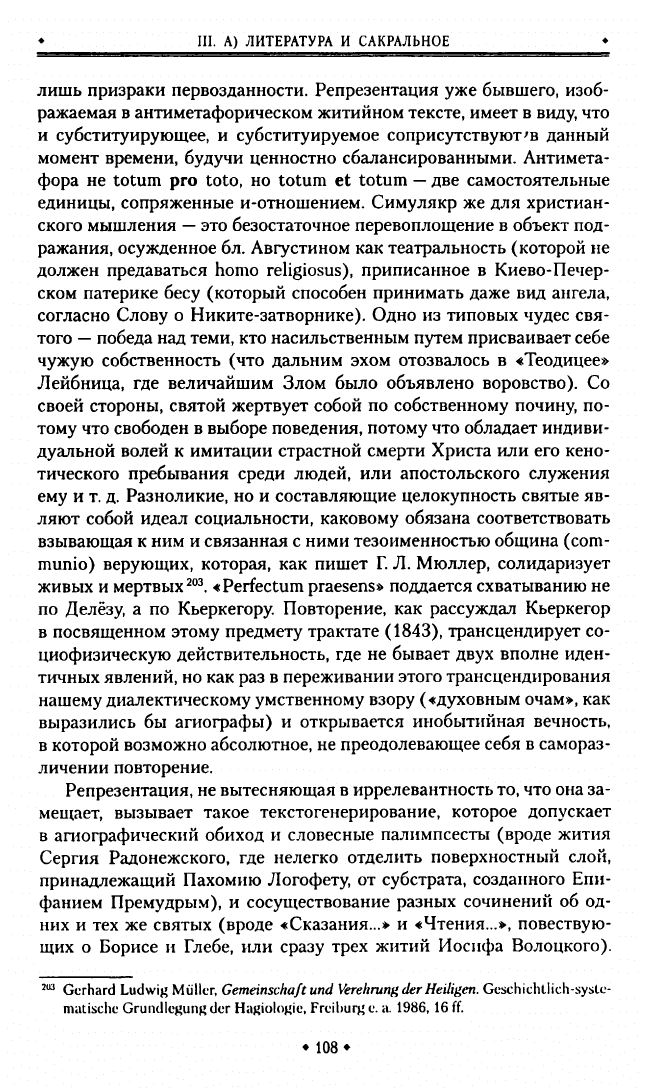
III.
А) ЛИТЕРАТУРА И САКРАЛЬНОЕ
лишь призраки первозданности. Репрезентация уже бывшего, изоб-
ражаемая в антиметафорическом житийном тексте, имеет в виду, что
и субституирующее, и субституируемое соприсутствуют'в данный
момент времени, будучи ценностно сбалансированными. Антимета-
фора не totum pro toto, но totum et totum
—
две самостоятельные
единицы, сопряженные и-отношением. Симулякр же для христиан-
ского мышления
—
это безостаточное перевоплощение в объект под-
ражания, осужденное бл. Августином как театральность (которой не
должен предаваться homo religiosus), приписанное в Киево-Печер-
ском патерике бесу (который способен принимать даже вид ангела,
согласно Слову о Никите-затворнике). Одно из типовых чудес свя-
того
—
победа над теми, кто насильственным путем присваивает себе
чужую собственность (что дальним эхом отозвалось в «Теодицее»
Лейбница, где величайшим Злом было объявлено воровство). Со
своей стороны, святой жертвует собой по собственному почину, по-
тому что свободен в выборе поведения, потому что обладает индиви-
дуальной волей к имитации страстной смерти Христа или его кено-
тического пребывания среди людей, или апостольского служения
ему и т. д. Разноликие, но и составляющие целокупность святые яв-
ляют собой идеал социальности, каковому обязана соответствовать
взывающая к ним и связанная с ними тезоименностью община (сот-
munio) верующих, которая, как пишет
Г.
Л. Мюллер, солидаризует
живых и мертвых
203
. «Perfectum praesens» поддается схватыванию не
по Делёзу, а по Кьеркегору Повторение, как рассуждал Кьеркегор
в посвященном этому предмету трактате (1843), трансцендирует со-
циофизическую действительность, где не бывает двух вполне иден-
тичных явлений, но как раз в переживании этого трансцендирования
нашему диалектическому умственному взору («духовным очам», как
выразились бы агиографы) и открывается инобытийная вечность,
в которой возможно абсолютное, не преодолевающее себя в самораз-
личении повторение.
Репрезентация, не вытесняющая в иррелевантность
то,
что она за-
мещает, вызывает такое текстогенерирование, которое допускает
в агиографический обиход и словесные палимпсесты (вроде жития
Сергия Радонежского, где нелегко отделить поверхностный слой,
принадлежащий Пахомию Логофету, от субстрата, созданного Епи-
фанием Премудрым), и сосуществование разных сочинений об од-
них и тех же святых (вроде «Сказания...» и «Чтения...», повествую-
щих о Борисе и Глебе, или сразу трех житий Иосифа Волоцкого).
2Ш
Gerhard Ludwig Müller, Gemeinschaft und
Verehrung
der Heiligen. Geschichtlich-syste-
matische Grundlegung der Hagiologic, Freiburg е. а. 1986, 16 ff.
• 108 •
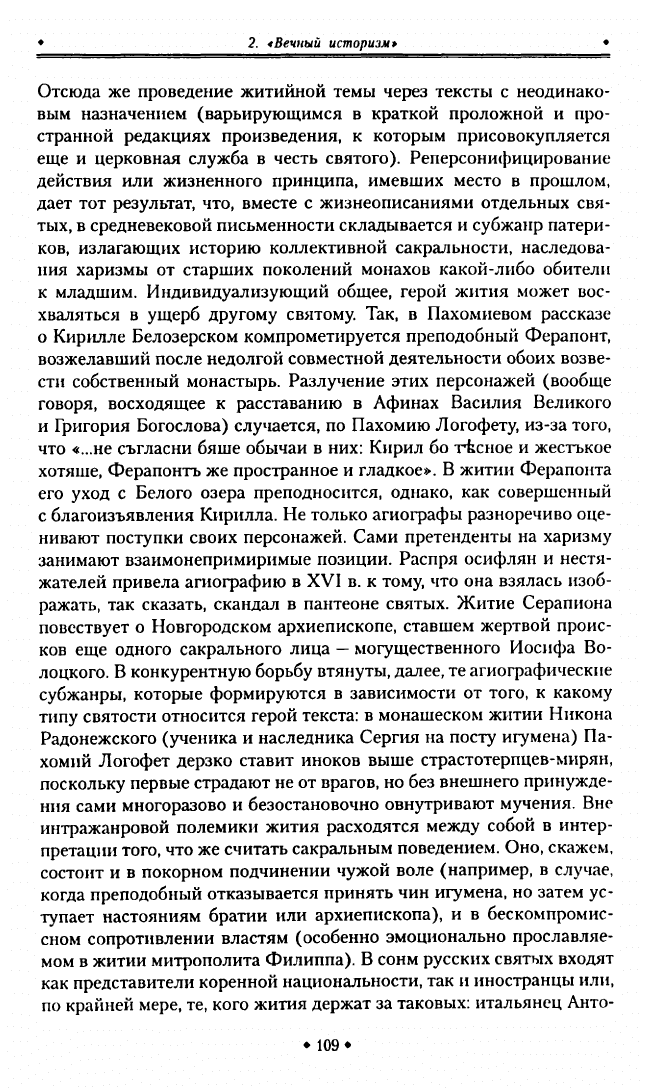
2.
4Вечный
историзм*
Отсюда же проведение житийной темы через тексты с неодинако-
вым назначением (варьирующимся в краткой проложной и про-
странной редакциях произведения, к которым присовокупляется
еще и церковная служба в честь святого). Реперсонифицирование
действия или жизненного принципа, имевших место в прошлом,
дает тот результат, что, вместе с жизнеописаниями отдельных свя-
тых, в средневековой письменности складывается и субжанр патери-
ков,
излагающих историю коллективной сакральности, наследова-
ния харизмы от старших поколений монахов какой-либо обители
к младшим. Индивидуализующий общее, герой жития может вос-
хваляться в ущерб другому святому. Так, в Пахомиевом рассказе
о Кирилле Белозерском компрометируется преподобный Ферапонт,
возжелавший после недолгой совместной деятельности обоих возве-
сти собственный монастырь. Разлучение этих персонажей (вообще
говоря, восходящее к расставанию в Афинах Василия Великого
и Григория Богослова) случается, по Пахомию Логофету, из-за того,
что
«...не
съгласни бяше обычаи в них: Кирил бо тксное и жестъкое
хотяше, Ферапонтъ же пространное и гладкое». В житии Ферапонта
его уход с Белого озера преподносится, однако, как совершенный
с благоизъявления Кирилла. Не только агиографы разноречиво оце-
нивают поступки своих персонажей. Сами претенденты на харизму
занимают взаимонепримиримые позиции. Распря осифлян и нестя-
жателей привела агиографию в XVI в. к тому, что она взялась изоб-
ражать, так сказать, скандал в пантеоне святых. Житие Серапиона
повествует о Новгородском архиепископе, ставшем жертвой проис-
ков еще одного сакрального лица
—
могущественного Иосифа Во-
лоцкого. В конкурентную борьбу втянуты, далее, те агиографические
субжанры, которые формируются в зависимости от того, к какому
типу святости относится герой текста: в монашеском житии Никона
Радонежского (ученика и наследника Сергия на посту игумена) Па-
хомий Логофет дерзко ставит иноков выше страстотерпцев-мирян,
поскольку первые страдают не от врагов, но без внешнего принужде-
ния сами многоразово и безостановочно овнутривают мучения. Вне
интражанровой полемики жития расходятся между собой в интер-
претации того, что же считать сакральным поведением. Оно, скажем,
состоит и в покорном подчинении чужой воле (например, в случае,
когда преподобный отказывается принять чин игумена, но затем ус-
тупает настояниям братии или архиепископа), и в бескомпромис-
сном сопротивлении властям (особенно эмоционально прославляе-
мом в житии митрополита Филиппа). В сонм русских святых входят
как представители коренной национальности, так и иностранцы или,
по крайней мере, те, кого жития держат за таковых: итальянец Анто-
• 109 •
