Проблемы российской истории. Вып. 10
Подождите немного. Документ загружается.

151
нии к миру. Этих вечера, как правило, завершали выступления художественной самодея-
тельности, танцы и совместное исполнение песен
50
.
Для туристов Польши, Болгарии и Венгрии была организована встреча с героем Со-
ветского Союза Алексеем Маресьевым, для венгерских туристов - с артистами и режиссе-
рами театра имени Е. Вахтангова, для польской молодежи - с артисткой Татьяной Самойло-
вой. Также проводились встречи иностранных туристов с руководящими комсомольскими
работниками, работниками министерств высшего образования, сельского хозяйства и дру-
гих ведомств. Не менее насыщенной была и экскурсионная программа, в которую, наряду с
посещением Третьяковской галереи, Кремля и Оружейной палаты, были включены музеи
В.И. Ленина и Революции, Всесоюзная сельскохозяйственная и Всесоюзная промышленная
выставки. По просьбе польской группы дополнительно была организована прогулка по ка-
налу имени Москвы, а для венгерской - посещение киностудии имени Горького. Художни-
ки Венгрии встретились с молодыми художниками и скульпторами на 4-й выставке моло-
дых художников, педагоги и пионерские работники из ГДР и Польши посетили Московский
Дом пионеров, ряд школ-интернатов и выставок. Даже те иностранцы, которым на осмотр
Москвы отводилось всего два дня, обязательно посещали Всесоюзные выставки и мавзолей
В.И. Ленина и И.В. Сталина. Аналогичной была программа пребывания в Ленинграде, в
которую, наряду с культурными и историческими достопримечательностями, включалось
посещение промышленных предприятий и встречи с ленинградской молодежью. Показа-
тельно, что нередко поездки в колхозы, посещение «памятных ленинских мест», школ или
детских садов инициировались самими туристами
51
.
Более длительные, по сравнению Москвой и Ленинградом, сроки пребывания ино-
странных туристов на Черноморском побережье и материальная база Кавказского лагеря
позволяли расширить круг мероприятий за счет спортивных праздников и встреч по волей-
болу, баскетболу и настольному теннису, а также многодневных походов. За сезон в лагере
провели 2 международных карнавала, в каждом из которых приняло участие до 500 чел., 2
костра дружбы с выступлениями туристов разных стран и 2 больших морских праздника.
Также было организовано 5 встреч с рабочими города Туапсе и Лазаревского района, 5
встреч с пионерами и 9 встреч с отдыхающими соседних домов отдыха
52
.
В середине шестидесятых годов политическая работа с молодежью зарубежных
стран строилась в соответствии с требованиями Июньского (1963 г.) Пленума ЦК ВЛКСМ,
решениями ЦК ВЛКСМ о работе среди иностранной молодежи и рекомендациями
БММТ
53
. Но в провинции нередко возникали проблемы даже с объектами показа. Напри-
мер, в Волгограде в начале 1965 г. имелось всего одно предприятие для показа – завод ме-
дицинского оборудования. А остальные предприятия было просто стыдно показывать, в том
числе из-за элементарной грязи
54
. Неудовлетворительно политико-воспитательная работа
велась и в ряде международных лагерей. Так, в Азербайджанском лагере советским и ино-
странным туристам, как и несколько лет назад, предлагался стандартный план мероприятий
– пляж, спортигры, танцы, кино, 4 выезда на экскурсии и за дополнительную плату – ужин в
городском молодежном кафе
55
. О какой эффективности идеологической работы можно тут
говорить?! При этом туризм из западных стран, не обходился без проблем: в ряде стран не
только не выделялись лимиты на поездки в СССР, но эти поездки даже не рекламировались.
Зато был отмечен рост поездок иностранной молодежи «по линии высоко организованных
служб» на субсидии государственных органов. Как неоднократно отмечено в документах
тех лет, именно на эти группы возлагались «задачи буржуазной пропаганды»
56
.
Не все гладко обстояло и с туристами из соцстран. Директор Кавказского междуна-
родного лагеря Овчаренко на совещании директоров и начальников отделений и лагерей по
вопросам агитационно-пропагандистской работы с молодыми иностранными туристами
(март 1965 г.) отмечал, что польские туристы «охотно идут на все, что мы предлагаем». За-

152
то туристы из Чехословакии, с охотой участвуя в спортивных соревнованиях, карнавалах и
праздниках моря, очень неохотно включаются в дискуссии
57
.
Все вышесказанное ставило задачу «более поступательной пропаганды достижений
Советского Союза за 50 лет» и совершенствования форм и методов работы с туристами из
западных стран. Наряду с путешествиями с познавательными целями и учебными поездка-
ми (курсы русского языка), все большее распространение получали специализированные
поездки групп одной профессии (в 1966 г. было свыше 300 таких групп) и обмен «поездами
дружбы». К середине десятилетия традиционными стали поезда «Финляндия-СССР», а в
1967 г. впервые вышел в рейс поезд «Франция-СССР». В свою очередь, расширение гео-
графии иностранного туризма привело к реорганизации структуры БММТ «Спутника», где
появился Отдел информации и переводчиков
58
. Но большинство переводчиков, как и в пер-
вые годы существования «Спутника», составляли студенты - «сырой народ, без пропаган-
дистских навыков». На одном из московских семинаров гид на вопрос о том, что является
главным в работе, честно ответил: «хорошо выспаться». Что уже говорить о провинциаль-
ных отделениях, где в 1967 г. половина состояла из одного директора
59
. Все вышесказанное
создавало проблемы и с обслуживанием иностранных туристов, и с идеологической рабо-
той с ними. Слабая обеспеченность идеологическими кадрами и скудная информация по
прибывающим группам приводили к слабой насыщенности экскурсий по городу современ-
ным материалом и плохой подготовке вечеров встреч и диспутов. Как отмечало руково-
дство Бюро, «комсомольский актив и переводчики зачастую в порыве патриотизма стирают
грани – выдают нашу действительность в розовом свете». По признанию директора Ленин-
градского отделения Ю. Рухлова, «особенно серьезно нас губит именно наивный патрио-
тизм»
60
. Действительно, чего стоит характеристика переводчиком главных качеств люби-
мого человека, который, оказывается, должен быть «крепким марксистом-ленинцем»
61
.
Другими словами, пропагандистские штаммы и «ляпы» иногда сводили на нет эффект от
посещения СССР.
Тем не менее, за первое десятилетие своего существования «Спутника» международ-
ный молодежный туризм получил широкое распространение, во многом, благодаря под-
держке власти. Несмотря на то, что деятельность БММТ «Спутник» была существенно
идеологизирована, в его работе можно обнаружить значительные элементы прагматизма.
Однако юбилейный 1967 г., прошедший под знаком празднования 50-летия Октябрьской
революции, нарушил хрупкий баланс между пропагандой и сервисом в сторону идеологи-
ческой составляющей международного молодежного туризма.
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Председатель и заместители, Отдел путешествий советских молодых туристов за границу и
Отдел путешествий иностранных молодых туристов по СССР, Финансово-плановый отдел и Транс-
портно-хозяйственный отдел. (Российский государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ). Ф. 5. Оп. 1. С. 1-3).
2
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Д. 53. Л. 29-30.
3
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 4-6; Д. 7. Л. 2; Д. 8. Л. 11-12.
4
2,4 млн. руб. для строительства московского дома молодежи и по 1,5 млн. на создание домов
молодежи в Киеве, Ленинграде и Сочи.
5
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 37–39.
6
Там же. Л. 41.
7
Там же. Л. 1.
8
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 312. Л. 1.
153
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 493. Л. 209,211-212,216.
10
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 8.
11
Там же. Л. 42.
12
Там же. Л. 45.
13
Так как румынская делегация не приехала, то договор с Союзом студенческих ассоциаций Ру-
мынии пришлось заключать по переписке.
14
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 2-3.
15
Там же. Л. 4.
16
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 10. Л. 38–39.
17
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 493. Л. 26-29.
18
В столовой 2-й категории торговая наценка на питание составляла в то время 34%. То есть из
суммы 22 руб. торговая наценка составила 7 руб. 48 коп. Следовательно, фактически турист получал
рацион на сумму 15 руб. 52 коп.
19
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 5-6.
20
Там же. Л. 8,16.
21
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 493. Л. 205.
22
Там же. Л. 115,119.,124.
23
Там же. Л. 168-169.
24
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 8. Л. 7.
25
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 12.
26
Там же. Л. 15.
27
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 7. Л. 4.
28
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 538. Л. 2.
29
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 90. Л. 38.
30
Там же. Л. 45.
31
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 538. Л. 20.
32
В ряду стран - Австрия, Англия, Бельгия, Болгария, Венгрия, ГДР, Голландия, Дания, Израиль,
Индия, Канада, Китай, Марокко, Монголия, ОАР, Норвегия, Польша, Румыния, США, ФРГ, Финлян-
дия, Франция, Швеция, Швейцария, Югославия и даже страны Южной Америки (Венесуэла, Колум-
бия и Уругвай). См.: РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 36-50,62-84.
33
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 29.
34
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 312. Л. 1.
35
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 166. Л. 10.
36
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 315. Л. 6-8.
37
Там же. Л. 17-18.
38
Там же. Л. 4-5.
39
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 493. Л. 20,22-23.
40
Там же. Л. 31-34.
41
Там же. Л. 223.
42
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 498а. Л. 132.
43
Керестеджиянц Леонид Владимирович (род. 11 июня 1931 г.) – в 1955 г. окончил Ленинград-
ский кораблестроительный институт в 1955 г. В 1959–1961 гг. - инструктор Отдела по работе среди
рабочей молодежи, ответственный организатор Отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ по
РСФСР, затем председатель БММТ «Спутник». В 1992–1996 гг. - посол РФ в Хорватии, в 1997-1999
гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Болгарии.
44
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 243. Л. 1.
45
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 493. Л. 220-223.
46
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 537. Л. 10.
47
РГАСПИ Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 45.
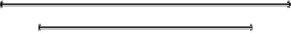
154
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
48
РГАСПИ Ф. 5. Оп. 1. Д. 493. Л. 128.
49
Там же. Л. 144-145.
50
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1. Л. 9.
51
Там же. Л. 10-11.
52
Там же. Л. 11.
53
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 231. Л. 9.
54
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 314. Л. 19.
55
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 315. Л. 8.
56
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 493. Л. 37,39.
57
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 314. Л. 73.
58
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 493. Л. 39-41,45,59,61.
59
Там же. Л. 65-66,69,71.
60
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 493. Л. 94-95,107.
61
Там же. Л. 26.
I.B. Orlov (Moscow)
YOUTH INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY “SPUTNIK”:
BETWEEN “SCYLLA OF IDEOLOGY” AND “CHARYBDIS OF PROFIT”
In the article the author views Youth International Travel Agency “Sputnik”, founded in
1958, as a part of “destalinasation” (an attempt to change the form of government associated with
the Soviet leader Joseph Stalin) process which was under way in the USSR and people’s democ-
racy countries as well as a principle of peaceful coexistence between two major world systems and
rejection of inevitability of the third world war. All this contributed to weakening of Iron Curtain
and improving relations with the West. And, at last, “tourist revolution” which started in the 1950-
s became the turning point in the development of international tourism.
155
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Е.Д. Королева
Троицк
СМЕНА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕКИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Разрушение общественно-политической и экономической системы СССР в череде
неизбежных последствий обозначило проблему источников финансирования социальной
сферы. В советском прошлом государство было призвано заботиться об организации обес-
печения основных потребностей населения в труде, страховании жизни и имущества, обра-
зовании, лечении, времяпрепровождении. В постперестроечную эпоху государственные
учреждения поделились своим монопольным правом с общественными и частными органи-
зациями, различными фондами и с самими гражданами.
В некотором роде подобная ситуация сложилась и в пореформенной России XIX ве-
ка. Освобождение крестьянства, общие процессы модернизации ускорили трансформацию
сословного устройства России. Развивавшееся гражданское общество неизбежно теснило
государственную власть в социально-политической и экономической сферах, тем более, что
в России отсутствовала единая государственная система пенсионного обеспечения и стра-
хования. Верховная власть на законодательном уровне еще в XVIII веке понуждала к соци-
альному попечению отдельные ведомства: министерство внутренних дел, просвещения,
духовное, горное и др. Предпосылками оживления общественной активности стало также
развитие промышленности (в частности золотодобывающей) торговли, городов, позволив-
шее накопить капитал; потребность в квалифицированных кадрах, определившая приоритет
благотворительности в сфере образования; обнищание сельского населения, которое в по-
иске работы прибывало в города; повышение уровня жизни горожан, рост его культурных
потребностей.
Сложившаяся ситуация обозначала субъекты и объекты благотворительной и попе-
чительской деятельности, аккумулировала источники для нее. Организаторы и участники
могли реализовать не только свои личные, в том числе и подвижнические, устремления, но
и совместно с государственными органами решать назревшие социальные проблемы. Од-
ним из проявлений такой активности стало создание добровольных общественных объеди-
нений самого широкого спектра и уровня. Росту их числа способствовало облегчение воз-
можности разрешения их деятельности. В 1860-е годы утверждение уставов обществ пере-
ходит от императора к министрам, в 1890-х – к губернатору, с 1906 года по «Временным
правилам об обществах и союзах» – к местным органам власти. Так как в пореформенное
время значение сословных связей слабело, формировались отношения, базирующиеся на
либерально-правовых ценностях. На смену традиционным сословным обществам приходи-
ли новые общественные объединения. В статье речь пойдет, прежде всего, об организациях,
занимавшихся социальной опекой нуждающихся.
По ведомственной принадлежности создававшиеся благотворительные и попечитель-
ские общества были церковными и светскими. Это обстоятельство предполагает как общ-
ность, так и расхождения по ряду положений: кто выступал инициатором, какова подотчет-
ность, источники существования, объекты деятельности и т.д. Хотя правильнее говорить о
смешанном, церковно-общественном, характере большинства организаций, так как, по мне-
нию екатеринбургской исследовательницы М.Ю. Нечаевой, их объединяла взаимная под-
держка в сборе средств, обращение за помощью к авторитетным личностям или ведомствам
и решение одной из главных задач: развитие религиозной нравственности и милосердия
1
.
Общества и учреждения Ведомства императрицы Марии Федоровны, Братство Царицы Не-
156
бесной под покровительством императрицы Александры Федоровны, Главное попечитель-
ство о бедных для призрения детей бедных родителей, слепых и пр. увечных, а также про-
светительские общества попечения о «недостаточных» учащихся, народных школах и в це-
лом об образовании и др. собирали средства, в том числе, в православных храмах.
Так как большинство добровольных общественных объединений не пользовалось
финансовой поддержкой государства, то проблема сбора средств была одной из основных в
их работе. Зачастую попечительства, например, общества попечения о народном образова-
нии в городах и уездах, занимались просветительской работой для пополнения своего бюд-
жета. Вырученные деньги от чтения лекций, проведения бесед, посещения библиотек шли
на оказание помощи «недостаточным» из среды интеллигенции. Цель подобных объедине-
ний указывалась в их названиях и уставах, будь то «Общество взаимного вспомоществова-
ния учащим и учившим в начальных училищах Оренбургской губернии», «Общество для
пособия нуждающимся литераторам и ученым» или «Общество вспомоществования нуж-
дающимся учащимся в Челябинской торговой школе ведомства Министерства торговли и
промышленности». По мнению челябинского историка С.С. Загребина, такие общества на-
поминали «кассы взаимопомощи» и объединяли представителей какой-либо одной профес-
сии». Наряду со сборами от платных мероприятий, источниками доходов этих обществ
служили проценты с капиталов, членские взносы, частные пожертвования, редкие офици-
альные субсидии
2
. Многие общества имели свои отделения в провинции.
Кроме постоянно действующих обществ по мере надобности возникали комитеты,
например, для сбора средств в пользу голодающих, пострадавших от засухи и недорода в
1891 году. В тяжелую пору народных бедствий и войн Главное попечительство обращалось
с просьбой о содействии, в том числе, и в духовное ведомство, а оно к архиереям, благо-
чинным, церковно-приходским попечительствам помочь, например, нуждающимся семей-
ствам воинов.
При всей своей новизне добровольные объединения опирались на имеющийся опыт
как государственной деятельности в виде Приказов общественного призрения, так и обще-
ственной инициативы. Бюджеты городских дум и земств содержали обязательные расходы
на общественное призрение (например, содержание богаделен и сиротских приютов), воло-
стные органы управления имели право сбора налогов на эту сферу. Поэтому необходимо
различать социальное призрение из казенных средств, местных бюджетов и благотвори-
тельность как частные добровольные пожертвования, на чем настаивает челябинская иссле-
довательница благотворительности на Урале А.В. Власова
3
. С конца XIX века пособия на
содержание православных церквей также вносились в городские сметы.
Источниками расходов на социальные нужды служили не только налоги, подати,
доброхотные даяния, но и специальные сборы, то есть «принудительные» пожертвования.
Так, Оренбургская городская дума для открытия и поддержания городской женской гимна-
зии с 1859 года в течение 12 лет производила 10%-й сбор с купцов с цены торговых свиде-
тельств и с мещан, состоявших в окладе, по 10 коп. с ревизской души, это ежегодно прино-
сило до 4 тыс. руб., что составляло 1/7 всей суммы для ежегодного содержания гимназии
4
.
Школьное дело занимало важное место в системе социальной защиты, осуществляе-
мой центральными, местными органами власти и сословными обществами. Проявлялась
она в открытии учебных заведений, плате за обучение, установлении различных льгот, уч-
реждении стипендий, награждении учителей за службу и т.д.
5
Примеры подтверждают тот факт, что основным источником финансирования учеб-
ных заведений были не частные благотворительные средства, а казенные, в том числе из
местных бюджетов. Так, к 1912 году в Челябинском уезде Оренбургской губернии имелось
236 начальных школ. На их содержание ежегодно тратилось 127 тыс. руб., из них 92,4 тыс.
руб. поступали из казны, 24,4 тыс. руб. от земства, 10 тыс. руб. из местных источников вме-
157
сте с благотворительными взносами
6
. Обычно инициатива в открытии учебных заведений и
средства на строительство исходили от городских обществ – купеческого или мещанского.
В дальнейшем финансировании школ нередко значительная доля принадлежала «казне».
Например, сумма, израсходованная на строительство здания мужской гимназии в Троицке
Оренбургской губернии, включала в себя 42 тыс. руб. из городских средств (городской за-
пасной капитал, обязательные сборы, деньги по подписке) и 12,8 тыс. руб., пожертвованных
членами городской управы из своего жалования за четыре года. Ежегодное содержание
гимназии состояло преимущественно из 19 360 тыс. руб. казенных средств и 5 тыс. руб. ме-
стных доходов
7
.
Приходится согласиться с авторами коллективной монографии о роли благотвори-
тельности в социальной жизни дореволюционной России в том, что она как «средство ре-
шения социальных проблем … могла служить лишь дополнительным средством к государ-
ственному и социальному призрению»
8
. Вместе с тем, важным результатом деятельности
благотворительных объединений было их нравственно-воспитательное значение, как для
организаторов, так и для участников.
Функцию Приказов общественного призрения в духовном ведомстве выполняло
епархиальное попечительство. Как и другие, подобные ему: епархиальное попечительство о
бедных духовного звания, общество вспомоществования нуждающимся ученикам духовных
училищ, семинарии; – епархиальное попечительство в лице двух-трех сотрудников занима-
лось организацией сборов средств нуждающимся, назначением пособий и отчетностью. Эти
попечительства существовали как на обязательные отчисления с доходов монастырских и
приходских церквей в размере 1-2 %, так и на пожертвования. Например, в 1903 году Орен-
бургским епархиальным попечительством было собрано 12 645 руб., из них: в том числе от
благочинных и сотрудников сборов и пожертвований – 8.371 руб., штрафных денег – 1 056
руб., от праздных мест – 1 066 руб., процентов с капитала – 2 149 руб., от прошлого года
осталось 2 338 руб. Израсходовано было 13 940 руб., в том числе: на постоянное пособие
заштатным священно-церковнослужителям, вдовам и сиротам духовного звания – 7 325
руб., единовременное пособие вдовам и сиротам 165 руб., на содержание епархиального
попечительства – 1 тыс. руб., содержание сирот духовного звания в Оренбургском духов-
ном училище – 380 руб., содержание сирот духовного звания в Оренбургском епархиальном
женском училище – 2 050 руб., священнику Василию Клитину (с возвратом) на проезд в
место службы на новый приход – 10 руб., на почтовые расходы – 3 руб., на покупку 4 сви-
детельств 4-хпроцентного займа – 3 тыс. руб., на выплату Оренбургскому отделению Гос-
банка 7 руб. за хранение процентных бумаг
9
.
Несмотря на государственную политику по устранению сословной замкнутости, ду-
ховенство, как и сельские обыватели, менее активно поддавалось «эмансипации». Корпора-
ция «духовных» имела те же атрибуты, выработанные другими сословными обществами:
своеобычная профессиональная деятельность, ведомственное образование, самоуправление,
судебно-правовой комплекс, пенсионное обеспечение. Но эта система, думается, функцио-
нировала больше как ведомственная организация духовенства. Ее существенное отличие от
крестьянской и казачьей общин состояло в «одиночном» характере труда священников, по-
этому не «мир», а собственный труд и дети в основном могли быть гарантами относительно
безбедной жизни этого сословия.
Одним из способов поддержать авторитет Церкви и духовенства, в том числе его ма-
териальное состояние, должны были стать церковно-приходские попечительства. В ходе
обсуждения проекта положения об этих обществах были внесены изменения в формулиров-
ку их целей и задач. Из всего спектра церковно-общественных организаций именно попечи-
тельства и братства получили наибольшее распространение. 8 мая 1864 года были опубли-
кованы «Основные правила для учреждения православных церковных братств». 2 августа
158
того же года императорским указом было утверждено «Положение о приходских попечи-
тельствах при православных церквах». При всем сходстве этих обществ были и существен-
ные отличия. Братства могли быть не только епархиального и приходского уровня, но и
центрального. Обладая статусом юридического лица, братства могли приобретать собст-
венность, в своих правах они были независимы от епархиального управления. Среди задач
братств основным выдвигалось миссионерское служение. Церковно-приходские попечи-
тельства призваны были заботиться о содержании приходской церкви, духовенства, об уст-
ройстве в приходах школы, больницы, богадельни, приюта и др. благотворительных заведе-
ний, об оказании помощи бедным людям прихода
10
. Местные общества должны были вести
дела гласно, ежегодно отчитываясь приходскому собранию о своей работе и о собранных
суммах. Решения принимались на собраниях большинством голосов. Если обсуждаемые
вопросы превышали полномочия попечительства и общего собрания, то мнение предостав-
лялось на разрешение архиерея или «для сношения, с кем следует».
Попечительства создавались медленно, к 1906 году лишь в половине церквей они
были открыты. Одна из причин заключалась в недоразумении, которое поначалу возникло
между новыми учреждениями и причтами, стремившимися порой на первый план поставить
улучшение своего материального положения. На местах это вызвало недоверие к общест-
вам со стороны народа. Когда духовенство оставило эти попытки, попечительства стали
решать другие задачи – благотворительные и просветительные нужды прихода, это было
встречено с одобрением.
Канонизированный в 1990 году протоиерей Андреевского собора Кронштадта Иоанн
Ильич Сергиев в своих статьях неоднократно писал о церковных попечительствах, их на-
значении, направлениях деятельности. В речи, сказанной 9 июня 1874 года при открытии
местного попечительства, отец настоятель обратил внимание слушателей на то, что
«Попечительство главнейшим образом учреждено для уничтожения ни-
щенства и попрошайства в нашем городе, для искоренения лености, праздно-
сти, тунеядства и пьянства, для приискания работ бедным, для учреждения
ремесленной школы для бедных детей ... а потом церковное Попечительство
может иметь предметом своим и самый храм, попечение о его благолепии,
чистоте и о потребностях его; о поддержании хора певчих и наконец самый
причт»
11
.
Новизна предпринятого дела и административная инициатива в большинстве случаев
также вызывали неприятие духовенства и прихожан. Зачастую открытие попечительств
оценивалось населением как очередная повинность. Так, в 1875 году в Кундравинской ста-
нице Троицкого уезда Оренбургской губернии на станичном сходе обсуждался вопрос об
отчислении церковных сумм на устройство рухнувшей колокольни. Местный священник
предложил открыть церковное попечительство для привлечения «лучших людей прихода».
Собравшиеся согласились, но на другой день по чьему-то «темному внушению» отказались
от своего обещания. Доводы священника потерялись в возгласах: «Не надо нам Попечи-
тельства, мы и то бедствуем, а Попечительство придумает новые тяготы для общества»
12
.
Как и по всей стране, например, в Оренбургской губернии значительная часть попе-
чительств начала свою работу в 1891 - 1892 голодные годы, в 1893 году при 522 церквях
епархии их насчитывалось 319: 17 в городах и 302 в уездах. Главным предметом заботы
попечительств в эти тяжелые годы были голодающие.
В отличие от сельской местности, в городах, даже уездных, образование новых попе-
чительств шло быстрее, что объясняется повышенной коммуникативностью в условиях го-
родского социума и значительной долей состоятельных благотворителей. Большое место в
работе попечительств занимало просветительское направление со свойственным для него
формами работы: чтения, беседы, курсы, библиотеки, спектакли и т.п.
159
В своих отчетах священники отмечали, что прихожане охотнее вносят пожертвования
на устройство и украшение местных храмов и только в редких случаях на нужды причтов и
бедных сельчан. В 1900 году по России насчитывалось 18.622 церковно-приходских попечи-
тельства, ими было израсходовано 4.343.329 руб., в том числе на церкви – 3.343.502 руб.
(77 %), на благотворительность – 692.984 руб. (16 %), на приюты – 306.842 руб. (7 %)
13
.
В 1900 году в ведомстве учреждений императрицы Марии готовилось новое издание
«Сборника сведений о благотворительности в России». Для его подготовки епархиальным
архиереям осенью 1899 года были разосланы вопросные листы с перечнем благотворитель-
ных обществ и учреждений, их нужно было заполнить и отправить в Петербург. В ответах
сообщалось об отсутствии таковых в духовных учебных заведениях и приходах Оренбургской
епархии. Как констатировал благочинный 32-го округа: «церковно-приходские попечительст-
ва благотворительностью не занимаются, частию по недостатку средств, а частию потому, что
обременены массою дел по устройству церквей». Благочинный 20-го округа в отчете обрисо-
вал общую картину работы попечительств в 1891-м неурожайном году, когда они стали «по-
средниками в раздаче хлеба, покупавшегося на суммы Правительства, теперь лишь начали
проявлять свою самостоятельность по содействию нуждам своих церквей и в содержании
вольнонаемных школ грамоты и устраиваемых на средства, данные Епархиальным Училищ-
ным Советом, а не свои». В примечании к вопросным листам пояснялось, что по результатам
деятельности благотворительных обществ нужно указывать число лиц, получивших помощь
непосредственно от общества, а не число лиц, призреваемых в учреждении и обществе. Но
так как общества в епархии отсутствовали, то в отчете перечислено последнее. В 1915 году
приюты и школы имелись в трех из восьми женских монастырей. В детском приюте при
Оренбургском монастыре содержалось 46 чел., при Троицком – 19, при Челябинском – 15, в
Троицкой обители существовал еще и приют для вдов и калек на 15 чел. Начальные училища
в Троицком монастыре посещало 80 девочек, в Челябинском – 60, в Оренбургском – 42. И
приюты, и школы существовали в основном на средства монастырей
14
.
В некоторых случаях попечительства превращались в ссудо-сберегательные кассы.
Прихожане, желая построить, например, новую каменную церковь, пожертвования, отдава-
ли под проценты нуждающимся, чаще всего себе же. Жители Кашмакского села Туринского
уезда Тобольской губернии для увеличения капитала попечительства обязались ежегодно
вносить в его кружку по 50 коп. с каждого человека возрастом от 15 до 60-ти лет. С 1901 по
1904 год деньги выдавались под 12 % годовых. Это решение поддерживалось местным при-
чтом, подкреплялось общей подпиской и свидетельствовалось волостным правлением. В
ответ на рапорт благочинного о такой практике социальной защиты, из консистории посту-
пило разъяснение и приказание: помогать бедным людям прихода нужно, в том числе давая
деньги взаймы, но не в рост, так как
«попечительство есть благотворительное учреждение, а не какая-
нибудь ссудная контора; для увеличения же средств попечительства члены
оного должны принять самые энергичные меры к сбору добровольных по-
жертвований в приходе»
15
.
По мнению современных исследователей, добровольные ассоциации брали на себя
общественные функции, которые до Великих реформ находились в ведении государства и
органов местного самоуправления
16
, при этом не упоминаются сословные общества. До
1917 года Законы о состояниях признавали наличие четырех сословий: дворянства, духо-
венства, городских и сельских обывателей. Они включали в себя различные сословные
группы: так, к городским обывателям причислялись купцы, почетные граждане, мещане,
цеховые ремесленники. К сельским обывателям, помимо крестьян, относились, в частности,
«войсковые обыватели», т. е. казаки, «заводские, горнозаводские и фабричные люди, ору-
жейники, мастеровые»
17
.
160
Городские и сельские обыватели, как податные сословия, составляли особые общест-
ва, управляемые выборными представителями: волостными правлениями, купеческими или
мещанскими старостами. Они были наделены большими полномочиями в организации эко-
номической деятельности, судопроизводства, социальной помощи. Например, ведению
сельских сходов подлежали
«назначение опекунов и попечителей и поверка их действий <…> совеща-
ния и ходатайства об общественных нуждах, благоустройстве, призрении и
обучении грамоте»
18
.
Эти же обязанности были возложены и на городские управы. Корпорации обеспечи-
вали также религиозно-нравственное воспитание своих членов, проведение досуга, то есть
охватывали все важнейшие направления работы, обозначенные в уставах новых обществ.
Будучи втянутыми в стремительно развивающиеся рыночные отношения, и, попадая
в чуждую среду: в город, на завод, на промыслы, крестьяне-отходники, городовые крестья-
не, городовые казаки в целом порывали с традиционным укладом жизни своего сословия.
Поэтому благородные устремления городской, преимущественно, интеллигенции в органи-
зованной форме помочь нуждающимся, дополняли не только государственную деятель-
ность, но и замещали издавна сложившуюся практику попечения ведомств и сословных
сообществ о своих членах.
Служба в иррегулярных войсках накладывала отпечаток на образ жизни и самосоз-
нание казачества: «станичники» обычно дистанцировались от «мужиков», т. е. крестьян. Их
формально-правовое единство было порождено значимостью земледелия и промыслов в
неслужебной жизни этих категорий. Традиционные для русского крестьянина занятия обле-
кались в общинные принципы производственной, административно-судебной практики и,
соответственно, социального обеспечения. Оказание помощи бедствующим сельчанам было
не только предметом постоянного внимания «мира», но способом его функционирования.
Базовыми принципами общины являлись круговая порука и взаимопомощь.
В общинном быту практиковались различные формы взаимопомощи: во время сено-
коса, уборки урожая, вывоза навоза на поля, при строительстве дома и других трудоемких
работах. Общество заботилось о сиротах, вдовах, инвалидах, престарелых; неимущим ста-
ничникам помогало в снаряжении на военную службу. У кубанских казаков после смерти
мужа вдова назначалась опекуном над наследниками, т. е. своими детьми, «она должна бы-
ла ежегодно отчитываться перед обществом о произведенных ею в хозяйстве расходах, о
сохранности полученного при наследовании имущества»
19
.
Источником финансирования социальной сферы общины обычно служили общест-
венные запасные земли. Зерно или деньги от продажи его шли на поддержку несостоятель-
ных: сирот, инвалидов, погорельцев, и др. общинные нужды: строительство церквей, школ,
дорог, мостов и т.д. В большинстве станиц устраивались хлебные магазины, где хранилось
зерно с общественных запашек, а также определенная норма со всех хозяйств. В случае не-
обходимости каждый член станицы или поселка мог обращаться за ссудой в эти амбары.
«Положение об общественном управлении станиц казачьих войск», утвержденное
императором 3 июня 1891 года, обязывало станичный сбор, состоявший из станичного ата-
мана, его помощников, судей, казначея, казаков-домохозяев, изыскивать способы и меры к
устройству «общественного признания». Под ним понималось учреждение начальных учи-
лищ, ссудосберегательных касс, обустройство хлебных магазинов, общественных запашек,
а также «всякого рода вспомоществований»
20
. Станичное большинство отвечало и за со-
хранение традиционных нравственных норм. Общая польза должна была быть всегда
«предпочитаема частной, чтобы все обыватели довольствовались выгодами уравнительно
ему … чтобы меры взыскания служили неослабному сохранению и утверждению древних
обычаев доброй нравственности по общежитию и в семействах, благочестия, чинопочита-
