Порьяз А. Мировая культура: Возрождение. Эпоха Великих географических открытий
Подождите немного. Документ загружается.

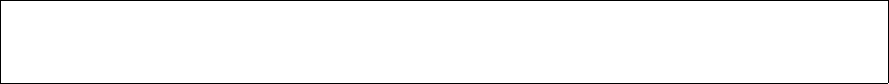
восходящего к кельтским легендам Англии (Друстан и Ессилит в
кельтской традиции).
Аскеза была в глазах средневекового человека высочайшим
духовным подвигом. Дух христианства, укоренившийся в европейской
культуре к концу Темных веков, по сути дела, определил все развитие
западноевропейской цивилизации. Культура Раннего Средневековья –
культура, в которой духовное начало абсолютно доминирует над
материальным. Нищета материальной жизни может быть одинаково
правильно объяснена как в терминах чисто экономических, так и в
терминах духовной жизни. В первом случае причинами будут низкое
развитие техники и земледелия, политическая нестабильность и многие
другие. Если же подходить к делу с точки зрения духовной жизни
средневекового человека, то окажется, что высокий технический уровень
ему был просто ни к чему. Плохой урожай был наказанием,
ниспосланным свыше, хороший – давал лишний повод убедиться в
божественной благосклонности.
Рис. 254 [Илл. – «Деяния Мерлина», Средневековая миниатюра.
(От континента к континенту, стр.513 нижн. лев. рис.)]
Монастыри
Но если говорить в целом о духовной практике Раннего
Средневековья, то отшельники были скорее исключением. Правилом
была жизнь в монастырской общине. Уход в монастырь давал
возможность, с одной стороны, отрешиться от мирских соблазнов, с
другой – добывать хлеб свой в поте лица. Собственно, монастырь как
явление культурной жизни можно считать одним из главных ключей к
загадке менталитета европейского Средневековья.
Монастырская община – это модель, образец для подражания для
средневекового человека. Обитатели монастыря занимаются тем же
трудом, что и миряне, но при этом, отказываясь от соблазнов плоти,
блюдут Христовы заповеди и готовятся к Страшному Суду и жизни в
Царстве Господнем. Монастырь существует в мире, но вне его законов,
монахи занимаются мирскими трудами, однако мирское не властно над
ними. Добровольный уход в монастырь – по сути, смерть для мирской
жизни, что само по себе требует немалого мужества. К тому же, в
отличие от отшельников, монахи, проводящие дни в тяжелом
молитвенном труде и в хозяйственных трудах, несколько понятнее для
простого мирянина. Отшельничество – ближе к чуду, монашество – к
жизни.
Монастырь, отгородившийся стенами от соблазнов мирской
жизни, являл собой воплощенный идеал человеческой жизни. Заметим –
не столько общества в целом, сколько отдельного человека. Монахи
жили так, как следовало жить – заботясь более о душе, чем о теле,
изнуряя себя молитвами и постом в не меньшей степени, чем тяжелой
работой. Для Средневековья, с его стремлением отринуть земное,
монастырь был воплотившимся идеалом земного существования – тело,
остающееся на земле, но устремленное к Богу и не тяготящееся
плотскими узами.
Рис. 255 [Илл. – Нотная запись церковного пения. X – XI вв. (В
тени крепостных стен, стр. 615 нижн. прав. рис.)]
Монастыри являли собой противоположность не только мирянам,
но и церковным властям. Многие из епископов, особенно в Германии,
происходили из светской знати. Епископский престол они покупали за
деньги. Очень многие представители церковных властей, не исключая и
самих пап, заботились больше о светской власти, чем о спасении душ
христиан. Папа Григорий Великий, первым призвавший христиан
отказаться от мирских благ в пользу благ небесных, вошел в историю в
первую очередь благодаря своей пастырской деятельности. Многие же из
пап, чьи имена связаны с крупными политическими событиями
европейской жизни, напротив, не прославились на духовном поприще.
Кстати сказать, Григорий Великий, прежде чем стать папой, был
монахом. Нет сомнения, что именно монашеский духовный опыт привел
его к провозглашению лозунгов, которые определили духовное развитие
всей западноевропейской культуры почти на тысячу лет вперед.
Рис. 256 [Илл. – Святой Бенедикт и монашеский устав. (История
Европы, стр. 18 рис. 1)]
Разумеется, любой монастырь на практике был подвержен тем же
порокам и страстям, что кипели за его стенами. Аббаты вмешивались в
жизнь своих соседей-баронов, пытаясь диктовать им собственную волю
как волю всей церкви. К концу раннего Средневековья монастыри
практически во всех европейских странах владели обширными
земельными угодьями, полученными в дар от местных феодалов или
выкупленных у разорившихся аллодистов. Крестьяне, проживающие на
монастырских землях, исполняли для монастыря те же самые
феодальные повинности, что и для светского феодала.
Рис. 257 [Илл. – Святой Бенедикт Нурсийский. Средневековая
фреска. (В тени крепостных стен, стр. 610 верх. лев. рис.)]
Но в то же время только в монастыре окрестные жители могли в
голодный год получить хлеб и семена для нового посева.
Благотворительность, которой занимался монастырь, была обязательной
частью его деятельности. С другой стороны, угроза отлучения от церкви
либо предупреждение о строгой епитимье за грехи подчас были
единственным средством остановить зарвавшегося в своей
безнаказанности дворянина, творящего над своими крепостными
зверства, которых (по словам одного монастырского хрониста)
«устрашился бы гунн».
К XII веку аскетический идеал монастырской жизни фактически
изжил себя внутри церкви. Вплоть до XII века европейские монастыри
все сильнее тяготели к самоизоляции. Их роль как образовательных
центров была уже далеко не та, что в раннее Средневековье.
Конкуренцию монастырским скрипториям успешно составляли и
епископские школы, и учебные заведения при дворах феодалов, и
городские частные школы. Стремление порвать с миром привело к тому,
что монастырская культура стала приходить в запустение. В XII веке тяга
к аскетизму достигла предела. На ее волне было создано два
нищенствующих монашеских ордена – францисканский и
доминиканский. Основатели этих орденов, святой Франциск Ассизский и
святой Доминик, призывали к отказу от любых мирских богатств, к
нищенскому образу жизни и проповеди Слова Божьего среди мирян как
словом, так и делом. Францисканцы и доминиканцы фактически
уничтожили монастыри в том виде, в каком те существовали всю первую
половину Средних веков. Одновременно с полнейшим отказом монахов
от мирских благ монастырская жизнь «выплеснулась» в мир.
Проповедническая деятельность нищенствующих монахов, смиренно
обращающихся к слушателям, перевела монастырскую культуру в
совершенно иную, нежели прежде, плоскость.
Рис. 258 [Илл. – Монах, проповедующий с кафедры.
Средневековая гравюра. (Детский Плутарх, стр.108)]
В конце Высокого Средневековья, в эпоху Возрождения
монашество совсем утратило свою роль светоча для общества. С
расцветом городской культуры, с повышением уровня благосостояния
мирянам стало несколько легче вести благочестивый образ жизни –
подавать милостыню бедным, жертвовать на благоустройство храма,
словом, соблюдать религиозность внешнюю, искупая возможную
нехватку религиозности внутренней. Члены монашеских обителей,
возникавших внутри городских стен или поблизости от города, входя в
соприкосновение с искусами городской жизни, очень часто не
выдерживали соблазна. Недаром в литературе Позднего Средневековья и
Возрождения занимают большое место рассказы о блудливых и
прожорливых монахах – одном из главных объектов насмешки
горожанина, чей идеал – не уединенная жизнь в тиши кельи, а бурная,
наполненная красками и событиями жизнь, разворачивающаяся
буквально вокруг него.
Библия и общество
Средневековье существовало под знаком Книги – Библии. Когда
античное знание и культура погрузились в долгое забытье, их полностью
вытеснила христианская религия, ставшая определяющим фактором
развития общества и главным залогом выживания в тяжкую эпоху
Темных веков. Когда отовсюду человеку ежечасно грозила смерть, вера
оказывалась единственной опорой. Недаром же хроники Темных веков
сохранили множество упоминаний о святых, творивших свои чудеса
именно тогда, когда как никогда прежде была сильна потребность в
чудесах, в наглядной демонстрации того, что Бог не отвернулся от мира.
Рис. 259 [Илл. – Статуя ангела на портале собора в г. Реймсе.
(История Европы, стр. 150 рис. 1)]
Церковь долгое время сохраняла монополию на образование. Все
грамотные люди выходили из стен монастырских школ, а поскольку
нужда в них была по большей части в тех же монастырях, туда же и
возвращались. Вся письменная культура Темных веков и Раннего
Средневековья – культура исключительно церковная, то есть основанная
на Библии. Причем Библия была не только Священным Писанием, не
только собранием правил и заповедей, которые надлежало соблюдать
истинно верующему человеку. Это был единственный доступный
раннему Средневековью научный инструмент.
Рис. 260 [Илл. – Лист из ирландского рукописного Евангелия.
VIII в. (История Европы, стр. 105 рис. 4)]
Библия, Слово Божие была непререкаемым авторитетом.
Менталитет средневекового человека базировался на библейской
символике, и во всех сферах жизни оперирование библейскими
категориями было едва ли не единственным способом познания и
описания мира. История человечества, описанная в Ветхом Завете,
содержала не только дела прошедших столетий, но и указания на судьбы
живущих, и предсказания о Судном Дне.
Окружающий мир
Западная Европа в Темные века – замкнутый мир, разделенный на
небольшие островки человеческого жилья, окруженные густыми лесами.
Разрушение римской системы коммуникаций повлекло за собой
изоляцию тех людских сообществ, которые выжили после Великого
переселения народов и многочисленных нашествий варварских орд. Путь
от одного жилья до другого занимал дни и недели, так что путешествия
были весьма затруднены, равно как и торговые экспедиции.
Неудивительно, что люди в ту эпоху воспринимали мир как нечто
замкнутое, перенося реалии повседневного окружения на все границы
видимого мира. Да и виден этот мир был только до кромки леса. Так и с
миром вообще – он кончался там, где проходила граница христианства.
Дальше обитали язычники, чьи земли кишели разнообразными
чудовищами, а сами жители, не освещенные светом истинной веры, и
вовсе приравнивались к лишенным разума животным.
Рис. 261 [Илл. – Жители заморских стран. Средневековый
рисунок. (История Европы, стр. 192 рис. 2)]
Представления средневекового общества о мире были в целом
заимствованы из античной традиции, но подогнанной под библейские
тексты. Обитаемый мир делился на две основные части: христианский и
языческий. Но это было деление в плане духовном. В плане же
географическом европейцы в Средние века знали три части света:
Европу, Африку и Азию. Прочее пространство вокруг этой замкнутой
Ойкумены для Средневековья не существовало вовсе. Самыми дикими и
таинственными землями оставались территории вокруг Индийского
океана, где жили люди-чудовища и разнообразные животные из легенд.
Именно там Марко Поло, величайший путешественник Средневековья,
повстречал «людей с хвостом, как у собаки» (скорее всего, обезьян) и
единорога. Единорог, впрочем, произвел на путешественника
отталкивающее впечатление (надо думать, что это был носорог,
действительно плохо соответствующий образу прекрасного и
благородного животного, каким изображали единорога средневековые
легенды). В своих записках Марко Поло с разочарованием писал, что
своими глазами видел единорога, однако зверь этот резко отличается от
того, каким его описывают книги: он груб, свиреп и агрессивен, с
толстой кожей и уродливым кривым рогом. Очевидно, итальянский
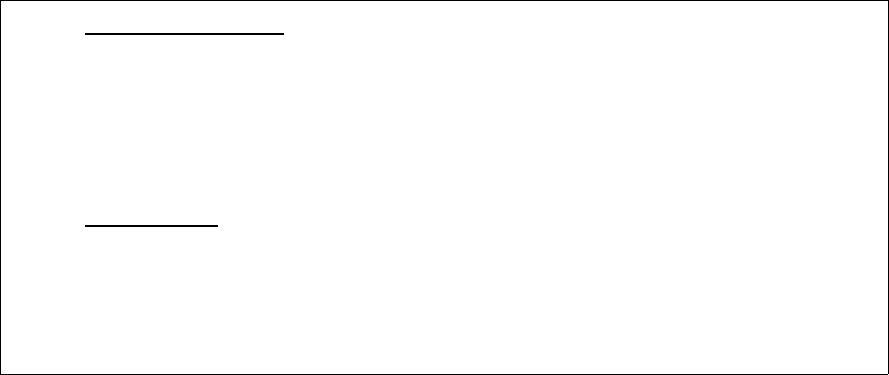
путешественник видел носорога, единственное животное, которое могло
подходить под известное ему описание единорога.
Поло Марко (1254 – 1324) – венецианский купец,
мореплаватель и писатель. Первым из европейцев посетил Китай и
написал о своих путешествиях книгу, изданную после его смерти под
названием «Миллион».
Единорог – мифический зверь из средневековых легенд,
напоминающий коня с белоснежной шерстью и длинным прямым
рогом во лбу. Легенды наделяли его благородством души и рядом
магических свойств.
Рис. 262 [Илл. – Путешествия Марко Поло. (История Европы,
стр. 192 рис. 1)]
О собственных землях
католический мир имел
более-менее отчетливое
представление – о
границах, о расстояниях
(казавшихся
непреодолимо
огромными из-за
отсутствия дорог), о
народах, населяющих как
христианскую Ойкумену,
так и сопредельные
страны. На юг от Европы
находилась самая хорошо
описанная часть
обитаемого мира –
Восток. Святая Земля,
Финикия, Египет, Ливан
– все страны, о которых
шла речь на страницах
Ветхого Завета. Вплоть
до эпохи крестовых
походов представления
европейцев о географии
Востока ограничивались
сведениями,
изложенными в Библии.
Кроме Востока, где
хозяйничали «неверные»
– арабы, европейцам
была известна Византия,
мало чем отличающаяся
от исламского мира,
особенно после схизмы
1054 года.
На страницах многочисленных церковных трактатов, созданных в
VIII – XII веках, вырисовывается по частям грандиозная картина
Божьего мира, со всей полнотой воссозданная в «энциклопедии
Средневековья» – поэме Данте «Комедия» («Божественная Комедия»,
как назвал ее Боккаччо). Эта картина была основана в первую очередь на
Библии, на Книге Бытия.
Центральной точкой Земли обычно полагали Иерусалим, город,
где зародилась христианская вера, город, где был распят Христос.
Вполне реальной была для средневековых христиан гора, на которой
расположен Эдем, земной рай. Со склонов этой горы стекают четыре
великих реки средневекового мира – Тигр, Евфрат, Нил и Ганг. Реальные
Тигр и Евфрат, протекавшие по территории Месопотамии, имели мало
отношения к «истинным» Тигру и Евфрату. Все богословы сходились на
том, что истинные истоки этих рек расположены где-то в Африке, там
же, откуда берет начало Нил. Спустившись со склонов Эдема, Тигр и
