Порьяз А. Мировая культура: Возрождение. Эпоха Великих географических открытий
Подождите немного. Документ загружается.

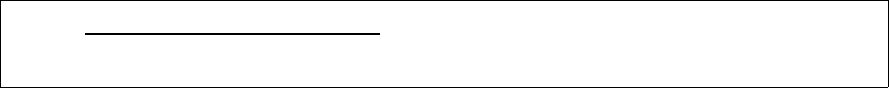
распространение на Западе сорняка спорыньи, злака, который
употребляли в пищу за неимением лучшего. Эпидемии горячки,
происходившие регулярно, были настолько сильны, что горячку
называли «огненной чумой» и «священным огнем». Эпидемию такого
масштаба, видимо, не могли объяснить ничем иным как божественным
гневом.
В обстановке постоянной религиозной экзальтации было бы
удивительно, если горячка не нашла бы своих проповедников. Обитатели
одного из французских монастырей вскоре после первой всеевропейской
эпидемии горячки заявили, что им удалось исцелиться с помощью
чудодейственных мощей Святого Антония. Эта секта, получившая
название антонитов, распространила свое влияние на многие области
Западной Европы. А за горячкой вплоть до конца Возрождения
закрепилось название «антонова огня».
Святой Антоний (ок. 250 – 356) – деятель раннего
христианства, монах, отшельник, оснвоатель египетского монашества
Чуть позже в Европу пришла Черная смерть – чума. Ни один из
регионов континентальной Европы не избежал этой страшной
неизлечимой болезни. Быстрее всего чума распространялась в городах,
где люди жили в скученности и грязи. Не менее страшным заболеванием
была оспа, убивавшая тысячи и уродовавшая сотни тех, кому удалось
выжить. Многие области Италии и Франции после эпидемий чумы и
оспы просто вымирали. В городах и деревнях почти не оставалось
населения.
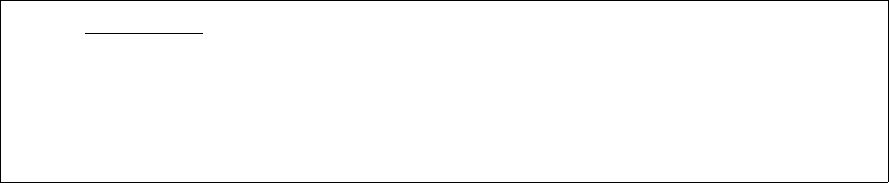
Рис. 198 [Илл. – Чума в Турне в 1349 г. Книжная миниатюра.
(История Европы, стр. 169 рис. 3)]
Не было, наверное, болезни, от которой бы не страдали жители
средневековой Европы. Физическая слабость и плохое питание были
основными причинами туберкулеза, эпидемии которого случались
гораздо чаще чумы или оспы, хотя и были несколько менее
губительными. Видимо, очень распространены были заболевания костей,
не поддававшиеся никакому лечению: средневековая хирургия редко
заходила дальше ампутации и прижигания ран каленым железом во
избежание заражения крови. Заболевания зубов на общем фоне в средние
века и вовсе кажутся мелочью, недостойной упоминания.
Рукописные книги Раннего и Высокого Средневековья содержат
множество миниатюр, посвященных многочисленным заболеваниям.
Всевозможные кожные болезни не сводили человека в могилу так же
быстро, как туберкулез или чума, а потому вызывали не столь сильный
ужас. Проказа была для средневекового человека более чем привычным
зрелищем. Прокаженных в Европе в средние века было так много, что по
отношению к ним общество выработало целый комплекс мер,
призванных защитить здоровых.
Проказа (лепра) – хроническое инфекционное заболевание,
поражающее внутренние органы, кожу, нервную систему. Передается
через поврежденную поверхность кожи. Проказа – исключительно
человеческое заболевание.
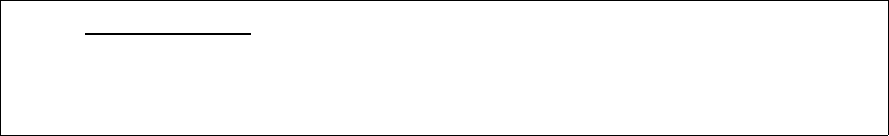
О проказе в средние века знали только одно – каковы ее
последствия. Заживо гниющий человек, с точки зрения Средневековья,
мог получить свою болезнь исключительно как кару Господню. В то же
время, здоровые полагали, что лучший способ избежать заражения – на
всякий случай держаться подальше от прокаженного. Шире всего
проказа распространилась по Европе в XII – XIII веках. Чтобы как-то
остановить болезнь, практически во всех странах прокаженным
выделяли для поселения отдельные территории, поселки, окруженные
забором. Поселок прокаженных (лепрозорий) должен был, согласно
правилам, находиться от городских стен или деревенской околицы на
расстоянии «не ближе полета камня, брошенного человеческой рукой».
Это определение, столь же образное, сколь и точное, превосходно рисует
отношение к прокаженному. Лепрозории, впрочем, не считались
тюрьмами. Прокаженные могли даже находиться среди здоровых людей.
Однако, выходя за ворота лепрозория, они должны были носить с собой
деревянные трещотки. Этот шум предупреждал о приближении больного
и давал возможность расчистить перед ним дорогу.
Лепрозорий – лечебное учреждение для больных проказой. В
Средние века – огороженный поселок со всем необходимым для жизни,
выстроенный за чертой города.
Начиная с XIV века, проказа постепенно пошла на убыль; во
всяком случае, ее масштабы стали гораздо меньше. И вот тогда-то
общество начало решительно отторгать прокаженных. При лепрозориях
строились церкви, кладбища. Здоровые делали все, чтобы прокаженным
было незачем покидать свои поселения. До XV века прокаженные во
всех европейских странах считались полноценными гражданами с
юридической точки зрения. За ними сохранялись все права свободного
человека. А в XVI веке, уже в эпоху Возрождения, по отношению к
прокаженным повсюду проводили особый церковный обряд «отделения»
от общества. Прокаженный, над которым городской епископ провел
обряд «отделения», считался умершим для мира, полностью
выброшенным из него. В некоторых местах во Франции прокаженный во
время этого обряда должен был спрыгнуть в специально вырытую
могилу, что должно было «вещественно» символизировать его смерть.
После этого о прокаженном забывали, вверяя его судьбе.
Надо заметить, что такой участи легко могли избежать
прокаженные из высших слоев общества. Среди особ королевской крови
и высших феодалов было немало прокаженных, которые, несмотря на
болезнь, продолжали занимать трон, и уж конечно, не ходили по улицам
с трещоткой.
Проказа была самым тяжелым, но далеко не единственным
заболеванием такого рода. Многочисленные кожные болезни в средние
века имели своих «покровителей» как среди святых, так и среди
библейских персонажей. Некоторые заболевания носили имя того
святого, который, по легендам, мог исцелять их (так, по аналогии с
«антоновым огнем» экзема, порождение грязных городских кварталов,
именовалась «огнем Святого Лаврентия»). Среди статуй, украшающих
стены соборов в средневековых городах, часто повторяются две: Иов,
пораженный кожной болезнью и вычищающий глиняным черепком гной
из ужасных язв, и бедный Лазарь, персонаж евангельской притчи,
покрытый струпьями. В отличие от прокаженных, жертвы других
кожных болезней не считались настолько опасными для общества, чтобы
изолировать их.
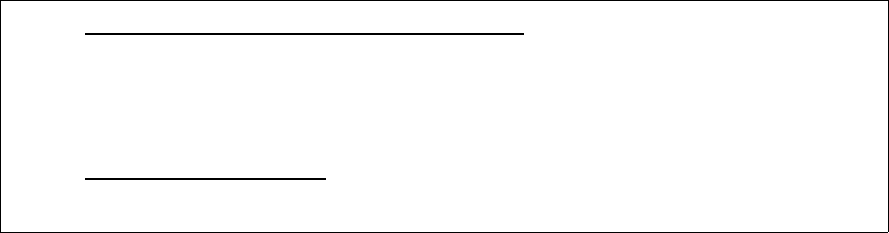
Рис. 199 [Илл. – Нищенство. Средневековая книжная миниатюра.
(История Европы, стр. 171 рис. 5)]
Если группировать всевозможные болезни по их внешним
эффектам (а Средневековье воспринимало все явления главным образом
через зрительные образы), то к кожным болезням примыкали внешние
уродства, необычайно частые в Средние века. Всевозможные уродства
были чаще врожденными, чем приобретенными. Увечья, полученные на
поле боя, ужасали меньше. Причина уродств – искривления костей,
хромоты, слепоты, пустых глазниц от рождения – все та же, что и
большинства недугов средневекового общества: плохое питание.
Картины знаменитых средневековых художников Иеронима Босха и
Питера Брейгеля, полотна, заполненные невообразимыми уродами, –
скорее всего, не преувеличение, не плод больной фантазии живописцев,
а достаточно реалистичное отражение тогдашней действительности.
Калеки, слепцы, горбуны, хромые, всевозможные уроды бродили по
дорогам средневековой Европы, выпрашивая подаяние. Те из них, кого
болезнь не совсем лишила сил, частенько собирались в разбойничьи
шайки и прятались в лесах, нападая на путников или грабя целые
деревни.
Иероним (Хиеронимус) Босх (ок. 1450-60 – 1516) –
нидерландский живописец, автор картин на религиозные и
аллегорические сюжеты.
Питер Брейгель (Старший, или Мужицкий, ок. 1525-30 –
1569) – нидерландский живописец.

Возможно, уродов и калек на улицах средневековых городов было
бы больше, если бы не высокая смертность. Детская смертность в XI –
XV веках была невероятной. С полной уверенностью можно сказать, что
в Темные века она была еще выше, но от раннего периода Средних веков
осталось не так много документов, как от Высокого и Позднего
Средневековья. Тысячи младенцев умирали, не прожив и нескольких
дней, подавляющее большинство детей не доживало до десяти лет.
Очевидно, в этом следует искать одну из причин того, что средневековые
законы ни словом не упоминают о детях: этот «фактор» был слишком
непостоянным во всех слоях общества. Дети, рожденные в знатных
семействах, были так же не застрахованы от ранней смерти, как и
отпрыски крестьянских семей. Даже в королевских домах смерть
малолетних детей от простой физической слабости была обыденным
явлением.
Современные ученые подсчитали среднюю продолжительность
жизни человека в средневековой Европе. Даже если не принимать во
внимание вероятность смерти на поле боя в одной из частых войн, в
Европе было не слишком много людей старше 35-40 лет.
Тринадцатилетний мальчик в Средние века считался юношей,
способным носить оружие. В деревне дети начинали работать с
родителями на поле уже с пяти-шести лет. Мальчик из рыцарской семьи
или знатного рода в четырнадцать лет служил оруженосцем, а в
шестнадцать, если не раньше, сам получал рыцарское звание.

Учителю и ученику
Проблема возраста проливает совершенно особый свет на одну из
самых романтических историй Средневековья – любовь Данте к
Беатриче, воспетую великим итальянским поэтом сперва в «Новой
жизни» и вознесенную затем до небесных высот в «Божественной
Комедии». Данте повстречал Беатриче, когда обоим было по девять лет –
возраст даже не подростковый в понимании современного человека, но
достаточно серьезный для средних веков. И вряд ли любовь к Беатриче
носила у девятилетнего Алигьери характер восторженной детской
влюбленности.
Другой пример того же рода – история Ромео и Джульетты,
воспетая несколько веков спустя Шекспиром. Творчество Шекспира не
отнести к Средним векам, но своих героев он поместил как раз в эту
эпоху. И Ромео, и Джульетта – всего лишь дети по современным
понятиям, однако в средние века препятствием для их любви была лишь
вражда двух семейств, но никак не возраст.
Среди недугов, терзавших жителей средневековой Европы,
особняком стоят болезни, щадившие тело, но поражавшие душу.
Тяжелые условия существования, жизнь на грани выживания – все это
накладывалось на религиозный дух, пронизывавший все общество на
протяжение нескольких столетий. На столь плодородной почве пышным
цветом цвели всевозможные нервные и душевные болезни. Эпилептики,
лунатики, буйно помешанные были в глазах обывателя жертвами
одержимости, о которой писали еще евангелисты. Лечить таких
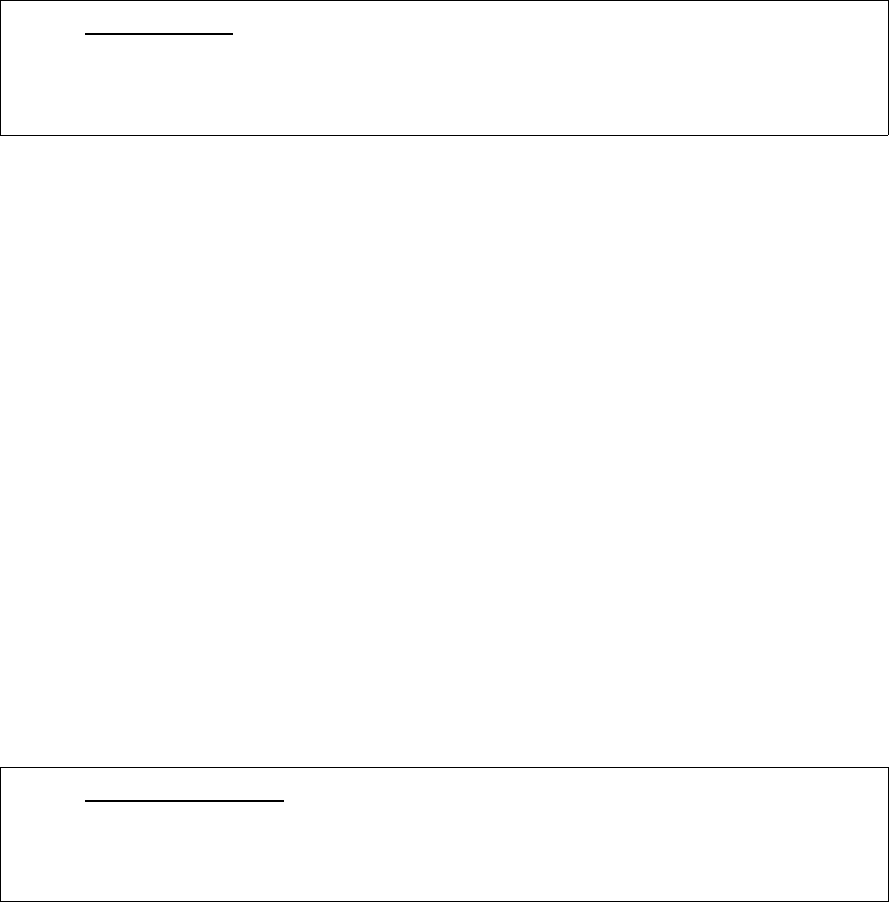
одержимых следовало через обряд изгнания беса – экзорсизм. Люди с
нарушениями психики жили бок о бок с нормальными, не подвергаясь в
общем-то, особым репрессиям. Одержимость бесом в глазах человека,
воспитанного на Евангелии, была скорее бедой, чем Божьей карой, а
следовательно, помешанный заслуживал снисхождения, хотя и
брезгливого.
Экзорсизм (экзорцизм) – церковный обряд изгнания беса,
вселившегося в тело человека, при помощи чтения молитв и
окропления тела святой водой.
Если судить по дошедшим до наших дней средневековым
документам, книгам, миниатюрам, то помешательство на религиозной
почве нередко принимало впечатляющий размах. То и дело возникали
мелкие секты, призывавшие людей к изгнанию бесов из себя самих.
Средства применялись всегда одни и те же: полудикарские шествия-
пляски и самобичевания, во время которых религиозный экстаз достигал
границ безумия. Достаточно вспомнить, как в середине XIII века
Западную Европу наводнили толпы флагеллантов, расхаживавших
голыми по городским улицам и наносивших себе страшные удары
тяжелым бичом. Публичное самобичевание было для средневековых
людей одним из простейших способов продемонстрировать свое
раскаяние в грехах, на которые толкает человека его бренная плоть.
Флагелланты – особая секта в Средние века. Члены секты
ходили по улицам голыми, и в знак раскаяния в грехах нещадно
хлестали себя тяжелыми бичами.

Сумасшедший – вполне обыденная деталь общественной жизни в
любом городе средневековой Европы. В некоторых местах помешанный
был объектом почти религиозного поклонения. Многие считали, что
безумие дается от Бога и что несчастный сошел с ума, узнав
божественные истины, недоступные человеческому разуму. Фактически,
помешанные («юродивые», как называли их на Руси) выполняли в
христианском обществе роль античных оракулов. Терпимо относились к
сумасшедшим и в высшем обществе. Во многих знатных домах, не
исключая и королевский двор, сумасшедших держали в качестве шутов.
Полубессмысленное поведение помешанного вполне удовлетворяло
неприхотливому чувству юмора средневековой знати. «Мудрый шут»,
одна из важнейших фигур в драматургии эпохи Возрождения, на самом
деле встречался при дворах средневековых правителей реже, чем в
пьесах. Скорее, это порождение самого Возрождения, когда отношение к
настоящим помешанным и прочим душевнобольным стало гораздо
строже, чем в средние века.
До конца Средневековья «дураки» могли чувствовать себя в
обществе в относительной безопасности благодаря своему статусу
«отмеченных Господом». Но в просвещенный век классицизма, в XVII
веке, общество уже не проявляло к ним ни малейшего снисхождения.
Душевнобольных попросту изолировали от здоровых людей, помещая их
в больницы, больше напоминавшие тюрьмы. Одна из известнейших
больниц для душевнобольных – Вифлеемский госпиталь в Лондоне,
более известный как Бедлам.

Учителю и ученику
Слово «бедлам» в наши дни чаще употребляется в значении
«беспорядок». «Сумасшедший дом» и «бедлам» сегодня могут выступать
как синонимы только фигурально. Однако «Бедлам» – просто слегка
искаженное английское произношение слова «Вифлеем». То, что в
русском языке – слово с неясной этимологией, в английском – вполне
конкретная историческая реалия.
Широко распространенный в исторической и художественной
литературе термин «веселое Средневековье» отчасти связан именно с
огромным количеством душевнобольных в эту эпоху. Впрочем, как мы
уже неоднократно говорили, провести границу между безумцем и
психически здоровым человеком в средние века довольно сложно.
«Веселым Средневековьем» было бы правильнее назвать Позднее
Средневековье и эпоху Возрождения, когда на городских улицах шумели
карнавалы, проходили шествия, когда театральное искусство,
«лицедейство» более не преследовалось церковью так, как прежде. Но и
эти шествия носили преимущественно религиозный характер. Веселье
было скорее обязанностью, чем способом снять напряжение.
Вообще говоря, постоянные болезни, низкий уровень санитарии,
грязь на улицах оставались характерной чертой европейской
цивилизации, городской культуры, на протяжении всего Нового времени.
Еще в начале XX века нельзя было говорить о том, что грязь и
хроническое недоедание перестали быть источниками заболеваний
населения. Просто в средние века эти проблемы проявлялись с
максимальной полнотой.
