Петрухин В.Я., Аверинцев С.С., Живов В.М., Лихачев Д.С., и др. Из истории русской культуры. Том I (Древняя Русь)
Подождите немного. Документ загружается.


традиций, составляющих в общем единую разветвляющуюся традицию, то ее начало играет
важнейшую роль. Современные попытки пересмотреть представление о едином древе
восточнославянского летописания и заменить его представлением о кусте, имеющем несколько
независимых корней (Кузьмин 1977), не меняет дела по существу, ибо, если и допустить
существование вначале независимых отдельных корней, то отростки традиции вскоре
переплетаются в единый организм. Представления о дереве с разветвленной корневой и сросшейся
близнечно-стволовой системой мало чем отличаются от шахматовского представления. Они не
разрушают шахматовской методологии и не требует новой.
10. Еще один общий принцип, введенный Шахматовым в изучение летописания в виду его
системного единства,—это необходимость начинать изучение с наиболее поздних летописей и от
них двигаться в глубь времени.
Оппоненты Шахматова
Методологические возражения Шахматову начали выдвигаться при его жизни и продолжают
появляться до наших дней. Принимать их все в расчет не приходится, так как некоторая часть их
основана на недоразумениях, плохом понимании и идеологическом заушательстве.
466
Осмысленные же упреки, даже если они и несправедливы, позволяют наметить периферию
эффективности шахматовского метода. Те и другие возражения спутаны, поэтому их не всегда
удается четко разграничить.
Методологическая путаница началась уже в полемике с Шахматовым его современников.
Характерный случай — полемика, предпринятая В. М. Ист-риным по поводу работы Шахматова о
Толковой Палее. Шахматов задумался над сходством речи Философа, обращенной к кн.
Владимиру Святославичу в ПВЛ, с Толковой Палеёй краткого (Коломенского) типа (Шахматов
1904). Так как, согласно изысканиям Истрина, последняя возникла на Руси в XIII в. и не могла
повлиять на речь Философа, Шахматов предположил, что оба текста— речь Философа и краткая
Толковая Палея (ТП)—имеют общий источник— гипотетическое сказание об обращении св.
Кириллом болгарского царя Михаила в христианство, текст, созданный в Болгарии X—XI в. на
основе сочинения св. Мефодия о прении Константина Философа с хазарами, о чем имеется
сообщение в паннонском житии Константина. Эта гипотеза позволила Шахматову решить две
проблемы: во-первых, преодолеть трудности, связанные с представлением о том, что ТП возникла
на Руси XIII в., тогда как, по его мнению, в эту эпоху на Руси не было обстановки, которая бы мог-
ла сделать актуальной чрезвычайно резкую полемику с «окаянным жидови-ном», в ней
представленную,—она унаследована от жития Константина; во-вторых, он нашел традицию, в
которую оба рассматриваемые текста вписываются, и таким, образом построил исторически
последовательную картину. Возражая Шахматову, Истрин пользуется разнородными
аргументами. Он возражает против рассуждения, основанного на характеристике эпохи, так как
тут возникает логика типа «то-то и то-то не было потому, что не могло быть» (1906: 165). Это не
просто возражение против опоры на представление об эпохе, о которой у нас нет достаточных
данных. Для Истрина в принципе неприемлемо введение в поле сравнительного исследования
данных, выходящих за пределы наличного текста
2
. Истрин возражает также и против
шахматовского пользования понятием «отражения» одного памятника в другом. Тут он
справедливо указывает на то, что если в литературе новейшего времени отражение может быть на
уровне идей, то для средневекового автора отражением можно считать только текстуальное
тождество, и в этом отношении мысль Шахматова нечетка (там же: 153). Все доводы Истрина
вытекают из представления о том, что генеалогическое гипотезирование недопустимо; наиболее
ранняя наличная версия и должна считаться первоначальной: «Нет нужды стараться
восстанавливать первоначальную редакцию ее сравнительным изучением позднейших изводов,
ибо первоначальную редакцию дает нам Палея Коломенского типа» (там же: 173—174). Очевидно,
что
2
Аргументы подобного рода для Истрина настолько мало ценны, что, как бы снизойдя до них в разгаре
полемики, он довольно небрежно аргументирует возможность противоположного взгляда на эпоху:
приводит данную И. Франко (в его статье о древнерусской литературе в Энциклопедии Брокгауза)
характеристику еврейского культурного влияния на древней Руси, не вникая в обоснованность его
аргументов и их дифференциацию. Между тем Франко приводит неравноценные доводы: достаточно
весомые, что касается XI—XII вв., но в отношении XIII в. его единственный довод—данные той же ТП, что
создает логический круг.
467
такая установка может не найти достаточно обоснованных возражений в отношении к
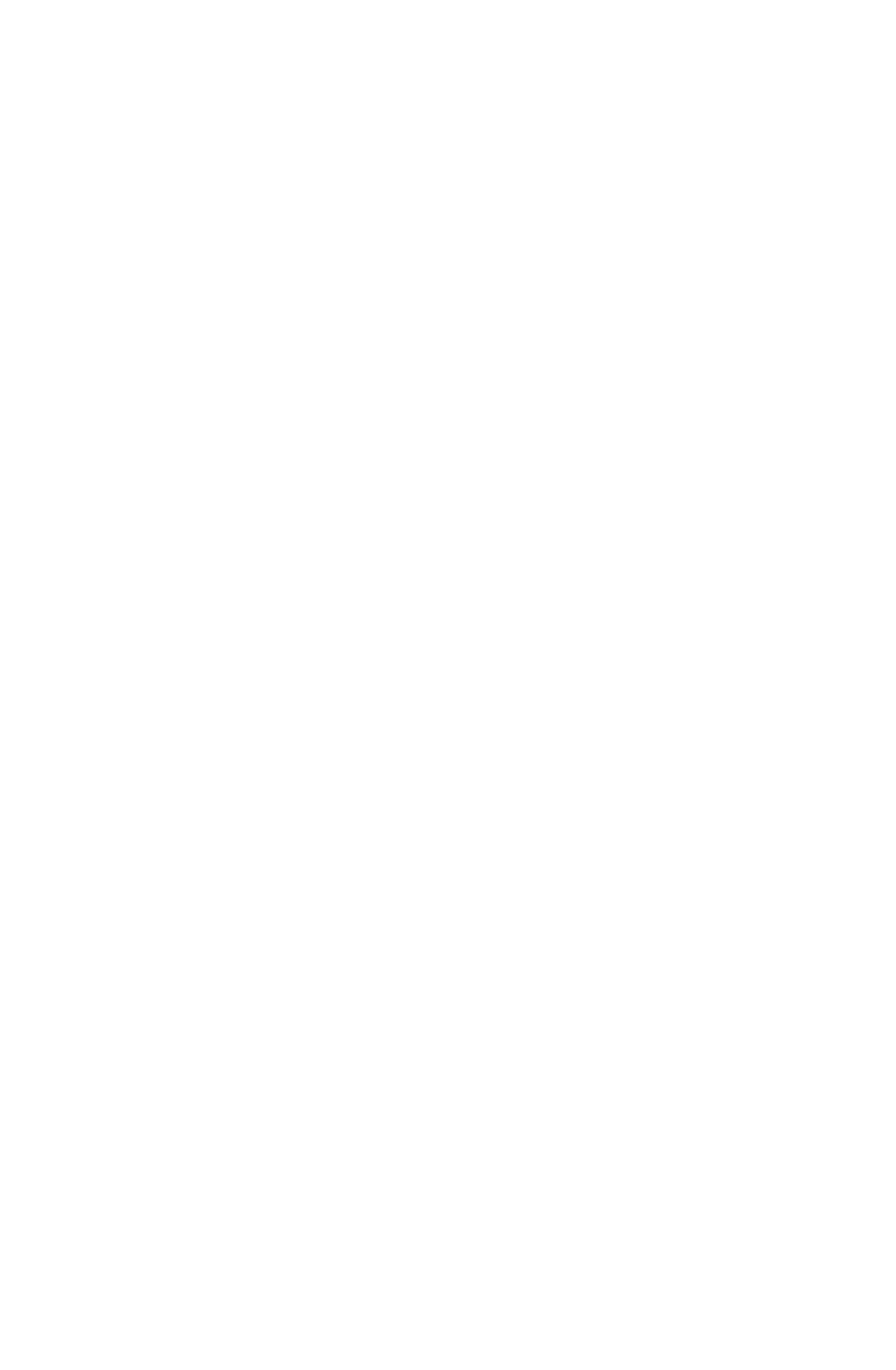
исследованию отдельного памятника, но она неплодотворна в исследовании летописания. Нужно
добавить, что летописание лишь обнаруживает то обстоятельство, которое присуще гораздо более
широкому кругу древнейшей русской письменности, поскольку та была пронизана историческим
сознанием и так или иначе пересекалась с летописанием или вращалась вокруг него. (Сам Истрин
показал, как ТП со временем переделывается в хронографического типа сочинение.)
Приведу теперь пример из современных полемик с Шахматовым. Новейшие его оппоненты, в
противоположность Истрину, склонны обвинять Шахматова в слишком узком подходе к
летописанию, в отказе от учета данных, выходящих за пределы летописей и смежных памятников,
а более всего—в отказе от учета «среды», в которой имело место летописание. Шахматов писал:
«Под литературной средой разумеем не людей, не общественные круги, отделенные от нас веками
и недоступные нашему исследованию, мы разумеем под ней тот состав сборников и сводов, где
обретаются эти своды» (1910: 84—85). В. Т. Пашуто нашел неудовлетворительным это
представление Шахматова. По его мнению, нужно «сравнивать не только тексты, но и сами
исторические явления» (Пашуто 1952). И позднее: «А. А. Шахматов оказался бессилен проложить
путь от изучения памятника к познанию породившей его среды» (Пашуто 1973: 72). Ему как бы и
невдомек, что путь от летописи к познанию породившей его среды ведет через критику источника,
а не наоборот, и что в методе Шахматова нет ничего такого, что исключало бы переход к решению
любезной Пашуто задачи, как только критика источника осуществлена. Следуя по стопам Пашуто,
А. Г. Кузьмин пытается улучшить аргументацию: «Это положение, возможно, следует несколько
уточнить в том смысле, что А. А. Шахматов верил лишь в односторонее движение от памятника к
"среде" и совершенно игнорировал движение от "среды" к памятнику» (Кузьмин 1977: 42). Как
видим, от Истрина до Кузьмина критика метода Шахматова может менять свое направление на
диаметрально противоположное, но при этом как-то последовательно избегает методологической
рефлексии.
К числу серьезных возражений следует отнести указание на большой вес, а лучше сказать,
конститутивную роль, гипотетического элемента в построениях Шахматова (наиболее полно—
Кузьмин 1977: гл. 1). Сам Шахматов, называя свои гипотетические построения «научными
фикциями» (1914: 45), обойтись без них не мог, так как его метод предполагает системную карти-
ну, — в ней белые пятна должны быть восполнены, иначе невозможно дальнейшее движение. И
все же его последователи (Приселков и Лурье) отказались от реконструкции протографов второго
порядка, предпочтя иметь дело с элементом неполноты и связанной с ней неопределенности, чем
вводить слишком уж гипотетические построения. И все же в той мере, в какой они не отказались
от гипотетического компонента, они исходили из чисто эмпирических соображений. Эти
соображения не затрагивали наиболее сильных возражений такого рода, что будто у Шахматова и
его последователей возникает порочный круг в рассуждениях: гипотеза ведет к выводам, которые
затем поддерживают гипотезу. Между тем гипотетичность—неизбежное зло исторических
реконструкций. Любая историческая реконструкция основы-
468
вается на некотором ограниченном наборе аргументов, с чем неизбежно связана неполнота
доказательств. Вместе с тем, любое историческое построение вписывается в герменевтическую
ситуацию, которая основана на круге—на герменевтическом круге, который следует отличать от
логически порочного (circulus vitiosus, petitio principii): каждый поворот в этом круге основан не на
тождестве, а на перемене угла зрения и проверке перспективы новыми данными, так что в общем
происходит ее обновление. Это по сути спираль, а не круг. Иначе говоря, и аргументы, и гипотезы
подлежат пересмотру в новых фазах, которые достигаются с их помощью.
Здесь нет возможности излагать теорию герменевтики, теорию интерпретации текстов, — я могу
лишь сослаться на ее существование (см. основополагающие высказывания ъДилътей 1958).
Исследовательская перспектива, которая создает возможность для герменевтического круга и
гипотетических построений в его рамках, с теоретико-познавательной точки зрения пред-
почтительнее чистого скептицизма. Нужно, однако, четко определить границы, в которых
гипотезирование остается в пределах герменевтического круга, то есть где последующий
пересмотр ожидаем, и за пределами которых герменевтическая ситуация больше неосуществима,
где возможна только калейдоскопическая перетасовка тех же принципиально недостаточных дан-
ных. Эта граница определима только на конкретном предмете исследования. В случае
древнерусского летописания ясно, что его начальный этап находится за пределами
герменевтической плодотворности сравнительно-текстологического метода. В дискуссиях
последних десятилетии о стратификации ПВЛ стало ясно, что любое построение основывается на

произвольном выборе аргументов и перетасовке прежних и является не более достаточным, чем
любое другое предприятие подобного рода.
Особая категория возражений вытекает из неприятия того фундаментального условия, что в
основе шахматовской исследовательской перспективы лежит текстологический метод. Л. В.
Черепнин (1972), В. Т. Пашуто (1952, 1973) и А. Г. Кузьмин (1973, 1977), если назвать только
самых активных оппонентов, критиковали Шахматова за то, что у него филология подчинила себе
или даже вытеснила историю. При этом текстология, да и филология вообще, мыслятся как
формальное знание, тогда как история противопоставляется им в качестве знания
содержательного. В этом возражении нужно разобраться, так как оно затрагивает действительный
и важный момент. Прежде всего, текстология, действительно требуя строгих формальных
построений, никогда не может быть сведена к чистому формализму: наряду с кодикологией и
палеографией она включает содержательный сравнительный анализ, который не знает
ограничений в объеме и глубине своей содержательности (см. Лихачев 1962). Если сам Шахматов,
как отмечают его критики, редко обращался к данным текстов за пределами сборников, в которых
встречаются летописные повести, напр., к дипломатике, и вовсе не обращался к данным
археологии, нумизматики, сфрагистики и т, д., то в принципе нет такого знания и такого
источника, какие не могли бы быть включены в сферу сравнительно-текстологического
исследования и абсорбированы им. Метод такой критикой не затрагивается.
Отдельного рассмотрения заслуживает утверждение, что сравнительно-текстологический метод
подчиняет себе исторические знания. Это справед-
469
ливо в одном определенном отношении — в рамках реконструкции генеалогии летописания и
критики источников, вслед за чем история может доминировать, сколько ей угодно. Но не до того.
Дело не может обстоять иначе, если признать, что предмет исследования, древнерусское
летописание,—это предмет системный, единый сложный феномен, значимость каждой части
которого определяется его местом в полной системе. Исследование такого предмета требует
некоторой целостной перспективы. Текстологический метод, основанный на сравнительном
анализе, уже чисто операционально задает такую целостную перспективу, которая способна
вносить фокус в ничем не ограниченное поле абсорбируемых содержательно-исторических
данных. Формальный аспект здесь задает координаты, исходную структурную опору, которая
отнюдь не имеет ригидного характера: она способна перестраиваться под влиянием
содержательного вклада. Но многообразные, разнородные эмпирические данные истории сами по
себе не выстраиваются в целостную перспективу, а строгой содержательной методологии, которая
позволяла бы выстроить их в порядке последовательной перспективы, не существует. Кроме того,
большая часть данных для периода русской истории до XVI в. исчерпывается из летописей, а
ценность летописных данных покоится на критике источников, которая может быть осуществлена
только с помощью текстологического анализа. Так что содержательная область исторических дан-
ных не может противопоставить текстологическому методу ничего независимого и сопоставимого
по системной разрешающей силе. Между тем текстологическая перспектива способна задавать
системную ориентацию и гостеприимно абсорбировать частные содержательные данные любого
порядка. Иначе говоря, в области древнерусского летописания по отношению к системно-
текстологическому методу все исторические дисциплины могут быть только поставщиками
фрагментарных данных неопределенной ценности. То доминирование филологии над историей, в
котором обвиняли Шахматова его критики, на самом деле является не содержательным, а
методологическим доминированием в том узком смысле, что только филология в области древ-
нерусского летописания как целого дает строгую опору для системной координации знания.
Повторим, сравнительно-текстологический метод в изучении летописания дает опору, а не
ригидную конструкцию, как это обстоит с концептуально-догматическими построениями (типа
гегельянских, марксистских), которые нередко претендуют на роль методологического
координатора в области исторического знания. Именно так обстоит дело с упомянутыми
критиками Шахматова: они противопоставляли его методу не просто исторические знания, но
таковые, скоординированные на основе некоторого постулата насчет истории вообще, в частности,
марксистского.
Такой подход, действительно, вступает в противоречие с шахматовским. Но это чистая идеология
— науки в этом нет. Дело не в том, что марксистский подход опирается на общие принципы —
общие принципы полезны, а прежде всего в том, что марксизм неадекватен в своей претензии на
роль философии, ибо его рассмотрения протекают исключительно в плане детерминизма. В

гуманитарном же познании детерминизм в качестве всеобщего принципа не работает—мы можем
только наблюдать, как события развиваются, и пытаться их систематизировать, устанавливать
структурные корреля-
470
ции, быть может, и типологического характера. Можем даже строить морфологические гипотезы
культуры и ее истории. Попытки же установления детерминистических законов в истории никогда
никому не удавались. И это вопрос не ограниченности наших знаний, а принципиальной
неподдаваемо-сти исторических феноменов детерминистскому объяснению. Вообще детер-
минизм— концепция, адекватная для классической физики, уже в современной физике
наталкивается на ограничения, а в психологии она совсем не действует—здесь это ясно: свобода
воли несовместима с детерминистическим объяснением. История сложнее для понимания: она—
область действия переплетающихся гетерогенных, в том числе и случайных, однократных,
факторов, и поэтому здесь непригодность детерминизма не так ясна. Марксизм неприемлем для
историка и в силу еще одного принципиального недостатка—догматичности: заданная схема,
обычно субъективно интерпретируемая, требует, чтобы факты с нею соглашались и отменяет
поиски позитивно обоснованного понимания. А история, как ни странно, стремится быть
эмпирической наукой, хоть это и очень трудно и даже проблематично в гуманитарной области.
Сказанное отнюдь не означает отрицания ценности концептуальных подходов в области
исторической науки вообще. Таковые могут обладать высокой ценностью. В отличие от
догматического концептуализма в области истории возможны аналитико-реконструктивные
концептуальные построения. Так, в самой истории народов концепции имеют место и действуют в
качестве производительных и регулирующих сил. Речь идет о культурных концепциях, не
сводимых к социально-экономическим факторам. Область культурных концепций составляет
особую модальность бытия, не редуцируемую к чему-либо иному. Реконструкции таких
концепций, которые действительно имели место в историческом сознании народов, и квази-
дедуктивные системные реконструкции исторического материала, не поддающегося обобщению
самого по себе, вполне возможны. Об этом будет речь далее.
Ограничения шахматовской перспективы
Пока же от вопроса об общей ценности шахматовского метода перейдем к его более
дифференцированной оценке. Наблюдая аргументацию его критиков, можно заметить, что, будучи
необоснованной в той мере, в какой она направлена на метод в целом, она тем не менее имеет
разную силу соответственно тому, в отношении к какому периоду летописания метод относится.
Под этим углом зрения возникает возможность деконструкции метода— обнаружения его
внутренней противоречивости и связанной с этим ограниченности.
1. Внутренняя противоречивость метода Шахматова связана с особенностью его предмета. В виду
системного единства древнерусского летописания, которое охватывает огромный период с XI до
XVII в., возникает кардинальная необходимость рассматривать его в качестве единого предмета,
подлежащего единой исследовательской методологии. Между тем состояние сохранившихся
памятников позднего и раннего периодов совершенно различ-
471
но. Большинство летописных сводов и большинство сохранившихся рукописей, содержащих
летописи, относятся к XV—XVI вв., то есть здесь богатство сопоставительного материала
сочетается с близостью сохранившегося списка ко времени его создания. Здесь сравнительно-
текстологический метод работает чрезвычайно эффективно. Не случайно едва ли не венцом всей
методологической традиции Шахматова являются две книги Я. С. Лурье (1976 и 1994),
посвященные реконструкции картины летописания XIV—XVI вв. Здесь осуществляется с высокой
степенью эффективности главная историко-научная задача метода: критика источников и
установление исторической картины на основе данных, относительная ценность которых
выяснена.
Но метод Шахматов включает движение от поздних летописей и списков к древнейшему
летописанию. А в последней области мы встречаем совсем другую ситуацию. Здесь
сохранившиеся списки весьма удалены от эпохи, к которой относится первоначальное создание
текстов. Перед нами только пересозданные тексты. И сравнительный материал невелик. Здесь
сравнительно-текстологический метод, как и более широкий филологический подход, обладает
очень ограниченной сферой приложения. И та стратификация летописи— по периодам, авторам и
местам создания, по входящим сводам и сводам объединяющим, — которой историк занимается,
определялась до сих пор в основном остротой ума исследователя, но не строгой или даже сколько-

нибудь обоснованной методологически работой.
Иначе говоря, исследовательская перспектива, построенная на основе сравнительно-
текстологического метода, имеет весьма ограниченные возможности по отношению к
древнейшему летописанию, представленному ПВЛ. Непризнание этого обстоятельства ведет к
вуалированию принципиальной неадекватности стратификационных гипотез в рамках
сравнительно-текстологической перспективы. Критика источников в области древнейшего
летописания необходима, как во всякой другой области, но она не дает достаточного основания
для решения возникающих здесь проблем. В 1957 г. Н. Н. Ильин писал: «...критический анализ
гипотез А. А. Шахматова о составе "Повести временных лет", являющийся очередной задачей
источниковедения, в нашей исторической науке еще только начинается» (20). Сорок лет спустя
можно сказать: что касается ПВЛ, сама перспектива источниковедения должна быть радикально
пересмотрена.
2. Неосуществимость сравнительно-текстологического, или сравнительно-системного, подхода к
древнейшему летописанию не отменяет необходимости дифференцирующего,
стратификационного подхода, так как в форме ПВЛ древнейшее летописание представляет собой
свод, по всей видимости опирающийся на предшествующие своды, и чтобы понять ценность
каждой отдельной записи, нужно установить ее место в системе текстов, составляющих ПВЛ. Но
даже и состав-то ПВЛ расплывается; вероятно, правы те, кто считает, что проблема выделения
редакций ПВЛ не имеет решения на основе известных данных (Кузьмин 1977: 37 и гл. 2). Да и
вообще нельзя провести механических границ между текстами, принадлежащими разным
сводчикам, ибо каждый последующий сводчик не просто добавлял свой материал, но нередко
подвергал обработке весь переписываемый материал и прослаивал его вставками, так что
дифференциация может происходить успешно лишь при условии, что выяснены принципы
интеграции слоев внутри ПВЛ. Но, не
472
выходя за пределы ПВЛ, установить такие интеграционные принципы невозможно. Привлечение
археологических и прочих исторических данных не решает проблемы.
Если задача целостного, системного подхода для позднего летописания решается благодаря
системе координат, задаваемых сравнительно- текстологическим подходом, то есть подходом в
основе своей формальным, то здесь, в области древнейшего летописания, за невозможностью
такого подхода и в виду сужения предметного поля до одного памятника, центр неизбежно, by
default перемещается в содержательную область. В рамках сравнительно-текстологической
перспективы содержательные рассмотрения не переходят в своей целостности за пределы
частного повествования. В свою очередь, целостный, интегральный подход на уровне свода не
может найти оснований в рамках шахматовской перспективы. Интегральный подход, вообще
говоря, проблематичен, и нельзя предполагать, что он может быть эффективен для всякого свода.
Если он вообще осуществим, то он должен найти особые основания, лежащие за пределами
шахматовской перспективы. Далее будет показана возможность такого—скорее
исключительного—проекта именно для ПВЛ.
3. Мало того, что целостный внутренний смысловой анализ ПВЛ не осуществим в рамках
сравнительно-текстологического метода, так Шахматов сам выдвинул в этом отношении
ограничивающую установку. Дело в том, что рассмотрение свода на целостном, системном уровне
должно в конечном счете означать не что иное, как реконструкцию главных творческих установок
летописцев. Рассматривая такую возможность, Шахматов как будто решил ее положительно. Вот
его часто цитируемые слова: «...наши летописи не были официальными актами, памятными
записками, механической сшивкою разнородного материала, — это были литературные
произведения, дававшие широкий простор личному чувству автора, считавшего себя полным и
безответственным хозяином накопленного им материала—предшествовавших летописных сводов,
летописей, веденных другими лицами, сказаний, известных по другим памятникам» (1899: 6). Но
сравнение летописи с литературным произведением обманчиво: литература—слишком широкое
понятие; литературное произведение средневекового писателя—совсем не то, что литературное
произведение писателя нового времени, и их целостность задана совершенно различным образом.
Впрочем, Шахматов, хотя и обладал отличной интуицией относительно характера находившегося
перед ним текста, никогда не анализировал тексты -в качестве литературных целостностей
3
. Но
зато он оставил представление о том, что он понимает под авторской субъективностью: «Из
позднейших летописных сводов XII и XIII века мы можем составить представление о том, как
пристрастно они освещали современные события: рукой летописца управлял в большинстве

случаев не высокий идеал далекого от жизни и мирской суеты благочестивого отшельника,
умеющего
3
А. Е. Пресняков прав, когда находит, что «летописные своды ожили в его [Шахматова] изучении как
ценные создания древнерусского духовного творчества, значительные и важные сами по себе, независимо от
их служебной роли как источника исторических сведений» (Пресняков 1922: 164). Но до методологического
уровня это отношение к летописям не дошло.
473
дать правдивую оценку событиям, развертывающимся вокруг него, и лицам, руководящим этими
событиями [...], рукою летописца управляли политические страсти и мирские интересы; если
летописец был монахом, то тем большую свободу давал он своей пристрастной оценке, когда она
совпадала с интересами родной обители и чернеческого стада, ее населявшего» (1916: 1. XVI).
Близость этого взгляда к марксизму не удивительна: Шахматов был представителем русской
интеллигенции, воспитанной как раз на прото-марксистских радикальных идеях. На деле во
взгляде Шахматова отразились не только идеологические установки, но и опыт работы с
древнерусскими летописями. Поздние летописи, XV и особенно XVI вв., действительно изо-
билуют искажениями, обнаруживающими политические приверженности. Последняя
прижизненная книга Лурье (1994) дает богатый обзор искажений, переделок, фальсификациий,
опущений, сделанных в интересах того или иного князя и демонстрирует, что таковые составляют
важнейший план в реконструкции документальной ценности летописей позднесредневекового
периода. Он даже говорит о двух историях—одной, оставленной прямыми текстами летописей, и
второй, реконструируемой на основе критики источников. Такой взгляд на летописание
разделялся как сторонниками, так и противниками Шахматова. Здесь-то и был поставлен предел
содержательному анализу древнейшего летописания. Ибо, если для позднего летописания это
достаточный взгляд, то он принципиально недостаточен для раннего. В этой же книге Лурье дал
ориентир для понимания, почему это так: к XVI в. происходит секуляризация летописания.
Причем процесс движения в эту сторону начался гораздо раньше. В начале же, в период
складывания ПВЛ, не политические, а религиозные принципы были доминирующими. Ни о каком
целостном подходе к раннему летописанию на основе выделения политических пристрастий и
светских интересов летописца не может быть и речи. Дифференцирование политических
приверженностей авторов отдельных статей летописи в качестве ориентиров для стратификации
свода может привести лишь к обнаружению разноголосицы и противоречий. Именно такая
ситуация и имеет место, и едва ли не главные усилия исследователей ПВЛ направлены в эту
сторону. Это тупик. Тут нужен выход в другое концептуальное пространство.
Основоположники культурно-исторического подхода
Прежде, чем перейти к идее подхода к ПВЛ, независимого от сравнительно-текстологического
метода и дополнительного по отношению к нему, остановимся на трудах двух основоположников
такого подхода.
Первым является В. О. Ключевский. В книге «Древнерусские жития святых как исторический
источник» (1871) он выдвинул важнейшую мысль, которая должна была бы быть приложена и к
русскому летописанию, которое возникло под теми же перьями, что создавали агиографию, но не
была. Наблюдая, как жития святых пренебрегают действительностью жизни святого, заменяя их
легендой и теологической схемой, и то, как мало может историк извлечь из них в качестве
исгЬрических документов о фактах действительно-
474
ста,—все то, чем так озабочены были западные исследователи, в особенности болландисты (см.
Сендерович 1988),—он пришел к мысли, что, тем не менее, они являются важными историческими
документами: есть документы, свидетельствующие о некоторых конкретных фактах жизни, и
другие— являющиеся документами духовной жизни создавших их людей, документами духовной
жизни эпохи; и жития святых являются документами второго рода. Чем меньше ценность
агиографического памятника в качестве документа фактической истории, тем выше его ценность в
качестве документа истории духовной, или ментальной, или культурной.
Именно такого рода относительное различие существует между поздним древнерусским
летописанием и ранним. Позднее летописание имеет высокую ценность источника в отношении к
фактической истории, которая должна реконструироваться, вопреки искажениям и
фальсификациям. Именно в качестве искажений и фальсификаций должны рассматриваться
моменты, затемняющие фактическую истину. Преднамеренными искажениями и фаль-
сификациями они и были. Напротив, информативная ценность раннего летописания относительно
фактической истории весьма ограничена; раннее летописание обнаруживает следы искажений,

иногда, по-видимому, чудовищных, куда более крупных, чем позднее (установить которые,
однако, трудно в виду скудости иных источников), во всяком случае, полагаться на него с научной
точки зрения невозможно. Гораздо важнее, что тот тип искажений, к которым оно, по-видимому,
прибегает, не может быть сведен к фальсификациям ввиду политических интересов, несмотря на
формальное сходство и несмотря на то, что и таковые, вероятно, имели место. Главные искажения
здесь совершенно иного типа: они относятся к тому же типу, что и агиографические. Перед нами
теологические усмотрения в облике истории. Да и по существу ранняя древнерусская
историография чрезвычайно родственна агиографии. Иначе говоря, адекватным здесь должно
быть погружение в иную перспективу, ту, которая плодотворна для агиографии, — в историко-
культурную. Эта перспектива обладает своим собственным основанием, независимым от
сравнительно-текстологической. А так как она относится не к эмпирической, а к концептуальной
области и к традиции, исключительной в своем монизме, то целостный характер является ее
имманентным условием, его не приходится вносить от себя.
Ироническим представляется то обстоятельство, что мысли Ключевского, по-видимому, не
остались незамеченными Шахматовым, который говорит о летописи как документе духовной
жизни как раз для того, чтобы расшифровать свое понимание духовной жизни в качестве
игралища политических страстей. У Ключевского же речь идет о реконструкции парадигм
творческого сознания историографа. Взгляд на работу агиографа дает возможность понять нечто
существенное о средневековом историографе.
Вторым предшественником предлагаемого подхода был Н. К. Никольский. Он вступил в прямую
полемику с Шахматовым как раз по поводу взглядов на летопись как литературную компиляцию и
на духовную жизнь летописца как игру политических страстей. В книге «ПВЛ как источник для
истории начального периода русской письменности и культуры» (1930) Никольский
противопоставил представлению Шахматова о сводческой работе летописца представление об
«историографической работе» (23), а его пред-
475
сгавлению о «тенденциозности исторической, которая выражается в пристрастном освещении
фактов, зависящим от субъективной их оценки» он противопоставил «тенденциозность
идеологическую, которая зависит от предвзятых теорий и под влиянием их не останавливается
пред вымыслами и искажениями старых записей» (24). Никольский всюду видит «следы работы не
сводчика, а историографа», следы «ученой работы», которая руководствуется «историческим
умозрением» (25). И снова, он предлагает видеть особенность начальной, легендарной части ПВЛ
«не как свода, составленного компилятором из случайного материала, а как опыта средневековой
историографии, в которой старый летописный материал неудачно был использован для оправ-
дания предвзятых теорий более позднего времени» (30). Никольский называет идеи,
руководившие летописцем, «историографической схемой» (85), а свои наблюдения
«идеологическими» (89).
Слово «идеологический» оказалось спасительным и роковым для Никольского. Марксисты,
склонные к шибболетам, приняли его за своего союзника (мимикрия, вероятно, не противоречила
и авторским намерениям) и не поняли. Кузьмин многократно цитирует Никольского в качестве
своего союзника в полемике с Шахматовым. Но союз этот основан на недоразумении, как,
впрочем, и полемика. Для Кузьмина идеология—это общественная, классовая идеология, то есть
та самая идеология, которую признавал Шахматов, находивший, что «рукою летописца управляли
политические страсти и мирские интересы». Для Кузьмина, идеология—это «идеология эпохи»,
это связь с «общественно-исторической средой, в которой возникли и обращаются изучаемые
памятники» (1977: 53). Между тем для Никольского идеология— это «предвзятые теории» и
«историографические схемы», которые вытекают из различных способов построения
христианской истории, а не из классовых интересов. Тут произошло смешение разных идиолектов,
расслоение которых регистрируется в языке эпохи
4
.
К марксистскому пониманию идеологии может быть адресован тот же упрек, что Никольский
адресовал Шахматову: в этом аспекте обнаруживается только субъективная позиция летописца, а
она, даже если и отражалась, не была существенной. Субъективной она является в одном
определенном отношении— потому что выражает интересы летописца как человека (хоть бы и как
члена группы), тогда как «историографические схемы» сверхиндивидуальны до такой степени, что
вообще зависят не от положения данной личности, а от его культурной принадлежности. Не то,
чтобы выбора у летописца не было, но выбор лежит в области филиации некоторой универсальной
в данной культурной традиции установки.

Различение идеологий в тексте ПВЛ в смысле Никольского—важный шаг, поскольку при этом мы
выходим в культурную перспективу. Никольский это ясно подчеркнул, обратив свое внимание на
трактовку в летописи культурной истории Руси, указав на решающую роль сказания о происхож-
дении христианской'культуры Руси. Здесь все дело для него в установке на культурный генезис.
Как раз правдивость передачи фактов истории креще-
4
На возникающей тут амбивалентности играл одно время М. М. Бахтин, называвший идеологией все, что
относится к области идей, и отлично знавший, что для марксистов это только идеи, выражающие классовые
интересы.
476
ния Руси он ставит под сомнение. Здесь, кажется, впервые в области исследования древнейшего
русского летописания мы действительно выходим за пределы исследовательской перспективы,
начертанной Шахматовым. Никакие аспекты русской истории, предлагаемые другими
оппонентами Шахматова,—от археологических до классовых—не способны дать принципов,
организующих летописание, и потому нуждаются в системной перспективе, заданной
сравнительно-текстологическим методом, чтобы быть как-то интегрированными в осмысленном
историческом контексте. Наоборот, в культурной области мы находим такие принципы. Более
того, культурная сфера легко предстает в виде единого смыслового контекста с его различными
возможностями и действительными филиациями, потому что это христианская, монистически
ориентированная традиция. Наконец, искомая культурная перспектива выходит за пределы
русской истории, для которой специфически и уникально разработан шахматовский метод.
Культурно-историческая перспектива
Итак, выход за пределы шахматовской перспективы в рамках научной методологии возможен. Это
выход в позитивную область тех текстов, которые были источниками знаний об истории для
зачинателей древнерусского летописания. Обращение к контексту этих источников задаст
контекст мышления первых летописцев и позволит увидеть в дошедших до нас ранних летопис-
ных текстах смыслообразующие конфигурации и стоящие за ними намерения и приемы, которые
проливают совершенно новый свет на эти тексты и таким образом действительно дают
дополнительный смысловой подход, который образует новый герменевтический круг в союзе с
шахматовским подходом, замкнутым в рамках русских источников.
Дополнительные обстоятельства: этот подход иной не только по источникам, но и по методологии
— в нем господствует не генетическая система отношений, а контекстуальная: внутренний анализ
летописных текстов здесь включается в интертекстуальную перспективу. В нее входят, с одной
стороны, христианские тексты, основополагающие для понимания истории, основополагающие
тексты славянского христианства, а также и все дошедшие русские тексты, помимо летописи,
которые имеют отношение к становлению исторического сознания в древнерусском XI в., а
таковыми были все тексты элитарной древнерусской культуры. Привлечение последних не ново,
но ново то, что здесь эти тексты берутся не в их буквальном влиянии друг на друга в качестве
прямых источников переписки и переделки (без умаления важности этого аспекта), а в качестве
членов единого культурного сообщества; здесь они проливают свет друг на друга, дополняют друг
друга, помогают понять друг друга по сопринадлежности в одном культурном предприятии,
которое они осуществляют совместно. Здесь возникает возможность понять этот контекст как
область действия некоторых однотипных смыслопорож-дающих сил.
Соответствующим в этих рамках должен быть и подход к сводам. Как генетический, так и
социально-идеологический подход (то есть в отношении к
477
политическим ориентациям летописцев) нацелены на установление различий между текстами,
входящими в свод. Их прагматическая функция— прямая стратификация свода. Их следует, т. о.,
определить как дифференцирующие подходы. Наоборот, контекстуальный подход нацелен прежде
всего на поиски интегральной перспективы, поиски того, что составляет основу единства
разнообразных текстов в рамках свода, что делает их участниками единой работы. В случае ПВЛ
это—работа по созданию исторического осмысления событий. Рассмотрение интегрирующих
усилий этого свода, поставленное в контекст, образованный теми христианскими текстами, на ко-
торые опиралась мысль первых летописцев, ведет к обнаружению смыслопо-рождающих сил,
действующих в этой новой области—в качестве особой, весьма своеобразной разновидности тех
сил, что действовали в контексте их источников.
Необходимость обращения к культурно-исторической перспективе основана на различии между
характером позднего и раннего летописания, а не только в виду состояния сохранившихся текстов.

Продолжатель, работающий на продвинутой стадии летописания, находит традицию готовой. Он
не задумывается над тем, что такое история и как ее пишут. Он имеет перед собой образцы
историографии в текстах ближайших предшественников и понимает их в меру своей
добросовестности или ангажированности, которая в поздние периоды налицо. Для зачинателя же
сама задача построения истории—это проблема. Он не простой собиратель знаний, документов и
устного предания. Он не документалист и не фольклорист. Думать так—это модернизация. Он, как
всякий средневековый писатель, — экзегет. Его метод— экзегеза. Он приспосабливает свое зрение
к традиции, к которой хочет подключиться, и к парадигмам, которым должен следовать в своей
работе.
Но поскольку он зачинатель, у него нет непосредственных предтеч. Он находит и традицию, и
парадигмы в исторически далеких от него основополагающих текстах. Этот зазор между ним и его
источниками отличает положение зачинателя от положения продолжателя. Его источники: во-
первых, Священная История, во-вторых, греческие хронографы. Хотя последние в некоторой
степени заполняют гигантский промежуток между ним и Священной Историей (а иногда
выступают и в роли ее заменителей), тем не менее, даже и с таким дополнением все это
достаточно далеко от его собственной современности. Он отлично сознает это обстоятельство и
концептуализу-ет его. Священная История евреев и греко-римская история связаны непре-
рывностью, Иисус принадлежит Священной Истории и, будучи царского рода, венчает историю ее
царей, а его ученики—уже часть греко-римской истории. Т. о., связь эта мыслится
антропоморфно, как личная, квази-династи-ческая передача. Эта передача в отношении Руси
прервалась. Поэтому зачинатель при всей его традиционалистической ориентации сознает, что
перед ним новая задача. Его задача заключается в том, чтобы события жизни его собственного
народа подключить к универсальной, то есть христианской истории, таким образом подключить ее
к историографической традиции, извлечь из области внеисторического бытия и баснословия и,
собственно, сделать историей. Это осознание огромного концептуального масштаба требует от
зачинателей русского летописания быть больше, чем собирателями материалов, или сводчиками.
Чтобы стать летописцами, они должны прежде все-
478
го быть теологами и историософами. Это единственный такой момент в истории, никогда больше
такой задачи перед летописцами не будет.
Те источники, по которым они учились тому, что такое история,—это доступные им книги
Священной Истории евреев или отрывки из них, Толковые Пророчества отцов церкви и греческие
хроники и хронографы, передающие Священную Историю и ее продолжение, а также и Деяния и
Послания апостолов, где толкуются проблемы подключения к истории новой ее ветви. В этом же
ряду находится и традиция апостолов славян Кирилла и Мефодия. Во всех этих источниках
историософия и историография предстают как истолкование событий на основе Священного
Писания, то есть в качестве экзегезы. Тут нельзя не быть теологом. Что до историософии, то ки-
рилло-мефодиевская традиция (паннонские жития Кирилла и Мефодия) прямо учит
необходимости опоры на мудрость, Софию
5
. Согласно кирилло-мефодиевской традиции, новые
начала возможны; новое начало может быть понято именно как драматическое подключение к
традиции. Традиционная экзегеза дает для этого необходимые парадигмы. И все это требует
способности мыслить крупно.
Это ситуация парадоксальная: она требует соединения смиренной дисциплины и смелости.
Требуемая крупность и дерзновенность мысли не может быть подчеркнута самим автором.
Наоборот, в согласии с культурой средневекового авторства, новизна и смелость должны быть
скрыты в тени авторитетного слова. Поэтому в течение тысячи лет не замечалась смелость и мас-
штабность мысли первых летописцев—они мнились собирателями. А между тем они имели дело с
такими гигантскими проблемами, как: Что такое история? Как события наблюдаемой,
современной жизни становятся историей? Как включить русские события в универсальную
историю?
Простое собирание здесь не годится. Создатели восточнославянской историографии хорошо знали
разницу между языческим баснословием и христианской историей. История для них и есть
принадлежность христианства—в противоположность а-историческому баснословию язычества.
Христианство в качестве культуры мыслится прежде всего как историческая культура, или
культура историзма. Разумеется, такая, которая должна покончить с историей в конечном счете,
но чтобы достичь этого, она должна быть одержима проблемой историчности. Вместе с тем
историческая перспектива позволяет включить и баснословие в свой контекст в качестве своего
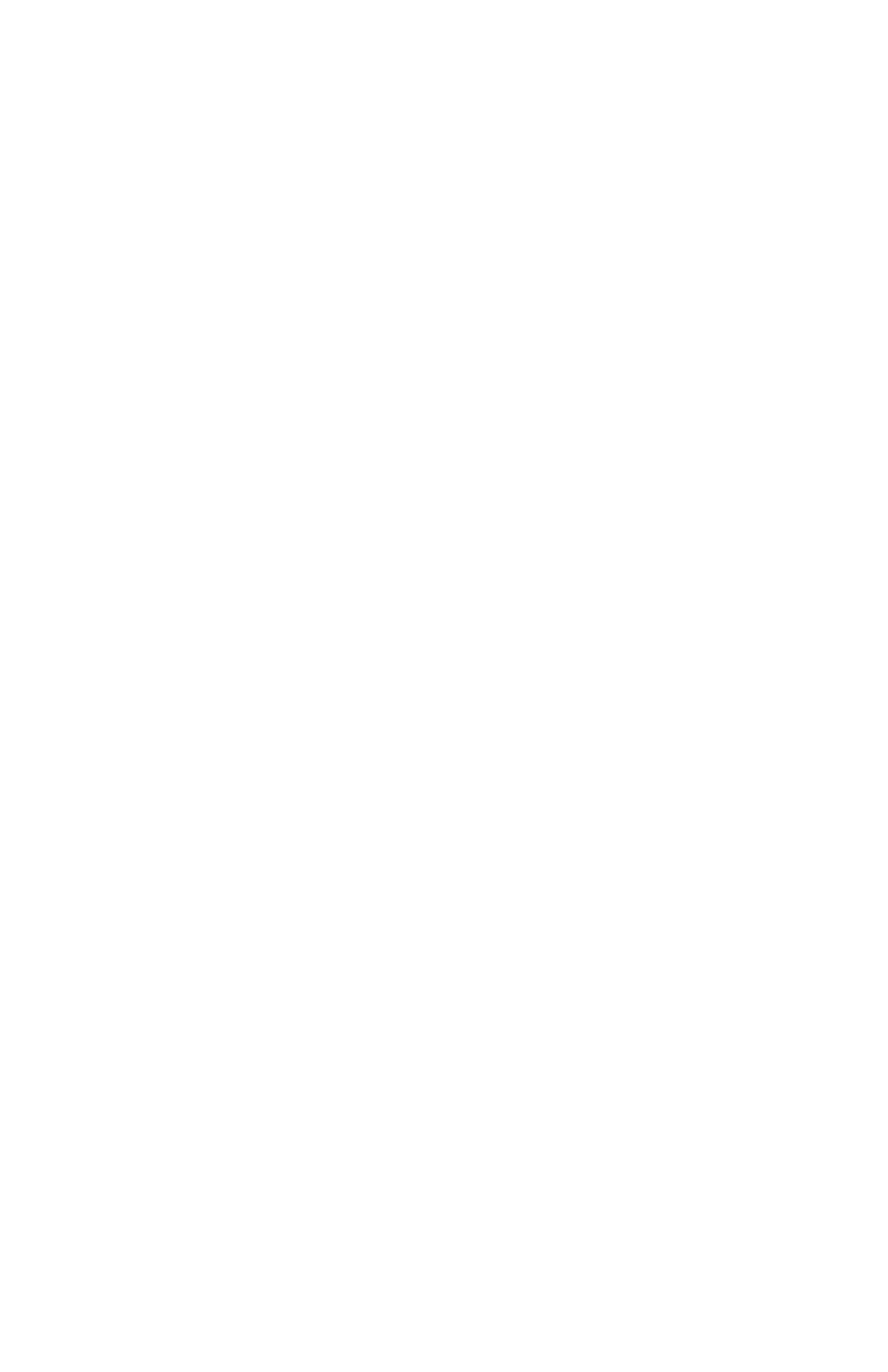
иного, по принципу отрицательного параллелизма (Сендерович 1994: 137—155). История—не
простая передача сказаний, а их осмысление в виду исторической телеологии, или, на
теологическом языке,—в виду провиденциального плана истории. На такой уровень летописцы
никогда больше не поднимались. Это уникальный момент в истории летописания. И он-то
попадает в слепое поле шахматовской перспективы.
5
См. в паннонском житии св. Кирилла, гл. 1, семилетний Константин сообщает свой сон о выборе супруги:
«Я же, рассмотрев и разглядев всех, увидел одну прекраснее всех, с сияющим ликом, украшенную золотыми
ожерельями и жемчугом и всей красотой, имя же ей было София, то есть Мудрость, и ее я избрал»
(Сказания о начале: 72).
479
Главная черта христианского историзма вообще—это универсализм. Особенность христианской
традиции заключается в том, что она опирается на историческую концепцию, которая включает в
свою перспективу не только абсолютное начало, что свойственно и многим другим, но и план для
всего рода человеческого. Для каждого события, чтобы оно стало историческим, должно быть
найдено место во всеобщей схеме событий —в целостном контексте Священной Истории, которая
вытекает из Священного Писания евреев. Как это место определяется в этом контексте, зависит от
интерпретации общей христианской истории, то есть это проблема экзегетическая, допускающая
варианты. В общем виде христианская история представляет собой дерево, корни которого
находятся в книге Бытия, а плоды — в современности. Проблема каждой национальной истории
предстает как проблема прививки на дереве универсальной истории (см. образ маслины на святом
корне и привитых к ней ветвей дикой маслины у ап. Павла, Римл. 11: 16—18).
Проблема эта решалась у разных народов разными путями и с акцентом на разных аспектах. В
большинстве случаев христианство вручалось народу тем или иным апостолом или его
продолжателями. Римско-католическая церковь унаследовала апостольскую преемственность,
идущую от св. Петра. Английское христианство мыслит свою историю иначе—оно ведет себя со-
знавшего Христа Иосифа Аримафейского, а лучшие рыцари Круглого Стола— и прямо,
биологически от него и его родственников (см. Расхожую версию [Vulgata] Артуровского цикла).
Во всех случаях важна была непрерывная линия связи с основополагающей фигурой
христианства.
Что касается начального русского летописания, то здесь можно различить несколько творческих
историософских установок, конкурирующих друг с другом в ПВЛ. Эти установки руководят
отбором материала, его интерпретацией, опущениями и коррективами в унаследованном
материале, композиционным построением. Н. К. Никольский различал здесь две основные ори-
ентации: славянофильскую и грекофильскую. Первую он считал начальной, сохранившейся в
тексте первой половины ПВЛ, а вторую — поздней. Проделанная Никольским ценная
реконструкция этих двух ориентации, или установок, в ПВЛ представляется мне все же не вполне
удачной—по принципиальным соображениям. Подобно Шахматову (1940: 80—92), Никольский
по-. лагал, что «Сказание о преложении книг на словенский язык» в ПВЛ имело
западнославянский источник. Он считал, что в этом источнике сообщалось о культурном единстве
западных славян и полянской Руси, что он, во-первых, отражал историческую реальность, во-
вторых, начальное русское летописание было его прямым продолжением. Если, по всей
видимости, это сказание и может быть признано созданным на основе западнославянского
источника, то упоминание полян наряду с западнославянскими племенами в этом сказании скорее
всего внесено по смежности этого этнонима с польскими полянами. Важнее для нас в настоящий
момент допущенная Никольским методологическая непоследовательность. Концепция
продолжения уже вполне готовой и исторически правдивой традиции не соответствует его
собственной мысли, которую он противопоставил шахматовской,—что древний летописец не был
собирателем и сводчиком, а идеологически (в смысле: на уровне идей; я бы сказал:
концептуально) тенденциозным писателем и самостоятельным создателем исторических
построений и носителем исторического
480
умозрения. Надежнее обойтись без допущений относительно несохранившихся непосредственных
источников, которые ему уже предписывали ориентацию и которые он, якобы, мог без особых
хлопот продолжать; надежнее полагать, что культурное единство с западным славянством имело
место в головах первых летописцев Руси, поскольку кирилло-мефодиевская традиция заставляла
смотреть в ту сторону, откуда пришло учение апостолов славянства, и что это единство было
выбором культурной ориентации, актом волевого присоединения. Если западнославянский
источник и существовал, то и он нуждался в новом контексте, в котором он мог быть
