Петров М.К. Самосознание и научное творчество
Подождите немного. Документ загружается.

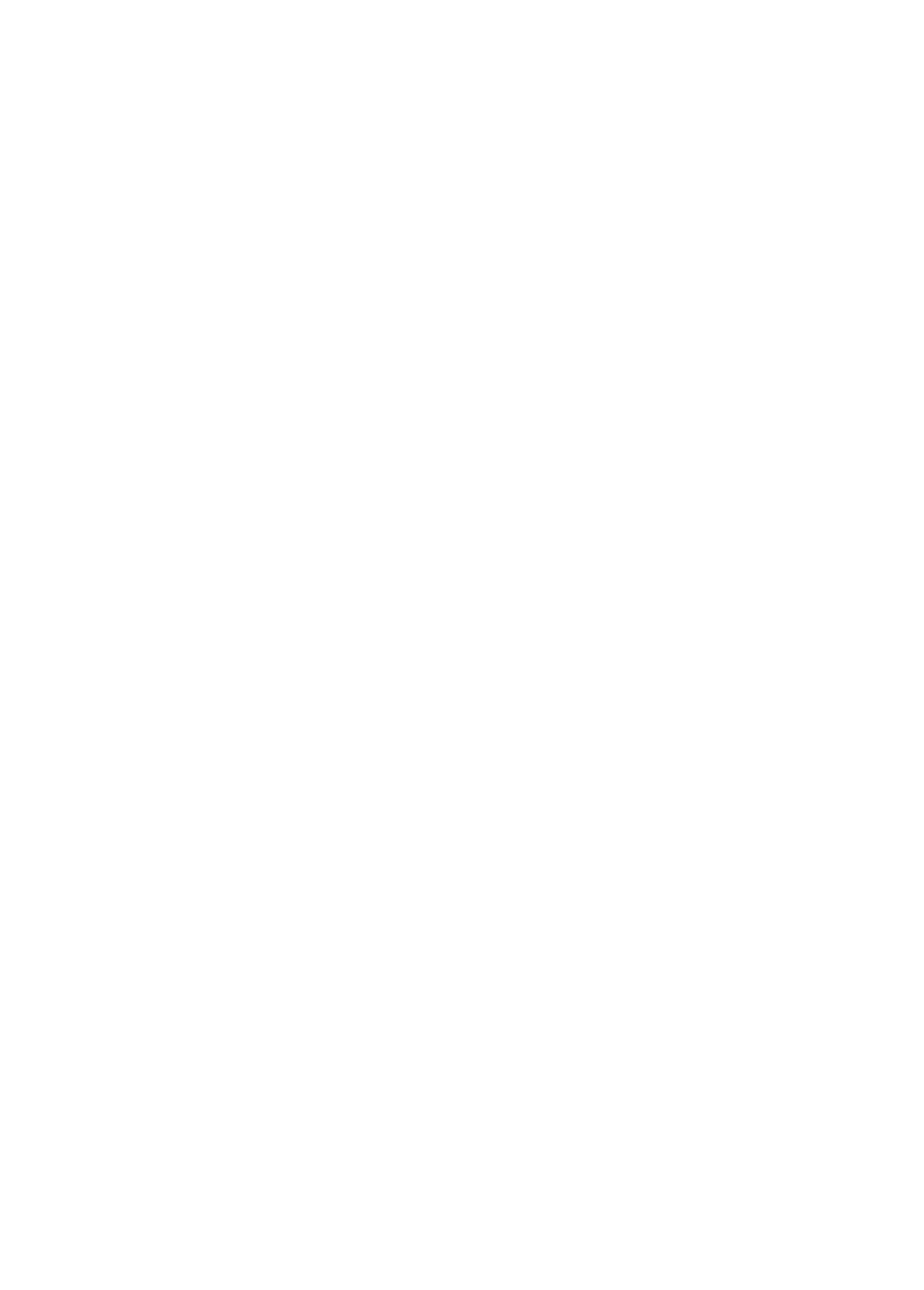
«переосмысляет» заимствованное: переводит безделки и игрушки чужих
ритуалов в практические сильнодействующие средства.
Особенно показательна в этом отношении история магнитной рыбки– компаса,
которая в Китае так и осталась забавой вроде змея или фонарика, а в Европе,
объединившись с кораблем, повела европейцев во все страны света, стала одной
из существенных предпосылок великих
117
открытий и завоеваний, не говоря уже о последующей судьбе магнетизма в
европейском ритуале – сегодня на нем держится подавляющая часть
энергетики.
Большой знаток и ценитель китайской культуры Нидам склонен в этой
странности Европы видеть даже ее недостаток: «Я считаю, что нет никаких
причин априорно принимать, что Китай и другие древние цивилизации обязаны
были пройти через те самые стадии общественного развития, что и европейский
Запад. В самом деле, термин «застой» никак не может оказаться применимым к
Китаю, а если такое словоупотребление и имело место на Западе, то
происходило это в силу элементарного непонимания. Как я уже писал в другом
месте, в традиционном житейском обществе наблюдался постоянный общий и
научный прогресс, прогресс этот, был насильственным путем прерван, когда в
Европе после Ренессанса начался экспоненциальный рост науки. Китай можно
назвать гомеостатичным, кибернетичным, если хотите, но застойным он
никогда не был. В некоторых случаях со всей убедительностью можно показать,
что фундаментальные открытия и изобретения заимствованы Европой у Китая.
Таковы теории магнетизма, экваториальные небесные координаты,
экваториальная установка инструментов для астрономических наблюдений,
количественная картография, технология литья металлов, детали возвратно-
поступательного механизма паровой машины (принцип двойного действия,
преобразование вращательного движения в поступательное), механические
часы, стремя и конская сбруя, не говоря уже о порохе и всем, что из этого
следует. Эти многообразные изобретения и открытия оказали
революционизирующее влияние на Европу, но социальный порядок
бюрократического феодализма в Китае им пошатнуть не удалось. Природная
нестабильность европейского общества может поэтому противопоставляться
гомеостатичному равновесию в Китае, причем последнее, по моему мнению,
говорит о более рациональной организации общества»
64
.
Если стабильность понята как ценность сама по себе, а это понимание не такая
уж редкость, то с выводом Нидама следует согласиться. Но история, похоже,
плохо читала Платона, не поняла величия его принципа: «Порядок во всех
отношениях превосходнее беспорядка», поэтому с Китаем произошла
несправедливость: он пострадал от собственных «фундаментальных
открытий и изобретений», причем пострадал самым диким и
противоестественным способом – стойко перенес собственные открытия и за
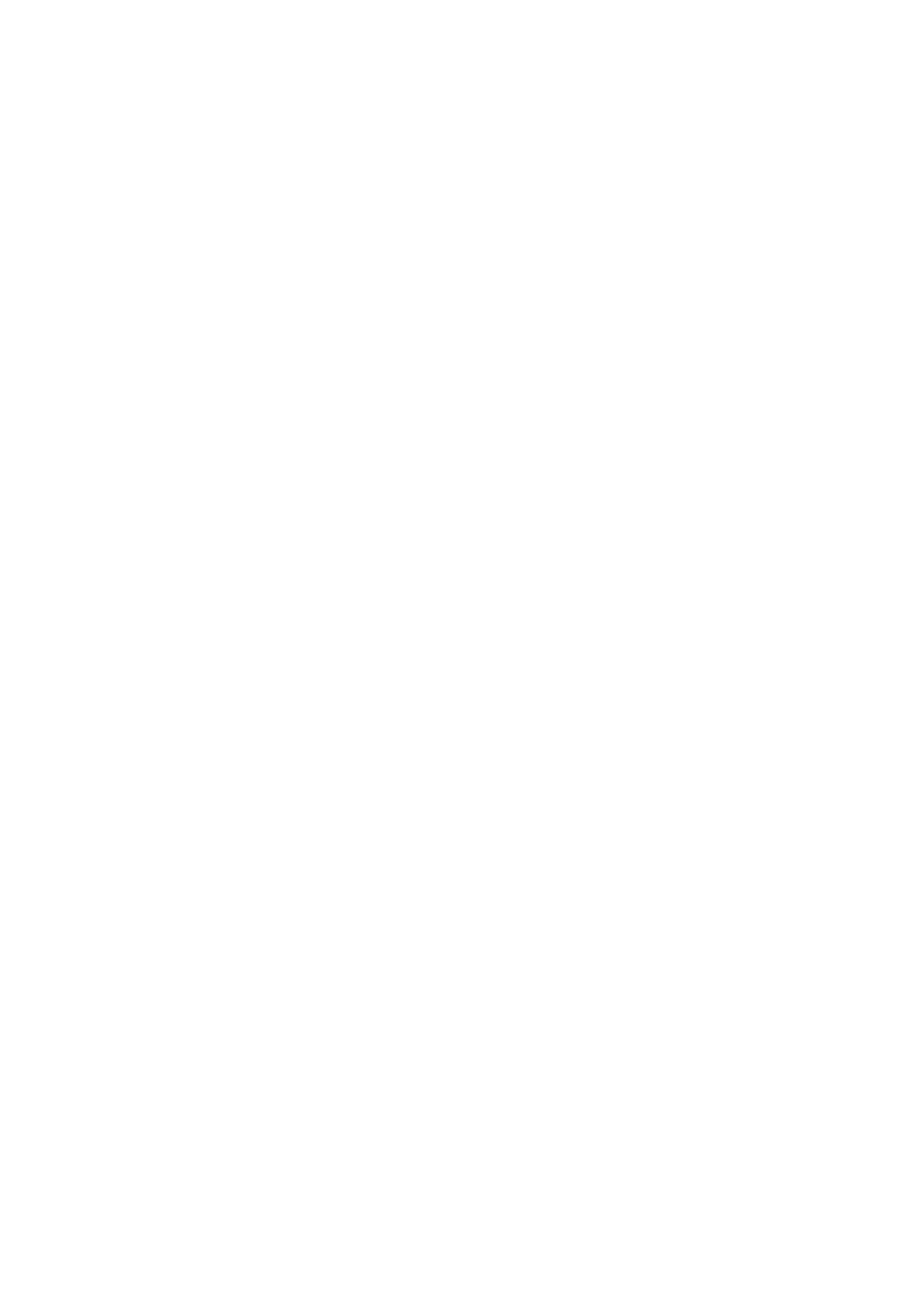
это его хвалят, но вот когда они рикошетом от Европы возвращены ему, Китай
не выдерживает удара и «постоянный общий и научный прогресс» оказывается
прерванным. Здесь что-то не так. И это «не так» связано, видимо, с самим
понятием фундаментальности. Открытие и его фундаментальность разные
вещи. На открытии как таковом не написано, фундаментально оно или нет;
фундаментальность (или противоположное качество) есть что-то такое, что
нажито открытием за время его существования в ритуале, и сделать
фундаментальное открытие так же трудно, как и разродиться вдруг
заслуженным пенсионером преклонных лет; открытию нужно предварительно
побывать в различных компаниях на множестве фиксированных уровней, чтобы
получить звание фундаментального.
Порох, ракеты, магнетизм, механические часы никогда, похоже, не
118
были фундаментальными в китайском ритуале. Хотя свои фундаментальные
открытия в Китае, как и в любой олимпийской социальности, безусловно были.
«Естественный» характер китайского олимпизма выдвигал в основу
фундаментальности выявление циклов устойчивости в природе, а поэтому нет
ничего удивительного, что в Китае обнаруживают «государственную» науку:
«...государство оказывало мощную поддержку научному познанию. Хранение
записей астрономических наблюдений, полученных за тысячелетия, например,
было государственным делом. На средства государства публиковались большие
энциклопедии, причем не только литературные, но и медицинские и
сельскохозяйственные. Удачно проводились выдающиеся для того времени
экспедиции. Можно напомнить о геодезической экспедиции VIII века, в которой
исследовалась дуга меридиана от Индокитая до Монголии, или об экспедиции
для нанесения на карту неба созвездий Южного полушария, на которой были
отмечены звезды до 20° от южного небесного полюса. Все это указывает на
организованный и коллективный характер науки в Китае, тогда как в Европе
наука была обычно частным делом, поэтому в течение многих столетий она
отставала. И все же Государственная наука и медицина Китая не смогли, когда
пришло время, сделать тот качественный скачок, который произошел в
западной науке в шестнадцатом и начале семнадцатого столетия»
65
.
Судя по объему научной или квазинаучной деятельности в Китае, реальная
загадка здесь не в том, кто сделал открытие, а в том, почему накопление
фундаментальности по-разному ориентировано в Китае и в Европе, почему
открытие, накапливающее фундаментальность в одном ритуале, ведет себя
совсем иначе в другом. Европейская фундаментальность носит воинственный и
агрессивный характер. Еще в конце XV в. жители Белграда, например,
предприняли первую в истории войн химическую контратаку: «Доведенные до
отчаяния жители осажденного города хватали пропитанные серой связки
соломы, поджигали их и бросали на головы атакующим. Турки отступили,
задыхаясь. Они надышались паров двуокиси серы, и многие погибли от

удушья»
66
. Да и сегодня когда мы мерим европейскую фундаментальность, мы
далеко не всегда вкладываем в нее «чистый» смысл – все больше получается
фундаментальность со взломом, против которой трудно выстоять
инокультурным ритуалам.
Факт, однако, остается фактом: задолго до официального появления опытной
науки в Европе уже сложились такие условия, когда она могла использовать на
правах науки продукты чужих ритуалов, могла обеспечить для них
процесс накопления фундаментальности – некоторое многообразие
практических приложений. В этом смысле европейская наука появилась не на
пустой фундаментальной должности, а вытеснила с неё заимствование –
первичную форму или «праформу» европейской опытной науки. Это значит,
что система фиксированных уровней и то, что мы сегодня называем прикладной
наукой, без которой открытия не могут получить форму практического
отношения к миру, уже были развиты хотя бы как потребность я
соответствующая психологическая ориентация, Все это явным образом связано
с европейской раздробленностью, смутами, нестабильностью, и в этом пункте
мы целиком согласны с Нидамом: «Наиболее очевидный и естественный способ
объяснения загадки науки
119
представляется таким, который вскрыл бы фундаментальные различияв
социально-экономической структуре и в степени стабильности между Европой
и азиатскими цивилизациями. Эти различия призваны были бы объяснить не
только загадку европейского возникновения науки, но и европейского
возникновения капитализма вместе с протестантизмом, национализмом и всем
тем, чему нет параллелей в других цивилизациях»
67
.
В этой предельно широкой постановке вопроса нам хотелось бы выделить
несколько частных деталей, которые, по нашему мнению, имеют либо
непосредственное, либо ближайшее отношение к опытной науке. Прежде всего
это двоевластие, борьба за власть между церковью, феодальными
государствами, городами. Далее, монополия церкви на теорию и на
подготовку соответствующих кадров, что в целевой и рациональной части
всем движениям и теориям средневековья придавало религиозную окраску
связи со словом и сотворенности по-слову. Принцип наследования, по
которому власть и имущество передаются старшему сыну, что создавало в
Европе избыток свободного и выброшенного за рамки ритуала таланта и что во
многом объясняет европейский авантюризм – с одной стороны,
психологическую установку изгоев на возвращение в ритуал с чем-нибудь
новым и необыкновенным, с компасом, например, или с Америкой,
философским камнем, социальной утопией и т. д., и т.п., а с другой стороны,
готовность ритуала принимать и усваивать новое. Появление в Англии языка
новой для Европы аналитической структуры, что сделало многие положения
античной философии, связанные с отождествлением онтологической и

лингвистической форм (категории Аристотеля) предметными, гетерономными
по структуре и доступными для критики. И, наконец, восстановление Фомой
Аквинским учения Аристотеля о бытии и видах познания в усеченной и
догматизированной форме, что облегчало их критику и преодоление.
Не все из перечисленных особенностей европейских ритуалов могут
рассматриваться под знаком необходимости. Складывание новоанглийского
языка, например, и деятельность Фомы Аквината – явления в историческом
плане явно случайные. В этом отношении Европе «повезло»: изменение строя
языка – явление редкое, да и систематизирующие гении ранга Фомы, способные
довести до абсурда окаменелости живую мысль появляются не каждое столетие.
Но вот основная часть движущих и оформляющих сил – разложение на
духовное и светское; избыточный талант; теоретическая установка на изучение
мира по священному тексту конечной длины; Библия как гарант духовного
единства и взаимопонимания ; авантюризм и терпимость ритуала к новшествам
– все это продукт естественного воспроизводства европейских ритуалов,
какими они сложились после краха Римской империи как разрушители и вместе
с тем духовные наследники античного мира.
Если опытная наука, по замечанию Энгельса, есть синтез, «смыкание»
философии и практики, то параллельно и независимо от роста прикладных
эмбрионов имеющего стать научного механизма, усилиями которых
переоформляются, например, и внедряются в ритуал такие эмигранты, как
порох, ракеты, компас, деревья на дорогах, фарфор, специи, картофель, табак и
многое другое, нам следует рассмотреть философское движение к практике,
формирование в рамках европейского ритуала
120
своего особого «европейского Китая», откуда можно заимствовать пускать
в практический оборот, в накопление фундаментальности вещи почище пороха
и компаса. Если сравнить эту новую структуру: «европейский Китай» –
прикладная часть – ритуал с атомным реактором, то отдельные детали этого
теоретического реактора были подготовлены философами и учеными многих
стран: Коперником, Кампанеллой, Мором, Бруно, Галилеем, Монтенем,
Серветом, Гарвеем, Декартом, но заслуга сборки всех этих деталей в целостную
систему и запуска этой системы принадлежит бесспорно англичанам, прежде
всего Бэкону, Гоббсу и Ньютону. Англичане теоретически и практически
подготовили и с появлением в 1665 г. первого выпуска «Ученых записок
Королевского общества» запустили в нормальную эксплуатацию реактор
науки, существенные черты которого остаются неизменными и до наших дней:
чистая наука или «европейский Китай» выдает свои продукты на уровень
публикации, а развитые прикладные механизмы «заимствуют» с этого уровня
новинки, оформляют их в соискателей для соответствующих фиксированных
уровней, а дальше уже начинается то, о чем мы писали, в том числе и наши
сомнения: взорвемся или пронесет?

Основной рабочей деталью, золотником опытной науки служит теория
эксперимента. На пользу опыта, наблюдения указывали многие и раньше,
только у Бэкона и особенно у Галилея эксперимент получает методологическую
нагрузку. Бэкон в 1607 г, писал: «В естественной философии практические
результаты – не только средство улучшения благосостояния, но и гаранты
истинности. Религиозный канон, по которому человек обязан подтверждать
свою веру делом, имеет силу и для естественной философии. Науку также
должно подтверждать делом. Наука без дел мертва, и именно в свидетельствах
дел, а не логикой или даже наблюдениями открывается и устанавливается
истина»
68
. Галилей в учении о резолютивном и композитивном методах привел
теорию эксперимента в ту «вопросительную» форму, в которой слово, дело и
условия реализации дела сведены в системную причинную связь. В письме 1953
г. к Швитцеру Эйнштейн так оценивал фундаментальные предпосылки науки:
«Развитие западной науки основано на двух великих достижениях: на
разработке греческими философами формально-логических систем (евклидова
геометрия) и на обнаружении в эпоху Возрождения того факта, что причинные
отношения можно вскрыть с помощью систематического экспериментирования.
Я лично не стал бы удивляться тому, что китайские мудрецы не сумели
сделать этих открытий. Удивляться приходится другому: что эти открытия
вообще были сделаны»
69
.
Удивление здесь уместно, пожалуй, только в методологическом плане, как
стимул для исследования, тем более что спорадически, как деятельность сама
собой разумеющаяся, эксперимент встречается и в античности (определение
расстояния до солнца, например), и в Китае; Архимед, судя по новейшим
данным, использовал даже моделирование. Трудность здесь, видимо, не в
эксперименте как таковом, а в выработке всеобщего принципа, идеи
эксперимента вообще, санкционированного верховной авторитетной
структурой и приведенного с нею в связь примерно в том плане, в каком
античный прогноз был привязав по Олимпу. Нидам хорошо видит эту трудность
для Китая: «Этап научного развития от
121
Леонардо да Винчи до Галилея не был пройден естествознанием Китая его,
возможно, и нельзя было пройти. В средневековом Китае систематическое
экспериментирование велось в больших масштабах, чем в Древней Греции или
средневековой Европе, но пока существовал «бюрократический феодализм»,
математика не могла объединиться с эмпирическими наблюдениями природы, а
эксперимент – дать нечто фундаментально новое. Дело в том, что эксперимент
требует слишком уж активного вмешательства, и, хотя к такому вмешательству
приходилось терпимо относиться в ремесле и торговле, более терпимо даже,
чем в Европе, получить философскую санкцию в Китае активному
вмешательству было, видимо, труднее»
70
.

Существовала подобная трудность и в Европе, но здесь она была в принципе
преодолима, т.е. можно было заставить верховную структуру «усыновить»
эксперимент, смириться с его существованием, как олимпийцы усыновляли и
удочеряли новых богов и богинь. Трудность возникала по линии снятого
выбора, поскольку сотворенность мира богом и приведение его в наилучшую
из возможных форм казалось, бы начисто отметали попытки выхода в новое –
от добра добра не ищут. И любая попытка достижения каких-то иных
результатов должна бы расцениваться как вредная ересь и атеизм. Так оно,
собственно, и было, но сами идеи сотворенности и богоподобия позволяли и
другое толкование. Если, например, допустить, что время до второго
пришествия отпущено человеку на самосовершенствование, т.е., тем или иным
путем временно отстранить бога от обязанностей управления и надзора, то
богоподобие человека и сотворенность мира приобретают уже обратный смысл:
человек как микробог стоит перед природой – твореньем божьим как конечный
субъект бесконечного познания структуры, положенной в природу в момент
творения.
Это основная посылка деизма, о которой Кант, например, писал: «Так как под
понятием бога принято разуметь не слепо действующую вечную природу как
корень вещей, а высшую сущность, которая должна быть творцом вещей
посредством рассудка и свободы, и так как только это понятие интересует нас,
то, строго говоря, можно утверждать, что деисты отвергают всякую веру в бога
и признают лишь первосущность или высшую причину»
71
. Но при таком
подходе, а он широко распространен и сегодня, теряется главное – идеи
сотворенности, богоподобия, откровения – совсем не лишние детали или, как
принято говорить, «непоследовательности» деистов. Совсем напротив, они –
основа их теоретико-познавательной конструкции, на наш взгляд, даже
единственной конструкции, позволяющей совершить переход от религиозного к
научному мировоззрению, от книжных истин и откровения к научному факту и
открытию. Это схема того же ранга, что и пойманное Аристотелем тождество
движений «по-природе» и «по-слову», если снят выбор. Важность указанных
принципов для деизма подтверждается и тем обстоятельством, что философы
этого времени вовсе не рвутся освободиться от «теологических
непоследовательностей», а, напротив, подчеркивают и развивают принцип
сотворенности, видят в нем причину «естественного благочестия», что можно
обнаружить почти у всех философов ХVII - XVIII вв. Гоббс, например, так.
пишет о сотворенности: «...люди, сила которых столь незначительна, заметив
такие могучие творения, как небо,
122
земля, видимый мир, столь тонко задуманные движения животных, их разум, а
также чудесную целесообразность в устройстве их органов, не могли не
почувствовать пренебрежения к своему собственному разуму, который не в
состоянии даже подражать всем этим вещам... Собственно говоря именно этот

эффект называется естественным благочестием и является первой основой всех
религий»
72
. Тот же ход мысли и у Канта: «достойный восхищения порядок,
красота и предусмотрительность, проглядывающие во всем в природе, сами по
себе должны породить веру в мудрого и великого создателя мира»
73
.
Внутреннее ехидство и глубокий антирелигиозный, вернее антицерковный,
смысл этого подчеркивания сотворенности мира состоит в том, что
поставленный перед такой природой человек, подобие божие, в своем
стремлении к богу оказывается перед выбором: познавать ли ему бога по
свидетельствам пророков – через откровение, либо же попробовать познать
бога не с чужих слов, а по чудесным продуктам его творчества – по
сотворенной природе. Если человек богоподобен, а природа сотворена, то на
втором пути не должно возникать препятствий: природа логически гомогенна,
то есть и то знание, которым обладает человек, и то, которым он пока не
обладает в силу своей конечности, суть части целого, заложенного богом в
природу плана творения по-слову, т.е. по тем же законам логики и языка,
которыми пользуется человек. Отсюда и возникает та трагикомическая, на
современный взгляд, ситуация, когда, с одной стороны философы, серьезные
все люди, хором ругают пророков, ссорятся друг с другом по поводу нелепых
и непонятных для нас вопросов вроде спора Декарта с Гоббсом насчет того,
может ли атеист быть уверенным, что он бодрствует, а с другой стороны, те же
самые философы к нашему удовольствию, удовлетворению и глубокому
пониманию не менее дружно подталкивают человека на второй путь прямого,
без помощи пророков, познания природы. Но если вдуматься в ситуацию и
учесть то обстоятельство, что познавать-то предлагается не столько природу,
сколько бога через природу, нам волей-неволей придется назвать этот второй
путь «конкретным теологическим исследованием». По линии критики пророков
возникает типичная для XVII–XVIII вв. фигура сомнения: «В намерения духа
святого входит научить нас тому, как взойти на небо, а не тому, как ходит само
небо», а также и сильнейшее недоверие к церковным авторитетам. Тот способ,
которым человек получил от бога знание, становится объектом самых мелочных
придирок. Спиноза, например, всяко лыко ставит богу в строку: сам-то бог
косноязычен и непонятен, да и пророки-то у него то люди веселые, то
меланхолики, то тонкие, то грубые, и приходит к выводу: «Итак, отсюда более
чем достаточно обнаруживается то, что мы намеревались показать, именно: что
бог приспосабливает откровения к пониманию и мнениям пророков и что
пророки могли не знать вещей, которые касаются чистого умозрения (а не
любви к ближнему и житейской практики), и действительно не знали, что у них
были противоположные мнения. Поэтому далеко не верно, что от пророков
следует заимствовать познание о естественных и духовных вещах. Итак, мы
приходим к заключению, что мы не обязаны верить пророкам ни в чем, кроме
того, что составляет цель и сущность откровения; в остальном же
предоставляется свобода верить, кому угодно»
74
.

123
Это недоверие к пророкам и к той форме, в которой осуществлялась
Коммуникация между человеком и богом, как раз и оказывается местом
прорыва в новый вид деятельности – в прикладную теологию, в которой
религиозный экстаз единения с божеством нагружен научной функцией: «Мы
не должны отречься от наших чувств и опыта, – пишет Гоббс, – а также от
нашего естественного разума (который является несомненным словом божьим).
Ибо все эти способности бог дал нам, дабы мы пользовались ими до второго
пришествия нашего святого спасителя. Поэтому они не должны быть завернуты
в салфетку слепой веры, а должны быть употреблены для приобретения
справедливости, мира и истинной религии. Ибо хотя в слове божьем есть
многое сверх разума, т.е. то, что не может быть ни доказано, ни опровергнуто
естественным разумом, но в нем нет ничего, что противоречило бы разуму. А
если имеется видимость такого противоречия, то виной этого является или наше
неумение толковать слово божье, или наше ошибочное рассуждение»
75
Здесь впервые складывается то естественнонаучное умонастроение, которое
Ленин называл «стыдливым материализмом»
76
, а Эйнштейн – глубочайшей
уверенностью ученых в том, что «природа коварна, но не злонамеренна». По
этой психологической установке природу дозволено подозревать только в
одном – у нее для человека всегда в запасе загадки и тайны, она – неиссякаемый
источник нового. Во всем же остальном природа стабильна, она не играет с
нами в прятки, у нее нет механизмов, с помощью которых она могла бы вводить
нас в заблуждение, активно сопротивляться стремлению человека выведать ее
тайны или избирательно относиться к таким попыткам. Поэтому всякая неудача
должна быть списана на человека, а не на природу, которая с тех пор и поныне
пользуется репутацией и набором совершенств, принадлежавших некогда богу:
в природе нет зависти, подлости, она тверда и неизменна в своих решениях,
всегда дает однозначные, независимые от условий места и времени ответы на
одинаковые вопросы.
Все дело в том, чтобы научиться задавать природе вопросы, овладеть языком ее
творения. Эксперимент как раз и представлялся сознанию ученых таким языком
природы, способом беседы с богом на равных по поводу принципов,
заложенных в сотворенную природу, беседы без пророков-переводчиков. Для
этого приходилось, естественно, ломать голову, искать новые связи идей,
придумывать способы их проверки, но само познание представлялось почти
священнодействием, наука – храмом, а открытие и откровение еще и сейчас
осознаются различенным только по залогу: открытие – ответ на человеческий
вопрос, т.е. откровение по требованию.
Это новое умонастроение прекрасно выразил Кант как существенную черту
революции в способе мысли: «Естествоиспытатели поняли, что разум видит
только то, что сам создает по собственному плану, что он с принципами своих
суждений должен идти впереди согласно постоянным законам и заставлять

природу отвечать на его вопросы, а не тащиться у нее словно на поводу, так как
в противном случае наблюдения, произведенные случайно, без заранее
составленного плана, не будут связаны необходимым законом, между тем разум
ищет такой закон и нуждается в нем. Разум должен подходить к природе, с
одной стороны
124
со своими принципами, сообразно лишь с которыми согласующиеся между
собой явления и могут иметь силу законов, и, с другой стороны, с
экспериментами, придуманными сообразно этим принципам для того, чтобы
черпать из природы знания, но не как школьник, которому учитель
подсказывает все, а как судья, заставляющий свидетеля отвечать на все
предлагаемые ему вопросы»
77
При всем том это новое умонастроение явным образом выступало как
обращение теологической идеи сотворенности снятого выбора. Если сначала
стоицизм, а затем, с большей решительностью и успехом, христианская
теология пытались закрыть и замуровать едва приоткрытую Аристотелем дверь
в какое-то новое восприятие мира по линии возможностей-потенций
материального начала, направляли творческие усилия к познанию конечных
целей; и того мыслящего существа, которое ответственно за выбор этих целей;
то теперь, с появлением науки – «конкретного теологического исследования»,
внимание все более переносится на «материальное начало», на состав и
структуру составляющих его потенций. Познание начинает мыслиться не в
терминах постижения конечных и высших истин, а в терминах накопления
выбора, т.е. в самом европейском ритуале открываются вдруг запасы тех
диковин и странных вещей, которые Европа до этого ввозила из Китая и других
мест на предмет использования для собственных нужд.
Процесс освоения местных залежей новых истин совершится не так уж быстро.
Блэккет по этому поводу замечает: «В течение первых двухсот лет, с 1600 по
1800, современная наука многому научилась от технологии, но почти ничему не
научила технологию. Слишком уж высоко были развиты имеющие
тысячелетнюю историю производственные навыки, и, прежде чем решиться на
радикальные усовершенствования технологии, систематизирующей науке
предстояло еще пройти долгий путь развития, Даже сегодня биохимик вряд ли
решился бы объяснить повару, как лучше жарить яичницу. Несмотря на интерес
Королевского общества к «полезным искусствам», прочный контакт науки и
технологии стал совершившимся фактом не раньше последней четверти
восемнадцатого столетия»
78
. Но главное было сделано: в европейском ритуале
возникло заритуальное автономное общество по производству штучных товаров
– новых и различенных в соответствии с запретом на плагиат возможностей-
потенций.
Побочной стороной этого акта было то обстоятельство, что в новых условиях,
когда материальное начала стало быстро расти по составу, нужно было либо

изыскать способ заставить бога работать, снимать выбор в том же темпе, в
каком он появляется, либо же отказаться от услуг бога и передать его функции
какому-то другому механизму. Трагедия момента состояла в том, что,
решительно порвав с богом, наука слишком долго медлила с созданием
механизма ответственного и квалифицированного выбора, и лишь душегубки и
Хиросимы заставили ее понять, что есть проблемы и за ее спиной.
2. Физика, бойся метафизики!
Пытаясь разобраться в том, как же так получилось, что вот сегодня, триста лет
спустя после начала разработки европейских залежей новых
125
истин, мы все, включая и ученых, видим в науке загадку, испытываем к ней
смешанные чувства надежд и опасений, нам прежде всего следует обратить
внимание на тот факт, что появление этой загадки как социально важной
проблемы – продукт недавнего пришлого. Хотя запущенный англичанами
реактор науки работал вполне исправно, его воздействие на ритуал
обнаружилось не сразу, да и когда обнаружилось, носило локальный характер.
К тому же, пока в производстве не утвердился машинный принцип, при
котором трудовой навык полностью или значительной частью омертвлен в
металле, воздействие науки на производство не ощущалось в чистом,
«членораздельном» виде морального старения техники, и эффект поглощался
скрытой, не оставляющей следов трансформацией навыков.
Другая причина задержки связана с расколом предмета теологии в той форме, в
какой он был представлен Фомой Аквинским, на два самостоятельных
предмета – научный и метафизический, причем связь между наукой и
метафизикой возникает как связь антагонистическая. Следы этого антагонизма
прослеживаются и сегодня. Обсуждая проблему организации и планирования в
науке, Бернал, например, замечает: «Прошлое знает эпохи, когда верили, будто
законы природы даны в откровении или могут быть априорно установлены
рассудком. Ограничения, которые такая вера накладывала, тормозили развитие
науки в Европе более тысячи лет. Естественно поэтому, что любой разговор об
организации и планировании науки представляется некоторым как фатальное
ограничение, если смотреть на организацию и планирование глазами
прошлого»
79
.
Истоки раскола восходят к Бэкону. Этот «настоящий, – по Марксу, –
родоначальник английского материализма и всей современной
экспериментирующей науки..»
80
делит в своей классификации науку о природе
на физику и метафизику, причем это, разделение оказывается рассечением
аристотелевской четырехначальной сущности надвое. Действующие и
материальные причины отходят у Бэкона к физике; здесь роль творца
