Петров М.К. Самосознание и научное творчество
Подождите немного. Документ загружается.


подобно тому, как первое дизельное судно положило конец неоспоримому
господству парохода»
114
.
При всем этом наука, чистая и прикладная живет именно на проценты от
практической фундаментальности ее продукта, и хотя в каждом конкретном
случае скорость движения определенности на том или ином фиксированном
уровне ритуала может скачкообразно изменяться, та же величина для ритуала в
целом должна обладать большей устойчивостью и, видимо, может служить
исходной определенностью для взаимных расчетов между наукой и
государством.
Теоретическое накопление. Если в пределах кольца публикаций мы
143
чувствуем под собой хотя и шаткую, но все же почву, то, пройдя через это
кольцо и пытаясь углубиться в ту область «полевых исследований», где ученые,
по их собственным уверениям, сражаются с силами тьмы и невежества, а с
точки зрения инженерно устроенных личностей заняты тем, что без конца
пытаются наш порядок «с подниза копать», мы обнаруживаем себя примерно в
той же позиции, в какой оказывается человек, входя с яркого солнечного света в
пустой и темный сарай. Тут сразу вспоминаются и Гете с его «сухой» теорией и
пышно зеленеющим «лебенсбаум», которое так любил Ленин, и общий клич
просветителей: «В начале было дело!», и многое другое. Но все это позади, а в
темноте страна изгоев и отверженных, во всяком случае так о ней рассказывают
и пишут сами ученые.
Большинство из них находит в этом отчуждении и в этой отверженности свою
особую норму жизни. Эйнштейн, например, рассказывает о себе: «Я – лошадь,
годная для одной упряжки, и не создан для тандема. Я никогда не принадлежал
всем сердцем стране или государству, друзьям или даже моей семье. Эти связи
всегда сопровождались некоторой отчужденностью, и желание уйти в себя
усиливалось с годами... Иногда такая изоляция горька, но я не жалею, что
лишен понимания и симпатии других людей. Конечно, я что-то теряю от этого,
но я вознагражден независимостью от обычаев, мнений и предрассудков других
людей, и меня не соблазняет перспектива воздвигнуть душевное равновесие на
таких зыбких основах»
115
. И хотя он сам признавался: «Моя нелюдимость всегда
находилась в странном противоречии со страстным стремлением к социальной
справедливости и социальной ответственности», – отчуждение было все же
основным; когда ему в 1952 г. предложили стать президентом Израиля, он
отказался под тем предлогом, что не считает себя способным к общественной
деятельности.
Тема одиночества, неспособность идти на компромиссы с жизнью и совестью
звучит во многих описаниях психологической атмосферы научного творчества,
и часто она переходит в жалобу и трагедию. «То обстоятельство, что
нетрадиционное творческое мышление встречается крайне редко, – пишет
Саймонс, – а также и огромная социальная ценность продуктов такого

мышления наталкивают на естественный, казалось бы, вывод, что общество
должно особенно ценить этот тип мышления, заботиться о нем и защищать его,
что оно пойдет на все, чтобы помочь талантливым индивидуумам найти
достойное применение своим талантам. К сожалению, все здесь обстоит как раз
наоборот. Общество людей, как и любая стая животных, едино в стремлении
выбрасывать, рвать, ограничивать и убивать всех тех, кто отходит от среднего
стандарта»
116
.
Вместе с тем эта довольно-таки мрачная романтика бригантин и одиноких
пиратов не единственная краска на палитре, с помощью которой пишут картины
научной жизни. Пожалуй, более здесь характерны изображения в несколько
иной, мы бы сказали «социальной манере, в основу которой положен если не
снобизм, то уж во всяком случае твердая внутренняя убежденность ученых в
том, что тот «порядок» и те отношения по поводу людей, к которым они
привыкли в науке, как раз и есть единственно разумная норма социальной
жизни, а все остальные порядки – лишь реликты проклятого ритуального
прошлого,
144
с которыми человечеству рано или поздно придется расстаться. Бернал так
рисует этот научный порядок: «В науке человек сознательно научается
подчинять свои цели общим, не теряя при этом своей индивидуальности или
своих личных достижений. Каждый знает, что его работа зависит от труда
предшественников и может дать плоды только через труды преемников. В науке
люди сотрудничают не потому, что их вынуждает к этому вышестоящая власть,
и не потому, что они слепо следуют за избранным лидером, а потому, что они
сознают – только в добровольном сотрудничестве каждый может внести свой
вклад. Не приказы, а советы определяют в науке действия»
117
. В таком
социально-историческом ракурсе наука выглядит вкраплением будущего в
социальное настоящее, своего рода точкой роста новой социальности в
будущее, в те времена, когда, как пишет Капица: «...одна половина населения
государства будет выполнять общественные функции, другая же будет работать
в институтах, конструкторских бюро, на опытных заводах, там, где не может
иметь место механизация и автоматизация, но необходим индивидуальный
подход к решению каждой поставленной проблемы»
118
.
Единой точки зрения здесь, понятное дело, нет – слишком уж ученый люд
боится «метафизического» единомыслия, но некоторые черты общности
налицо: в любом случае речь идет о социальности индивидов, о содружестве и
сотрудничестве голов, а не поголовья. Эта общность и единство в оценке
решающей роли личного начала, яркой индивидуальности, необычной мысли,
нетрадиционных задач и нетрадиционного подхода к их решению, как раз и
образует, как нам кажется, ключ к пониманию интимных механизмов научного
творчества, который можно было бы в первом приближении определить как
кумуляцию разномыслия.

Под кумуляцией разномыслия мы имеем в виду движение, которое, с одной
стороны, на всех уровнях избегает повтора и плагиата, в том числе и на уровне
человеческой головы – науке не нужны ньютоны и эйнштейны, они уже были,
отметились в истории науки как яркие индивидуальности, а с другой – это
движение связи различенного, комплектование неповторимых продуктов
человеческой мысли в структурную целостность научного знания, что дает
известные эффекты «встроенности», «стыковки», «стояния на плечах», т.е.
эффект кумуляции – накопления и разрастания какого-то единого качества,
обладающего, по-видимому, свойством аддитивности и, соответственно,
способностью к преемственному росту.
Поскольку различенность сама по себе трудно дается нашему, способу мысли и
представима лишь как свойство систем, упорядоченных множеств,
постольку она теряет смысл в попытках абсолютного истолкования по
тем самым причинам, по которым Юм отказывался от каких-либо суждений
относительно уникальных объектов и событий, а наука как раз и стоит на
абсолютном толковании различенности, наш разум попадает в область самых
что ни на есть фундаментальных трудностей. Наш тип мысли оказывается
перед этой задачей в том же примерно положении, в каком и доолимпийская
мысль, когда ей предлагают естественное истолкование причинности.
Трудность здесь одна – трудность размыкания того, что связано в устойчивую
целостность и всем своим поведением в ритуале демонстрирует свою
«атомарность»,
145
неразложимость, «простоту».
Наша мысль настолько высоко ценит все виды целостности от монолитных
характеров до порядка и фигур логики, настолько привыкла связывать
различенное и тут же отправлять связанное в подкорковую область
неосознанного навыка, что процесс связи и отвода продукта в недоступную
для различенного восприятия область происходит практически мгновенно.
Никто не смог бы, например, вспомнить четвертое слово предыдущего
предложения или третье настоящего: здесь все уже связано, и формальная корка
различений, через которую прошла связь, выброшена за ненадобностью как
выжатый лимон. Но может быть наиболее глубокая тайна научного творчества,
как и творчества вообще в том и состоит, что для науки это не просто корка –
лестница к смыслу, которую, по Витгенштейну, мы обязательно и
незамедлительно отбрасываем, а нечто большее и обладающее инерционным
или абсолютным довеском, что позволяет из одних и тех же элементов, по-
разному их комбинируя, строить великое разнообразие лестниц к не менее
великому разнообразию смыслов.
По существу – это то самое движение, которое прекрасно знакомо каждому из
нас по феномену речи, и оно было бы много понятнее, если бы хоть один из нас
всерьез удивился и задумался над тем, почему все языки членораздельны,

почему так просто двигаться в языке в одном направлении и трудно, почти
невозможно, в обратном. Если речь зафиксирована графически либо другим
способом, мы можем без труда вернуться к любому различению, восстановить
его в чистом виде. Но нужно именно остановиться и вернуться, нужен сбой,
разрушение автоматизма, а умение и желание читать или говорить задом
наперед нельзя отнести к легким и распространенным навыкам. Поэтому
членораздельность как свойство речи и всех развитых семиотических систем –
величайшая, может быть, из тайн творческого мышления – закрыта от
обыденного сознания шорами автоматизмов, а горькие жалобы на этот счет, на
слепоту людей, которые говорят и действуют «как во сне», слышны еще со
времен античности. Гераклит, например, писал: «Слово существует вечно, но не
сознают его люди ни до того, как услышат, ни услышав впервые. И хотя все
совершается в согласии со словом, люди оказываются беспомощными, когда
берутся рассуждать о словах и делах, которые я объясняю, различая каждое по
природе и указывая, что оно содержит. Другим же не надо, и они, бодрствуя,
болтают, как если бы говорили во сне» (Секст, Против математиков, VII, 132);
«...не следует говорить и действовать как во сне» (Марк Антонин, IV, 46).
Не нужно думать, что самой науке это понятное и разрушительное движение
дается легко и просто. Галилей, например, так и не признал в кометах небесные
тела, поскольку по его представлениям о небесных порядках движение
небесных светил могло совершаться только по кругу. По той же причине, но
уже с более теологическим оттенком, искатель музыки небесных сфер Кеплер
долго не мог заставить себя поверить в собственные законы: эллипс казался ему
гораздо менее совершенной фигурой, чем круг, и признание того, что планеты
движутся по эллипсам, значило для него умаление силы и совершенства
всевышнего. То же
произошло и с расщеплением урана. Начиная с опыта Ферми в 1934г., уран
многократно расщепляли, но только в декабре 1938 г. Ган и Штрассман
146
решились, и то с оговорками, поверить в происходящее. И ничего особенно
удивительного в этом нет. Представить, что уран способен расколоться, было
несложно, но вот поверить, что он раскалывается на барий, лантан и церий было
для физика тех времен так же трудно, как нам сегодня уверить себя, что от
хорошего удара стол способен расколоться на пару стульев и табурет.
Основные парадоксы научного мышления, вернее, основы нашего восприятия
этого мышления под знаком парадокса, коренятся, нам кажется в том, что очень
уж нам трудно дается представление об абстракции как о необходимом
моменте процесса мысли. Навык пользоваться абстракцией есть у каждого,
чтобы сказать что-то, нужно предварительно освободить слова, и в возрасте «от
2 до 5» человек самостоятельно выполняет колоссальнейшую разрушительную
работу, сам себе выстраивает свой личный «уровень публикации», выламывая
слова из связей, в которых он их воспринимает, и совершая над этими

обломками смысла такие операции типа «он на пегой на телеге, на дубовой
лошади», которым может позавидовать самый отчаянный любитель
«сумасшедших мыслей». Но дальше-то человек привыкает, и эта способность
выхода в перевертыши, чувство власти над словом сохраняется очень
немногими. В споре с Алисой Хампти Дампти замечает: «Когда я пользуюсь
словами, они значат только то, что они по моему мнению и выбору должны
значить. Ни больше, ни меньше». А когда Алиса протестует: «Вопрос в том,
можешь ли ты заставить их значить такие разные вещи», Дампти решительно
пресекает ее сомнения: «Вопрос только в том, кто кем владеет. Кто хозяин, и
все тут».
Вопрос «кто кем владеет» – человек формализмом или формализм человеком –
центральный, похоже, вопрос теории научного творчества, и именно в этом
плане он был впервые поставлен как вопрос о возможности метафизики
величайшим философом нового времени Кантом. Кант принял аргументацию
Юма, но принял с существенной оговоркой: «... сначала я попробовал, нельзя
ли представить возражение Юма в общем виде, и скоро нашел, что понятие
связи причины и действия далеко не единственное, посредством которого
рассудок мыслит себе a priori связи между вещами, и что, собственно говоря,
вся метафизика состоит из таких понятий. Я постарался удостовериться в их
числе, и, когда это мне удалось, и притом так, как я хотел, а именно исходя из
одного принципа, я приступил к дедукции этих понятий, относительно которых
я теперь убедился, что они не выведены из опыта, как этого опасался Юм, а
возникли из чистого рассудка»
119
.
Обычное возражение против такого рассуждения состоит в том, что Кант здесь
явный идеалист, к тому же субъективный (самая скверная разновидность
идеалистов), поскольку этот принцип вывода из чистого рассудка, развитый в
систему априоризма, поставит человека, именно человека, а не общество (это
бы еще можно стерпеть) перед природой на правах законодателя и творца.
Вот только что творит человек у Канта, природу? Нет, не природу, только
отношения к природе, но... И тут начинается уже вторая линия возражений:
Кант не только идеалист в субъективной его разновидности, но и агностик, он
«вещь в себе» признавал, а познаваемость ее отрицал. И так нехорошо, и эдак не
выходит, вот только почему-то очень уж упорно
147
за него цепляется философствующая наука – Эйнштейн, Винер, Планк и многие
другие.
Нам кажется, что Канту крупно не повезло в том смысле, что теология в его
время не ушла еще со сцены, не освободила место на иконостасах для таблицы
умножения и диалектики больших чисел, хотя, вообще-то, говоря, он предвидел
такую возможность: «Математика дает нам блестящий пример того, как далеко
мы можем продвинуться в априорном знании независимо от опыта. Правда, она
занимается предметами и познаниями лишь настолько, насколько они могут

быть показаны в созерцании. Однако это обстоятельство легко упустить из
виду, так как указанное созерцание само может быть дано a priori и поэтому его
трудно отличить от чистых понятий. Страсть к расширению знания, увлеченная
таким доказательством могущества разума, не признает никаких границ.
Рассекая в свободном полете воздух и чувствуя его противодействие, легкий
голубь мог бы вообразить, что в безвоздушном пространстве ему было бы
гораздо удобнее летать»
120
.
Что-то мало похож Кант в этом рассуждении на идеалиста, и стоит привести
еще одно его высказывание, которое, как нам кажется, подводит к самому ядру
кантовской философии: «...один лишь логический критерий истины, а
именно соответствие знания с всеобщими и формальными законами рассудка и
разума, есть, правда, conditio sine qua non, стало быть, негативное условие
всякой истины, но дальше этого логика не может идти, и никаким критерием
она не в состоянии обнаружить заблуждение, касающееся не формы, а
содержания... Но так как одной лишь формы познания, как бы она ни
соответствовала логическим законам, далеко еще не достаточно, чтобы
установить материальную (объективную) истинность знания, то никто не
отважится судить о предметах с помощью одной только логики и что-то
утверждать о них, не собрав о них уже заранее основательных сведений помимо
логики, с тем чтобы впоследствии только попытаться использовать и соединить
их в одно связное целое согласно логическим законам или, что еще лучше,
только проверить их сообразно этим законам. Тем не менее есть что-то
соблазнительное в обладании таким мнимым искусством придавать всем нашим
знаниям рассудочную форму, хотя по содержанию они и были еще пустыми и
бедными; поэтому общая логика, которая есть лишь канон для оценки, нередко
применяется как бы в качестве органона для действительного создания по
крайней мере видимости объективных утверждений и таким образом на деле
употребляется во зло. Общая логика, претендующая на название такого
органона, называется диалектикой»
121
.
Что же здесь, собственно, происходит? Идеалист, отрицающий право логики на
истину, призывающий проверять логические построения экспериментом? Нам
кажется, что здесь нет никакой особой загадочности Кант: попросту открыл
одну из тайн философской конструкции Аристотеля, увидел, что природа
Аристотеля и природа науки – вещи разные. У Аристотеля граница природы
положена там, где кончается слово и начинается дело, «рабствующее и
исполняющее чужую волю». Такую природу можно было творить по-слову, и
Аристотель лишь философски санкционировал реальное разделение слова и
дела, положил эту границу как бытие (ειναι), т.е. онтологизировал ее:
«Самостоятельное существование в себе приписывается всему тому, что
обозначается
148

через различные формы высказывания, ибо сколькими способами
высказываются, столькими способами и обозначено бытие (οεαθωζ θεγεται,
τοεαθωζ το ειναι σημαινει). А так как одни из высказываний обозначают суть
вещи, другие – качество, некоторые – количество, иные – отношение, иные
действие или страдание, иные отвечают на вопрос «где?», иные – на вопрос
«когда?»; то в соответствии с каждым из этих высказываний те же самые
значения имеет и бытие» (Метафизика, 1017 в)
Было бы опасной наивностью полагать, что такое наложение грамматики
на бытие – дело прошлое, изжитое и «преодоленное» нашим типом мысли.
Ничуть не бывало, Кестлер, например, справедливо замечает: «Выводя свою
систему категорий, которые были для него грамматикой бытия, Аристотель
лишь проектировал грамматику греческого языка на космос. Эта грамматика и
поныне держит нас в своих парадоксах, и за два тысячелетия она стала
причиной взлета и падения европейской мысли»
122
.
Кант первым и, к сожалению, едва ли не единственным заметил, что новое
истолкование причинности сместило уровень бытия, поставило дело средним
звеном между словом и бытием-природой, т.е. он открыл неправомерность
онтологизации грамматики, если причинность мыслится по Гоббсу и Юму.
Кантовский априоризм по сути дела та же грамматика, но она уже не совпадает
с бытием, поднята над бытием как чисто операционный и пустой принцип
оформления, который сам по себе не создает истин, а лишь оформляет
содержание в том смысле, в каком конверт и лист бумаги оформляют письмо,
не входя в его содержание, а грамматика русского языка равно хорошо
оформляет и «Братьев Ершовых», и «Один день Ивана Денисовича».
Этот априорный канон – негативное условие всякой истины – навязан нам
с такой же силой и обязательностью, с какой мы вынуждены брать лист бумаги
и конверт, чтобы написать письмо, подчиняться правилам грамматики того
языка, на котором говорим и пишем. Но смысл нашего подчинения этим
правилам явным образом не совпадает с понятием естественной
необходимости или «полной причины» Гоббса. Возникает парность
подчинений, своего рода двоевластие, и человек – разумное существо –
оказывается ключом природного и умопостигаемого: «У него две точки зрения,
с которых оно может рассматривать себя и познавать законы приложения своих
сил, т.е. законы всех своих действий: во-первых, поскольку оно принадлежит к
чувственно воспринимаемому миру, оно может рассматривать себя как
подчиненное законам природы (гетерономия); во-вторых,– поскольку оно
принадлежит к умопостигаемому миру, – как подчиненное законам, которые,
будучи независимы от природы, основаны не эмпирически, а только в
разуме»
123
.
Ясное дело, что с точки зрения потребителя (адресата, слушателя,
читателя) никакого дуализма между естественным и умопостигаемым нет и
быть не может – письма приходят как целостность конверта и исписанного
листа бумаги, слово слышится и читается связанным в предложении и т.д.

Форма и содержание здесь уже слиты: форма содержательна, а содержание
оформлено. И только иногда, если нам на глаза попадается нечто вроде
египетского сфинкса или стишка: «ехал повар на чумичке, две кастрюли
впереди», мы начинаем чувствовать, что ни логика, ни
149
грамматика не гарантируют сами по себе истинности. Но с потребителем это
случается редко: не так уж много загадочных вещей на свете, да и на всем
стеллаже мировой литературы едва ли наберется с десяток книг типа стихов
Чуковского или сказок Кэрролла, где форма и содержание сознательно
удерживаются в состоянии конфликта.
Но вот если с точки зрения потребителя перейти на точку зрения творца, то
здесь-то как раз и произойдут те вещи, о которых Кант пишет как о синтезе,
трансцензусе – выходе за рамки опыта. Ведь как там ни верти, а на том же
стеллаже мировой литературы нет двух одинаковых книг, а в любой книге –
двух одинаковых листов, а на любом листе – двух одинаковых предложений.
Внешнее железо формализма, как он представлен грамматиками языков или
категориями логик, оказывается бездонной бочкой Данаид, которую мы вот
уже, несколько тысячелетий напрасно пытаемся наполнить.
Это явление бездонности, пустоты категориальной формы интересно для нас во
многих отношениях, и прежде всего тем, что оно, видимо, открывает какие-то
новые возможности для понимания механизма становления знания. Мы
можем представить его как переход – заполнение пустой формы
содержанием. В неразвитом виде эта идея становления-заполнения
представлена уже у Канта. Он четко выделяет синтез как универсальную схему
этого движения: «Без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без
рассудка ни один нельзя было бы мыслить. Мысли без содержания пусты,
созерцания без понятий слепы. Поэтому в одинаковой мере необходимо свои
понятия делать чувственными (т.е. присоединять к ним в созерцании предмет), а
свои созерцания рационализировать (т.е. подводить их под понятия). Эти две
способности не могут выполнять функции друг друга. Рассудок ничего не
может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из соединения их
может возникнуть знание»
124
. Тот же тип связи отмечен и на более высоком
уровне: «Если рассудок есть способность создавать единство явлений
посредством правил, то разум есть способность создавать единство правил
рассудка по принципам. Следовательно, разум никогда не направлен прямо на
опыт или на какой-нибудь предмет, а всегда направлен на рассудок, чтобы с
помощью понятий a priori придать многообразным его знаниям единство,
которое можно назвать единством разума и которое совершенно иного рода,
чем то единство, которое может быть осуществлено рассудком»
125
.
В переходе-становлении знания у Канта выделены две ступени: рассудочная,
связанная с упорядочением чувственного материала, что дает знание
синтетичной природы на феноменологическом уровне; и более высокая,

теоретическая ступень, связанная с обобщением феноменологического знания
на более высоком уровне. Мы не решились бы утверждать, что дело здесь идет
об уровне публикации (феноменологическое знание) и ритуале. Более вероятно,
что под второй ступенью («единство разума») Кант понимал выстраивание
вспомогательных формализмов - теорий наук, тем более, что практическое
определение рассудка движется у канта по другой линии: «Как разумное, стало
быть принадлежащее к умопостигаемому миру, существо, человек может
мыслить причинность своей собственной волн, только руководствуясь идеей
свободы; ведь независимость от определяющих причин чувственно
воспринимаемого мира
150
(какую разум необходимо должен всегда приписывать самому себе) есть
свобода. С идеей же свободы неразрывно связано понятие автономии, а с этим
понятием – всеобщий принцип нравственности, который в идее точно так же
лежит в основе всех действий разумных существ, как закон природы в основе
в основе всех явлений»
126
.
Мы можем пока отметить, что Кант, вообще-то говоря, видит развилку,
возникающую на уровне феноменологии (публикации), видит и выбор, как
условие выявления свободы, который появляется на пути с уровня публикации
в ритуал, видит и требование промежуточного формализма – «единство
разума», которое существует на каком-то другом пути и вряд ли подчинено
категорическому императиву. Но в целом схема становления-перехода остается
у Канта весьма свободной и допускающей множество толкований, чему во
многом способствовал и сам Кант, хотя он и считал последовательность
добродетелью философа: «Величайшая обязанность философа быть
последовательным»
127
.
И все же схема Канта, если ее объединить с некоторыми близкими по смыслу
положениями лингвистики, допускает значительно более четкое истолкование
Мы имеем в виду проблему узуса или отмеченности, которая у Блумфильда и у
целого ряда других лингвистов связана с появлением «третьего лица» в
становлении знания, с «информатором» или «информантом», как его здесь
называют. Определяя, например, язык через речевую общность, Блумфильд
пишет: «Совокупность высказываний, которые могут быть произнесены в
речевой общности, есть язык данной речевой общности. Мы должны уметь
предугадывать, откуда следует, что слова «могут быть произнесены». Мы
устанавливаем, что при определенных стимулах француз (или говорящий на
языке зулу и т.д.) скажет то-то и то-то, а другой француз (или знающий зулу и
т.д.) будет реагировать соответственно речи первого. Когда в распоряжении
имеется хороший информатор или когда дело идет о языке самого
исследователя, предугадывание просто; в других случаях оно представляет
наибольшие трудности для дескриптивной лингвистики»
128
.
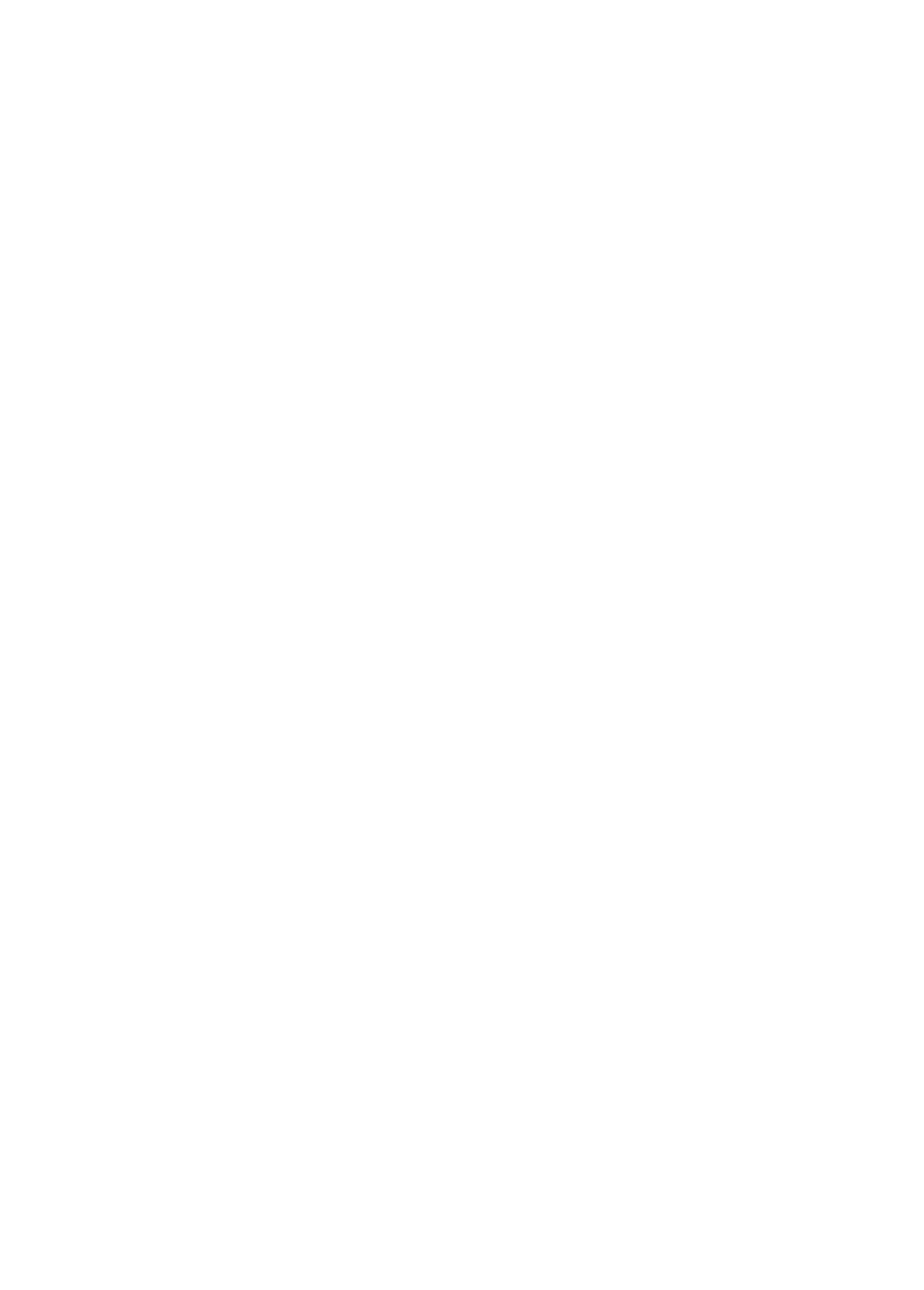
Здесь перед нами тот же случай избыточной емкости формализма, о котором
говорит и Кант. Руководствуясь правилами грамматики и словарем можно
сочинить заведомо больше безупречных с формальной стороны предложений,
чем те, которые допустимы в данном речевом (или любом другом) ритуале.
Предложения типа: «часы завернули на поплавок», «трамвай задумчиво упал
навзничь» вообще, вероятно, будут отвергнуты ритуалом как явно
бессмысленный, хотя и грамматически безупречный набор слов, или, в лучшем
случае, вызовут ту же реакцию, что и замечание Алисы на поэму
«Джабберуоки»: «От этого в голове полно идей, только не поймешь каких.
Одно-то пожалуй, ясно: кто-то убил чего-то» Но это – крайние случаи, а
практически даже самые обычные предложения могут оказаться
осмысленными для одного и бессмысленными для другого ритуала.
Фигура информанта – авторитетной инстанции выбора, которая разлагает
продукты формализующей деятельности на «отмеченные», т.е. обладающие
значением, и «не отмеченные», т.е. по тем или, иным причинам
бессмысленные, играет все большее значение в европейском ритуале и
возникает, по сути дела, на каждом шаге становления знания. Прежде всего эта
природа, которую пытают экспериментами, а она
151
сортирует гипотезы на объективно истинные (отмеченные) и ложные (не
отмеченные). В том же режиме работают обсуждения, собрания
совещания, редакции, рынок и великое множество других инстанций-фильтров,
смысл деятельности которых сводится к пропуску отмеченного и отсеиванию не
отмеченного. Мы не хотим этим сказать, что деятельность любой такой
инстанции столь же авторитетна, как и деятельность природы, которая
выступает абсолютным авторитетом в вопросах объективной истинности, но
независимо от критериев оценки, которыми они пользуются, действие фильтров
имеет тот же смысл, что и слово природы в эксперименте: формализованное
знание либо проходит фильтр и движется к следующему, либо отсеивается и
гибнет.
Важным для нас свойством этой системы фильтров являете её упорядоченность
– каждый фильтр имеет строго определенное место, предшествует одному и
следует за другим. Экспериментальная проверка например, предшествует
публикации, но следует за творчеством гипотез. Упорядоченность инстанций
выбора дает возможность проследить за движением знания не только в пределах
кольца публикаций, где положение более или менее очевидно, но и за
пределами этого кольца, где положение далеко не так ясно.
Здесь, за пределами кольца, мы вместе с Кантом можем допустить
существование трансцендентальной области, которая лежит вокруг кольца как
поле, внешние границы которого очерчены возможностями наличного
формализма вообще, а за этими границами начинается область
трансцендентного, неформализуемого при данном арсенале средств
