Петров М.К. Самосознание и научное творчество
Подождите немного. Документ загружается.


препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-либо услугу
государству. Мы живем свободной политической жизнью в государстве и не
страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни;
мы не раздражаемся, если кто делает что-либо в свое удовольствие, и не
показываем при этом досады, хотя и безвредной, но все же удручающей
другого... Мы сами обсуждаем наши действия или стараемся правильно оценить
их, не считая речей чем-то вредным для дела; больше вреда, по нашему
мнению, происходит от того, если приступить к исполнению необходимого дела
без предварительного
82
уяснения его речами. Превосходство наше состоит также и в том, что мы
обнаруживаем и величайшую отвагу и зрело обсуждаем задуманное
предприятие: у прочих, наоборот, неведение вызывает отвагу, размышление же
– нерешительность... Говоря коротко, я утверждаю, что все наше государство –
центр просвещения Эллады» (Фукидид, История, II, 36 -41). И все же, как бы
ни различались ритуалы Афин и Спарты, они едины в том отношении, что и тот
и другой сотворены, что оба суть «изобретения, – как говорит Протагор,–
славных древних законодателей, и эти изобретения сначала были оформлены в
слове, а затем отчуждены и реализованы в деле, в деятельности людей как
формообразующий момент и высший авторитет этой деятельности. Ни в
доолимлийскую, ни в олимпийскую эпоху такого не было и быть не могло, и
если эти ранние, стихийно возникшие ритуалы считать естественными, то
ритуалы античных времен окажутся по сравнению с ними искусственными
установлениями людей, созданными примерно по тому же принципу, по
которому создатель Платона творит мир: «...взял все видимое, которое не в
покойном состоянии находилось, а в движении – притом в движении
нестройном, беспорядочном, и привел все в порядок из беспорядка, находя что
первый во всех отношениях лучше последнего» (Тимей, 30 А).
Деньги и абстрактный труд. Начало чеканки монеты принято связывать с
именами царей Лидии (Геродот, История, I, 94). Из Лидии этот обычай
распространился в VIII–VII вв. до н. э. на Ионию, материковую Грецию, а затем
на греческие колонии в Италии и Сицилии. К этому времени относится
появление поговорок и афоризмов, подчеркивающих как всесилие денег, так и
разлагающее их влияние на жизнь примерно в том духе, в котором Феогнид
пишет Кирну:
Всех благородных коней мы заводим, ослов и баранов,
Кирн, и для случки мы к ним добрых допустим одних:
Дочь же худую худого женой не гнушается добрый
Сделать своей, лишь бы горсть злата ему принесла.
Так не дивись же, о друг мой, что граждан мельчает
порода.
Плутос царит: это он добрых с худыми смешал.

Как в таких случаях и водится, новое изобретение тут же попытались связать
с олимпийскими именами, но получилось это не очень убедительно: в античном
искусстве так и сохранилась двойственность изображений Плутоса. Чаще он
представлялся младенцем с рогом изобилия на руках богини мира Ирены или
богини случая Тихе, а иногда старцем в кругу Элевсинских божеств – Деметры,
Персефоны, Диониса.
Если изобретение алфавита развязало стихию правового самосознания и
обеспечило отчуждение юридической самодеятельности в успокоенную форму
закона, по отношению к которому свободные оказались в той же позиции, что и
рабы по отношению к свободным, то чеканка монеты стала этой «новой
метлой», которая быстро, хотя и весьма болезненно, смела и выбросила на
свалку истории коросты олимпийских отношений и прежде всего реликтовый
профессионализм. Энгельс писал: «...изобретая деньги, люди не подозревали,
что они вместе с тем создают новую общественную силу – единственную,
имеющую всеобщее влияние силу,
83
перед которой должно будет склониться все общество И эта новая сила
внезапно возникшая без ведома и желания ее собственных творцов, дала
почувствовать свое господство афинянам со всей грубостью своей
молодости»
47
Эта динамическая сторона интересна прежде всего тем, что действие её
распространяется не на всю Грецию. В Спарте деньги запрещены законом, и,
соответственно, именно здесь сохраняются наиболее архаичные формы, тот
олимпийского толка профессионализм, который позволил (о чем уже
упоминалось) Аркесилаю доказать союзникам несправедливость их обвинений
по поводу малочисленности спартанцев (Полиен, Военные хитрости, II, 1). Там
же, где отчуждение не наталкивалось на искусственно возведенные
препятствия, возникала совершенно новая ситуация.
Обвиняя Тимарха в расточительстве, Эсхин так описывает исходное состояние
дел, «…он получил дом за Акрополем, загородное имение, в Сфетте, еще один
участок в Алопеке, кроме того, девять или десять рабов, специалистов по
кожевенному делу, из которых каждый приносил ему ежедневно два обола
оброка, а заведующий мастерской – даже три. Прибавьте сюда женщину,
искусную в выделке одежды из аморгосского льна, которую она сама выносила
продавать на рынок, мужчину-вышивальщика, ряд сумм, оставшихся за
должниками отца и всякую утварь» (Против Тимарха, I, 97). Все это Тимарх
растранжирил, и Эсхин обрушивается на обвиняемого, высказывая попутно
представления афинян о приличном и неприличном: «…у Тимарха не осталось
ничего: ни своего дома, ни сдаваемого внаймы, ни участка, ни рабов, ни денег
отданных в долг, ничего другого, что составляет источник существования для
честных людей» (Против Тимарха, I, 105).

Примерно та же картина разнообразной, мягко говоря, деятельности афинянина
вскрывается и по другим свидетельствам. В одном из дел о наследстве
Демосфен исчисляет имущество: «Отец, граждане судьи, оставил два эргастерия
с рабами высокой квалификации: 32 или 33 оружейных мастера, оцениваемых
один в пять и шесть мин, а другие – не ниже трех мин каждый. Он получал от
них 30 мин чистого дохода в год; 20 кроватных мастеров, заложенных ему за 40
мин, приносили 12 мин чистого дохода, процентные ссуды в размере одного
таланта, данные на условии уплаты одной драхмы, давали одних процентов
свыше 7 мин в год» (XXVII, Против Афоба А, 8).
Сократ, по Ксенофонту, советует Аристарху заняться «полезным для жизни
делом», попутно перечисляя такие дела: «Разве ты не знаешь,что одним таким
занятием, приготовлением муки, Навликид не только себя со своими слугами
может прокормить, но, сверх того, и множество свиней и коров, и столько у
него еще остается, что он и в пользу города может часто исполнять разные
литургии; а печением хлеба Киреб содержит весь дом и живет великолепно.
Демей из Коллита изготовляет солдатские накидки...» (Воспоминания о
Сократе, II, 6).
Ясно, что говорить в этих условиях о специализированной по навыку
деятельности уже не приходится, речь идет скорее о «деловой активности», о
труде вообще, абстрактном труде. Тот же Аристарх, высказав Сократу сомнения
насчет совместимости всех этих «полезных для жизни дел» со званием
свободного человека и получив соответствующее разъяснение, приходит почти
к рождественскому финалу: «… добыли основной
84
капитал, купили шерсти, во время работы обедали, после работы ужинали, из
мрачных стали веселыми» (Воспоминания о Сократе, II, 7, 12).
Как алфавитная письменность стала идеальным средством опредмечивания и
отчуждения договорных отношений, точно так же и деньги оказались
универсальным средством опредмечивания и отчуждения деятельности как
таковой, замкнули спрос, как совокупную общественную потребность, и все
виды практических отношений к миру на отчужденную и независимую от
человека контактную область обмена. Поскольку именно здесь наиболее
удаленный от олимпийской нормы полюс отчуждения, который в силу
подвижности спроса и предложения не поддается полной формализации, то со
времен античности за областью обмена прочно установилась репутация
загадочности. Маркс в «Капитале» несколько раз останавливается на
недоумениях Аристотеля по поводу «хрематистики»
48
, которая никак не желает
укладываться в традиционную схему развития: «начало – середина – конец», и
процент (τοηος от τιητω – рождать) представляется, Аристотелю результатом
взаимного надувательства. «Ибо порожденное подобно породившему, но
процент есть деньги от денег, так что из всех областей приобретения эта –
наиболее противна природе» (Политика, I, 10).

Античность ищет в обмене эквивалент и, не находя его, расстраивается, как и в
новое время по поводу «загадочности определения посредством числа». Вместе
с тем уже в античности сфера обмена, складывающийся рынок дают себя
чувствовать как силы, обновляющие ритуал или, вернее, как силы
благосклонные к любому обновлению и совершенствованию. Отсутствие науки
не дает этой тенденции ходу, и процесс предстает скорее колебательным,
чем поступательным движением, но извлечь пользу из этих колебаний умеет
уже и античность. «Домострое» Ксенофонта раскрывает механику этого
процесса в земледелии: «Мой отец и сам так вел хозяйство, и меня научил. Он
никогда позволял мне покупать землю, хорошо обработанную, а такую, которая
по небрежности ли хозяев или по недостатку средств у них не обработана и не
засажена; такую он советовал покупать» (XX). Приведенная в порядок земля
затем продается и приобретается новый запущенный участок.
В Афинах деловая активность была достаточно высока, и денежные ссуды, как
это видно из приведенных выше данных Демосфена, давались из 12% годовых
(драхма с мины в месяц). Но наиболее выгодным капиталовложением была для
древних война. Одна из грандиознейших финансовых афер этого типа –
строительство Фемистоклом кораблей – имеет самое непосредственное
отношение к генезису культуры, поскольку именно она инициировала цепной
процесс превращений серебра Маронии в строительную лихорадку эпохи
Перикла, в «омертвленный капитал» таких сокровищ, как комплекс на
Акрополе.
По Аристотелю, дело происходило так: «… при архонте Никодеме были
открыты рудники в Маронии, и у города остались сбережения в сто талантов от
их разработки. Тогда некоторые советовали поделить эти деньги народу, но
Фемистокл не допустил этого. Он не говорил, на что думает употребить эти
деньги, но предлагал дать взаимообразно ста
85
богатейшим из афинян, каждому по одному таланту, а затем, если их
расходование будет одобрено, трату принять в счет государства в противном же
случае взыскать эти деньги с получивших их в заём. Получив деньги на таких
условиях, он распорядился построить сто триер, причем каждый из этих ста
человек строил одну. Это и были те триеры на которых афиняне сражались при
Саламине против варваров» (Афинская полития, VIII, 7)
За эти триеры и за это сражение, в котором афиняне в 480 г до н. э разгромили
персов, союзники уже через два года стали выплачивать сначала по 460
талантов, а затем по 600 и даже по 1300 талантов в год. Этот поток «процентов
на капитал» и послужил, собственно, материальной основой расцвета Афин, их
превращения в общеэллинский центр культуры, хотя с чисто экономической
точки зрения эпоха Перикла как высочайший внутренний расцвет Греции
должна бы рассматриваться эпохой невиданного для тех времен омертвления
капитала в сокровищах.
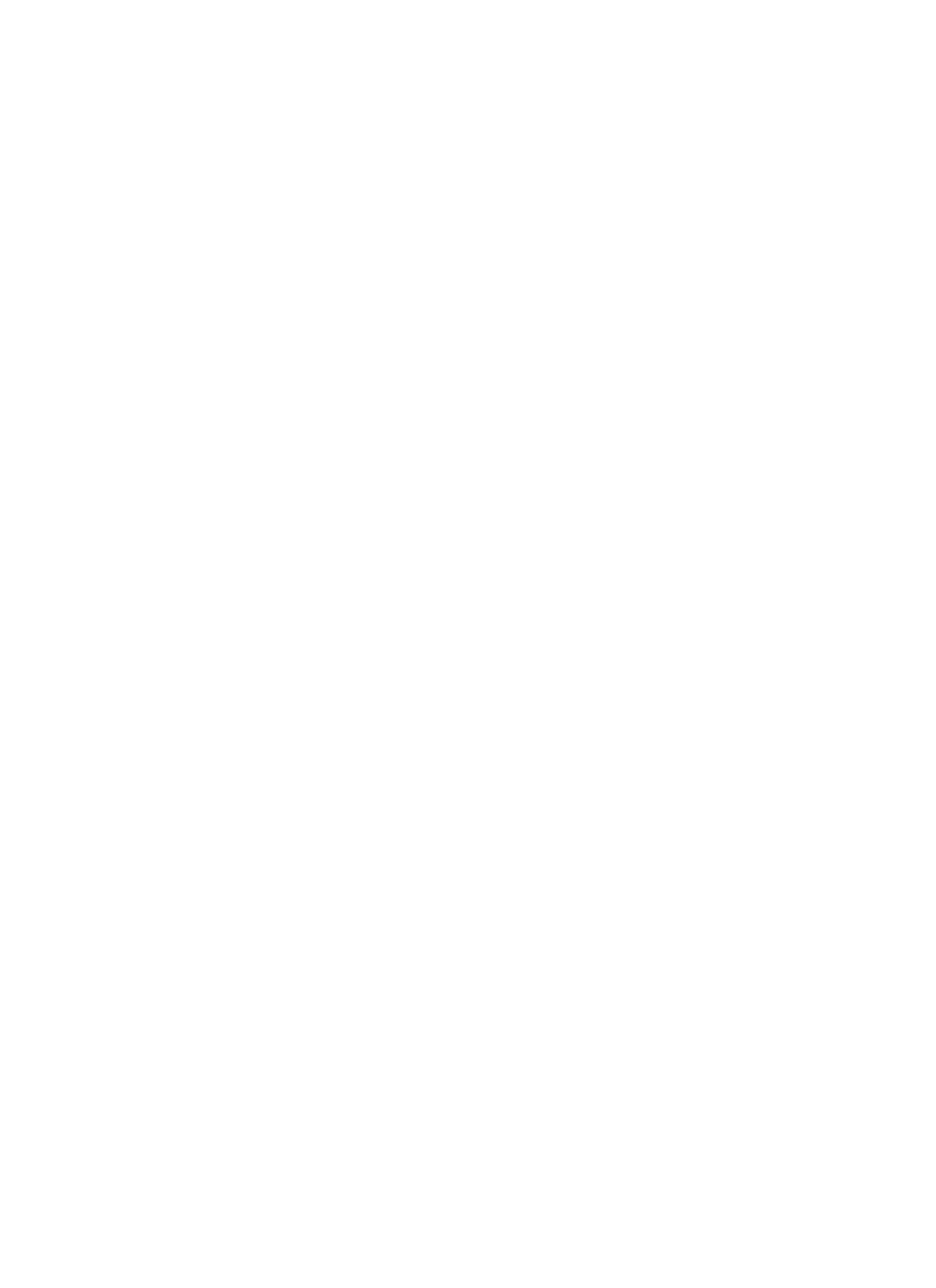
Поскольку эта эпоха наложила ощутимый отпечаток на теоретическое
самосознание, некоторые детали строительной лихорадки мы рассмотрим ниже,
а пока остается отметить частную, но очень важную деталь экономического
отчуждения, которая также связана с Саламином. Во время войны с персами
обстоятельства сложились так, что в 480 г. до н. э афинский ритуал был
временно отменен. Инициатором и исполнителем этой неслыханно смелой
акции был все тот же Фемистокл, он предложил народному собранию принять
постановление, которое начиналось так: «Боги! Постановили совет и народ.
Предложение внес Фемистокл, сын Неокла, из дома Фреаррии. Город вверить
Афине, покровительнице Афин, и всем другим богам, дабы они охраняли и
защищали от варвара страну. Сами же афиняне и ксены живущие в Афинах,
пусть перевезут детей и женщин в Трезену (под покровительство Питфея),
архагета страны. А стариков и имущество пусть перевезут на Саламин.
Казначеи и жрицы пусть остаются на Акрополе, охраняя имущество богов. Все
остальные афиняне и ксены, достигшие совершеннолетия, пусть взойдут на
снаряженные двести кораблей и сражаются против варвара за свободу свою и
других эллинов ...».
Постановление было принято и выполнено. «Когда город уезжал на кораблях, –
сообщает Плутарх, – это зрелище внушало одним жалость, другим – удивление
по поводу такого мужества: семьи свои афиняне провожали в другое место, а
сами, не уступая воплям, слезам и объятиям родителей, переправлялись на
другой остров. Однако многие жители, которых по причине старости оставляли
в городе, возбуждали глубокое сострадание. Какое-то трогательное впечатление
производили сжившиеся с человеком домашние животные, которые с
жалобным воем бегали около своих кормильцев, садившихся на корабли.
Между прочим, собака Ксантиппа, отца Перикла, как рассказывают, не перенеся
разлуки с ним, прыгнула в море и, плывя подле его триеры, вышла на берег
Саламина и тотчас от изнеможения умерла. Там, где показывают и доныне
памятник, называемый «Киноссема», говорят, и находится ее могила»
(Фемистокл, X).
86
Памятника «Олимпосема», под которым лежали бы останки олимпийского
ритуала, не показывают, но в сущности Олимп, подобно собаке Ксантиппа,
доплыл с афинянами только до Саламина и похоронен там под клич,
увековеченный Эсхилом в «Персах»:
Вперед, сыны Эллады!
Спасайте родину, спасайте жен,
Детей своих, богов отцовских храмы,
Гробницы предков: бой теперь за все!

Вернувшись на разграбленную и оскверненную варварами землю афиняне
сначала под давлением обстоятельств пустили гробницы предков и богов
отцовских храмы на стены, а затем, не переводя дыхания, двинулись в новую
жизнь. И если переправляли имущество и стариков на Саламин, детей и жен – в
Трезену и садились на триеры «воевать перса» земледельцы, кузнецы,
плотники, хранители отцовских ремесел, то вернулись в город, построили
новый ритуал и подняли Афины до состояния высшего расцвета уже просто
дельцы – люди, которым безразличен конкретный состав дела, важно лишь,
чтобы это было «полезное для жизни» дело. Срыв преемственности был
полным, афиняне никогда уже не смогли вернуться к прежнему ритуалу, а по их
примеру и под их давлением другие города также начали быстро усваивать
способы извлечения средств к жизни из деятельности вообще.
3. Теоретическое отчуждение
Найденные на почве деятельности, а не в области духа или родового мышления
новые основания устойчивости – документ, который фиксирует договорные
отношения, и монета, которая сочленяет спрос и практическую деятельность с
одновременным измерением того и другого в универсальной шкале
ценностей, позволяли отказаться от олимпийского именного ключа и на любом
из этих оснований выработать ключ новой. Вместе с тем документ и монета
занимают и по отношению к олимпийскому ключу, и по отношению к новому
ритуалу, и по отношению к реальным субъектам деятельности принципиально
различные положения: документ, омертвленное в законе слово, лежит в основе
ритуала как гарант его всеобщей целостности, близкой по функции к
построенной на кровно-родственных связях системе олимпийских имен, тогда
как монета, хотя она и выступает единицей универсальной шкалы ценностей,
в реальном своем функционировании локализована скорее по механизмам
обновления ритуала и к тому же закрыта от наблюдений делом, которое
отдано на откуп рабству.
Даже независимо от последнего обстоятельства пройти к осознанию процесса
ценообразования и связанного с ним механизма обновления было бы
невозможно, не осознав предварительно роли и смысла стабильной стороны
нового ритуала. От Олимпа к «Капиталу» нет каких-либо тропок и обходных
путей, которые позволяли бы, не срываясь в пропасть «нулевых отметок»,
осознать процессы обновления без предварительного уяснения того, что именно
и в каком смысле доступно обновлению, а что остается инерционным моментом
и обеспечивает преемственность процессов изменения.
87
С этой точки зрения реально возникающие в античную эпоху формы критики
Олимпа, их явное тяготение к «слову» и умопостижению, сравнительно

поздний, не ранее Аристотеля, выход к механизму ценообразования с
последующей резкой перекристаллизацией олимпийского космоса в систему
«христианского миропорядка», выглядят и формами и последовательностью
естественными, даже необходимыми: каждый последующий шаг или, по более
привычной для философа терминологии, исторический момент этого
движения предполагает уже совершенными все предыдущие шаги. И хотя было
бы явным насилием над фактами утверждать, что все в этом движении столь же
гладко и закономерно, как в переходе от желудя к дубу, многие отходы этого
процесса (тропы скептиков, аргументы атомистов от ритуала, диалектика
гармонии и меры Гераклита и т.д.) будут в свое время подобраны и
употреблены в дело, в целом процесс все же предстает как насыщенная
логической структурой история в духе Гегеля. И происходит это прежде всего
потому, что мост между Олимпом и новым ключом культуры положен в
области слова, в области логики.
Критика Олимпа и движение к новой модели мысли совершаются в двух
основных формах: в художественной и философской. Обе формы
взаимосвязаны, обеспечивают друг друга и материалом и новыми точками
зрения, но ориентированы они по-разному. Художественная связана больше с
задачей негативной, с «отстранением» традиции – стаскивает, так сказать,
Олимп на арену явлений, и уже здесь, на просцениумах театров, на метопах и
фронтонах храмов искусство пытается освободиться от олимпийских пут.
Форма философская перестраивает Олимп в лесах умопостижения, во многом
используя продукты искусства в качестве материала для умозрительных
построений, для поиска, разрушения и перестройки универсальных связей.
Искусство. Если попытаться определить общую линию перехода олимпийской
семиотики в европейскую, в то, что мы по традиции называем искусством, то
основную тенденцию этого перехода можно бы назвать раскрепощением знака
и его специализацией по ходу перестройки семиотики в каноническую форму, в
которой уже в более чистом виде запрета на плагиат реализован ведущий
принцип и текста и пиратского ремесла: не повторяться, а следовательно, и
производная его деталь – неполный формализм, наличие творческой вставки,
требующей индивидуального творческого усилия для вывода продукта на
феноменологический уровень трагедий, статуй, храмов и т. п. Очень хорошо
эту особенность искусства подметил Аристотель, когда он сравнивал
историю и поэзию: «...историк и поэт отличаются друг от друга не тем, что один
пользуется размерами, а другой нет; можно было бы переложить в стихи
сочинения Геродота, и тем не менее они были бы историей как с метром, так к
без метра; но они различаются тем, что первый говорит о действительно
случившемся, а второй – о том, что могло бы случиться. Поэтому поэзия
философичнее и серьезнее истории: поэзия говорит более об общем, история – о
единичном (Поэтика, 1451 а).

Если бы речь шла специально о поэтическом искусстве, мы могли бы сказать,
что становление и развитие поэзии есть такое переосмысление и такая
трансформация мифа, в которой возникает канон-понятие поэтического
мастерства, а вслед за ним и резкая переориентация
88
с мифа на историю, на действительную жизнь в новом ритуале. Но то же можно
было бы сказать и о живописи, скульптуре, драматургии, литературе и обо всех
вообще видах искусства. Все они как бы продукты единого семиотического
взрыва, существующие на различенных обломках того, что было когда-то
целостностью, и развитие их протекает по одинаковой «формуле»: миф – канон
– новый ритуал, причем только с появлением канона и через канон искусство
входит в контакт с философией как с каноном канонов – всеобщей формой
социального самосознания.
Единство всех искусств по генезису было бы доказать не так уж сложно; мы до
сих пор живем в атмосфере семиотического взрыва, и многие осколки
олимпийской семиотики прочно сидят в нашем ритуале. Стоит, например,
произойти чему-нибудь великому, как мы тотчас забываем наш европейский
скепсис и начинаем совершать бессмысленные с точки зрения европейца
поступки: ставим обелиски, монументы, развешиваем мемориальные доски и
вообще переходим на язык анаглифики, который был необходим и понятен
олимпийцам, но выглядит полнейшим атавизмом в европейском ритуале.
Вместе с тем тезис некого единства всех искусств порождает примерно тот же
комплекс трудностей, что и анализ политического самосознания под формой
спада, дезактивации реального самосознания в законе. Возникает та же
трудность: перед поликлетами, еврипидами, алкеями должны обнаруживаться
титаны искусств, к тому же титаны-универсалы, одинаково хорошо владеющие
всеми видами формализмов, которые впоследствии отпочкуются в
самостоятельные искусства.
Здесь требуется уточнение ограничивающего толка. Применительно к
политическому самосознанию мы могли указать на карликовый ритуал, этот
исходный динамический стереотип социальности. Здесь, видимо, тоже
требуется отыскать ту исходную форму «активного» искусства, которое как
эстетическое или эстето-философское самосознание будет успокоено в каноне
примерно тем же способом, каким политическое успокаивается в законе. И если
проблема ставится именно в этом плане, титанов эстетического самосознания и
отыскивать не надо, это – те «мудрецы», которых древность упорно сводила в
«семерку», в эллинскую сборную мудрости.
Со времени Платона, в мудрецах числят обычно Фалеса Милетского, Питтака
Митиленского, Бианта из Приены, Солона, Клеобула Линдийского, Мисона
Хенейского, Хилона из Спарты, иногда к этой семерке причисляют Периандра
Коринфского, Эпименида Критского и др. Уже в древности делались попытки
понять «мудрость» как способность произносить краткие изречения,
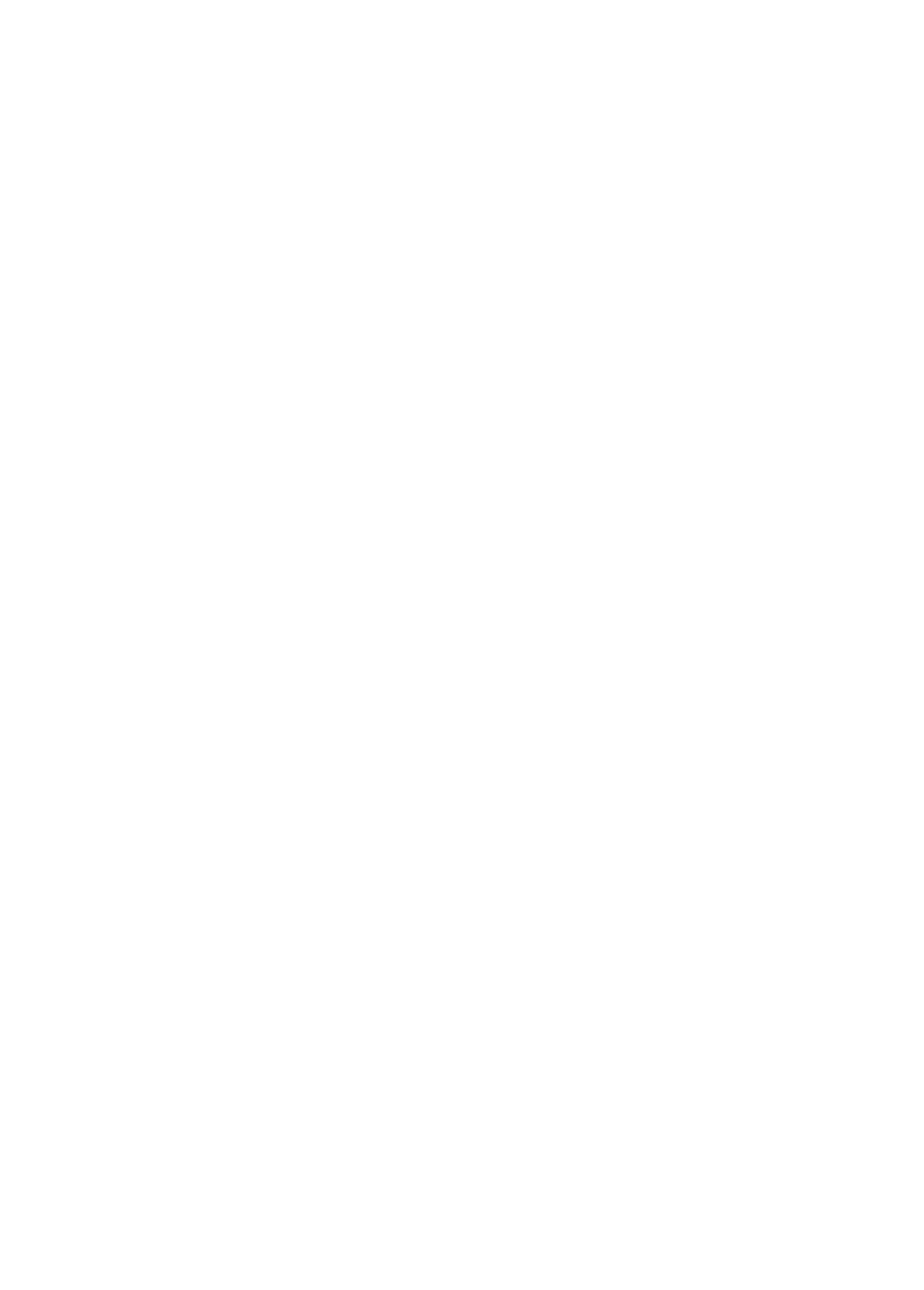
«лаконствовать», как говорит Сократ: «… но вдруг, в любом месте речи, метнет
он, точно могучий стрелок какое-нибудь замечательное изречение, короткое и
сжатое, и собеседник кажется ничуть не лучше ребенка» (Платон, Протагор, 342
Е). Но обычно все же то понимание, которое связывает с мудрецами Плутарх:
«Вообще, по-видимому, Фалес был тогда единственным ученым, который в
своих исследованиях пошел дальше того, что нужно было для практических
потребностей, все остальные получили название ученых за свое искусство в
государственных делах» (Солон, Ш).
В самом деле, даже если не говорить о законодательной или в широком
89
смысле государственной деятельности этих людей, то всех их отличает от
выдающихся людей более позднего времени, как художников, так и философов,
практическая целеустремленность, творчество не вообще, а ради решения
конкретных задач или, как мы сказали бы сегодня, гражданственность и
партийность, несовместимые с аполитичностью, чего невозможно сказать о
более поздних периодах профессионального развития искусства. В наше время
точных и строгих понятий, когда даже манекенщица из Дома моделей,
демонстрируя «мини», может в телеинтервью не моргнув глазом заявить, что
главное в ее деле – партийность и интуиция, говорить о том, что искусство в
развитой форме не преследует позитивных целей, даже как-то неловко: обидеть
можно если не деятелей искусств, то искусствоведов.
Дело здесь, видимо, даже не в смысле, а в принципах применения терминов.
Если они употребляются осмысленно, в них должен содержаться инерционный
функциональный довесок, если же принцип употребления терминов иной, то
последнее не обязательно. Еще Марк Аврелий выражал беспокойство по поводу
падения гражданственности в искусстве: «Первоначально трагедии должны
были напоминать зрителям о том, что известные события по природе
происходят известным образом, и о том, что развлекающее их на сцене не
должно быть тягостным для них и на большой сцене – в жизни... После
трагедии появилась древняя комедия, нравоучительно откровенная и самой
резкостью своей полезная для обличения тщеславия. Для этой цели и Диоген
кое-что заимствовал из неё. Подумай же теперь, в чем существо появившейся
затем средней комедии, и для чего, наконец, была введена новая, перешедшая
мало-помалу в мимическое искусство. Никто не станет отрицать, что и здесь
можно найти кое-что полезное. Но какую цель преследует все это направление
поэтического и драматического творчества? (Наедине с собой, IX, 6)
Если подойти к генезису искусства с учетом соотношения утилитарного и
эстетического моментов, то, видимо, придется признать, что до какого-то
времени утилитарный момент предшествует эстетическому и должен
рассматриваться ведущим, а момент эстетический носит подчиненный и
факультативный характер, выявляясь то по одному, то по другому
эстетическому ведомству, в зависимости от обстоятельств. И лишь много позже,

по связи с разложением профессиональной матрицы ритуала, соотношение
утилитарного и эстетического меняется на обратное, а различные виды
искусства формируются в различенные канонические виды деятельности.
Исходные моменты этого движения, как и его материал, видны довольно
хорошо: творческая вставка пиратского ремесла, прогноз и те нагруженные
функцией кубки, кратеры, рисунки на щитах и доспехах, которые, подобно
собакам у дворца Алкиноя, стоят на страже ритуала:
Две – золотая с серебряной – справа и слева стояли
Хитрой работы искусного бога Гефеста собаки
Стражами дому любезного Зевсу царя Алкиноя:
Были бессмертны они и с течением лет не старели
(Одиссея, VII, 91–94)
Сравнивая деятельность мудрецов с деятельностью героев Гомера, мы видим
значительное смещение установок: «теперь» ситуации продолжают оставаться
конечными, и решения по-прежнему мыслятся по типу «все или ничего»,
90
но и сами «теперь» ситуации становятся более сложными, а цели более
отдаленными, и усложняется рисунок решения. Вместе с тем утилитарные цели
продолжают и здесь определять выбор средств и подходов. Солон, например,
пишет стихи, но поэзия для него не есть самодовлеющее занятие, «поэзия для
поэзии», а только одно из средств решения вполне конкретных ситуаций; он и
ответы критикам пишет стихами и даже законы пробовал, по преданию,
изложить в форме поэмы (Плутарх, Солон, III).
В отличие от деятелей более позднего периода, которые, как и художник, и
ученый нашего времени, вряд ли смогли бы ответить на поставленный в лоб
вопрос: «Зачем Вам это?», мудрец никогда не затруднился бы ответом.
Проблема «Саламин», например, решается Солоном с завидным многообразием
художественных приемов. Когда приунывшие от неудач афиняне запретили
вообще упоминать о Саламине, Солон идет на синтез искусств. «…он
притворился сумасшедшим; из его дома по городу распустили слух, что он
выказывает признаки умопомешательства. Между тем он тайно сочинил стихи,
выучил их, чтобы говорить их наизусть, и вдруг бросился на площадь с
шапочкой на голове («с шапочкой на голове» для тех времен примерно то же,
что для нас «с градусником под мышкой». – М. П.). Сбежалась масса народа.
Солон, вскочив на камень, с которого говорили глашатаи, пропел
стихотворение. Это стихотворение носит название «Саламин» и состоит из ста
стихов; оно очень изящно» (Плутарх, Солон, VIII).
Но, кроме этой поэтико-комедийной формы, Солон использует для решения
проблемы и фарс с переодеванием юношей в женщин, и инсценировку
жертвоприношения, и ссылку на Гомера, и аргумент от этнографии, и многое
